Текст книги "Властелин Урании"
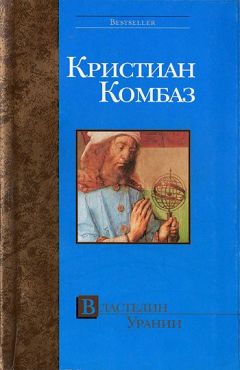
Автор книги: Кристиан Комбаз
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц)
Судьи в Хельсингсборге без колебаний объявили, что правота не на его стороне, И верховный суд два месяца спустя это подтвердил. Ему было предписано возвратить Педерсену все его документы без дальнейших проверок. «Увы, – сказал Сеньор, – я и помыслить не мог, что у бургомистра Роскилле столько влияния на приближенных королевы, на Хака Ульфстанна (одного из судей) и на Парсберга (погубителя его носа). Впрочем, это не важно, у меня остаются наука и слава моих трудов. Настанет день, когда будущий государь воздаст мне должное».
Да я-то видел, что, несмотря на всю эту отрешенность, он плетет интриги, пытаясь обойти препятствие.
Это случилось, когда нас покинул Христиан Йохансон. Мы смотрели вслед кораблю, увозящему его к берегам. Cкании: все собрались на галерее второго этажа – Лонгомонтанус, юный Тюге, возвратившийся из академии Серо, да еще один датчанин, уроженец острова Мён, волосатый брюнет» одетый, как молодой священнослужитель, за исключением лишь пояса цвета голубиного горлышка. Звался он Мунтером, а здесь священнодействовал в роли нового наставника сыновей Браге. Над старшим из них он подтрунивал, ибо юноша страдал любовным недугом. Служанка Софии, в которую Тюге, по его словам, был без ума влюблен в Прошлом году, когда его отослали в Сканию, на время разлуки была забыта: он проникся чувством к Ливэ и пылал вплоть до возвращения, ибо сердце его не терпело праздности. Этот парень вел непрестанную борьбу со злополучной страстью, чем немало раздражал отца, который, впрочем, давал понять, что предпочитает ему своего второго сына Йоргена, который был на два года моложе, столь же строптив и непоседлив в учении, а одарен и того меньше. Их наставники часто сменялись, как обычно бывает, когда отцы слишком тщеславны, чтобы усомниться в способностях своих детей.
Потомки Тихо Браге не унаследовали гениальности родителя, что в корне противоречило его планам. Без духовного превосходства им было невозможно занять в обществе положение, соразмерное отцовскому. Им, рожденным от простолюдинки, никак иначе не возвыситься. Оставшись такими же глупыми, как она, сыновья ничего не достигнут. Итак, за исключением дочери Магдалены, которая его обожала, хотя он отвечал на это полным безразличием, все дети Сеньора оказались на стороне матери. Они питали к ней самую нежную привязанность, выказывали явственное презрение к астрономическим расчетам, назло притворялись будто занимаются искусством, и ужасно любили музыку за то, что отец ее не выносил.
Вот почему его оскорбляли мои таланты, хоть ему то и дело приходилось прибегать к их помощи. В тот день в его взгляде, свободном от малейшего проблеска доброты, я прочел любопытство и смекнул: он что-то задумал.
«Ты ничего не потерял? Какое-нибудь приспособленьице, которое тебе пригодилось бы, чтобы созерцать даль?»
Я был всецело во власти печали, глядя вслед уплывающему Христиану Йохансону, который сумел облегчить мой страх перед Господином, открыв мне, кроме некоторых сокровенных черт его характера, историю его детства.
Сам-то он узнал ее от старины Хафнера. Наперекор стоявшей между ними полувековой разнице в возрасте Христиан Йохансон был в самой сердечной дружбе с нашим управляющим. К тому же именно смерть старика побудила его оставить наш остров. Вместо того чтобы удерживать, Сеньор снабдил его самыми горячими рекомендациями и направил в Виттенбергский университет, словно и в нем видел неудобного свидетеля своей жизни, которого лучше удалить (по крайности, если не считать симпатии Христиана к учению Коперника единственной причиной их расхождения).
Незадолго до того, узнав о нашем добром согласии и столь же добром соседстве на четвертом этаже Ураниборгского дворца, хозяин нас разлучил, отправив меня жить в павильоне со слугами. Но помешать разглашению секрета было уже поздно – я успел узнать от Христиана горько печалившую господина Тихо, хотя он в том не признавался, тайну его детских лет: в самом нежном возрасте Сеньора оторвал от родного очага его дядя Йорген Браге, который не мог иметь наследника и не сумел договориться со своим братом Отто насчет взаимно приемлемых условий усыновления. Он нанял головорезов, те захватили Ребенка в Кнутсторпском дворце, и он растил его так, чтобы по собственному образцу привить мальчику страсть к охотничьей потехе и прелестям служанок. (Потому-то все и вышло наоборот.)
– Так что же, – настаивал Сеньор, уперев руки в бока и меряя меня таким взглядом, как будто я был его псом Лёвеунгом и он застал меня выходящим из кладовой, – ты не думаешь, что тебе кое-чего недостает?
– Да, правда, – отвечал я без промедления. – Я забыл очки немца во флигеле типографии.
– Тогда что же они делали на Лаэбринкском берегу, где я их обнаружил?
С этими словами он протянул мне очки, но сделал вид, что колеблется, отдавать ли.
– Бедняга Густав мог их там оставить после того, как он их у меня украл, – сказал я, тотчас водрузив очки на нос.
Я притворился, будто вглядываюсь вдаль, смотрю в северную сторону, потом в южную, скольжу взглядом по медной кровле, созерцаю берег Скании, что тянется до мыса Куллен, сам же думал о том, что мне поведал Рюдбергов слуга. Тут-то, чтобы скорее покончить с разговором об очках, я вдруг воскликнул: «Знайте, что граф Рюдберг подкупил арендатора в Куллагоре, он нарочно забывал зажигать доверенный вашему попечению маяк, чтобы это приводило к кораблекрушениям! Этот человек, желавший нарушить ваше счастливое согласие с покойным королем Фридрихом, не заслуживает доверия, коего вы и поныне удостаиваете его!»
Вместо того чтобы обругать меня за дерзость, он промолчал. Потом сказал:
– Кто еще, по-твоему, хотел бы навредить мне?
– Геллиус Сасцеридес! – выпалил я без колебаний.
Увы, он подозревал, что я ненавижу этого человека с тех самых пор, когда тот замышлял отделить меня от моего брата. А я-то говорил не столько о прошлом, сколько о грядущем. Я возвестил ему, что Геллиус окажет самое погибельное влияние на его жизнь «вплоть до самого конца».
Упоминание о конце его жизни произвело на хозяина сильное впечатление, тем паче что за ним последовало явление весьма необычное. Я не был к нему причастен, хотя позже он заподозрил, что. это все вызвано моими дьявольскими штучками.
Меж тем как наставник Мунтер и Лонгомонтанус болтали с Сакалем, стоявшим внизу; возле колонны, на которую опиралась галерея, я, поправляя очки у себя на переносице, указал хозяину на море, даль которого расстилалась у него за спиной, и спросил: «Вы видите то, что вижу я?»
Бенте Нильсон меня предупреждала, что из вод Эресунна всплывают порой призрачные земли. Но это видение превосходило ее рассказы своей невероятной отчетливостью.
Перед нашими глазами явился другой остров. Было ясно видно, что он не примыкает к берегам пролива и отстоит от нашего берега по меньшей мере на три фьердингвая. Город, что можно было различить на нем, не походил на Копенгаген. Его порт словно бы окружали покатые холмы, окутанные снеговым покрывалом, а ведь у нас стояло лето. Но главное, что поражало, – это число, размеры и вид кораблей, ведь некоторые из них были лишены мачт, притом очень многие по своей длине раз в десять превосходили даже самые большие суда королевского флота. А у одного даже была светящаяся летна на румпеле. Другие сигнальные огни плавали в ясном небе над кровлями.
– Что это? – пробормотал Сеньор.
– Я об этом знаю не больше вашего, но если вы тоже это видите, значит, мне не примерещилось.
– Лонгомонтанус, Сакаль, что вы там видите?
– Ничего, господин.
– Я же внизу, – напомнил Сакаль.
– Корабль вдали, – сказал Лонгомонтанус.
– Черт возьми! Да их там добрая сотня! – отозвался хозяин.
Он стал скликать свою челядь, приказал поднять трех лакеев с постели – все напрасно: никто, кроме нас двоих, ничего не увидел. Сеньора это сильно взбудоражило. Местное предание гласило, что подобные видения – мрачное предвестие, и наша судьба это подтвердила, так как на острове появилась чума.
Возможно, та эпидемия была и не чумной, но вокруг нее объединились все мрачные пророчества. Труп старого Ассарсона предали огню, потом сына Ольсена, Элиаса, постигла та же участь, а жена Элиаса бросилась вниз со скалы Гамлегор. Их четверо детей умерли почти одновременно. Вдова Ассарсона с помощью единственного сына, который еще держался на ногах, на носилках принесла к ограде Ураниборга своего последнего больного. Несчастных гнали прочь, страшась их недуга, но они все возвращались.
София Браге не послушалась брата. Она вышла без сопровождающих, чтобы поодаль, на развилке дорог, оказать им помощь. Увы, все было напрасно: и ее мышьяки, и советы Ливэ. Она никого не смогла спасти. А поскольку Сеньор боялся, что она и ее служанка могут теперь занести в дом заразу, София приказала снарядить ее корабль и покинула остров.
Впрочем, Господин и сам собирался сделать это вслед за ней. Он решил бежать в Копенгаген под предлогом, будто ему не терпится повидать своего старшего сына, чтобы затем повезти его во Франкфурт к своему доброму знакомцу, владельцу типографии Хесселю.
Поселяне не могли простить ему этого намерения бросить их в беде, даром что от задуманного бегства ему пришлось отказаться. Подошло время отплытия, и вот накануне намеченного дня он узнал, что каталог Лонгомонтануса насчитывает 666 звезд, а ведь это – звериное число Апокалипсиса! Столь зловещее предзнаменование вынудило его воздержаться от путешествия. Он остался: затворился в библиотеке и сосредоточился на надзоре за своим сыном Йоргеном, дабы побудить последнего к более ревностным занятиям, мне же, опасаясь, как бы мое присутствие не навлекло новых бедствий, поручил вместе с Сакалем и лакеем Хальдором отправиться к Софии. Браге в Копенгаген, где нас ждал его старший сын Тюге; оттуда нам полагалось двинуться во Франкфурт, куда он дважды в год посылал своих людей, дабы закупать книги. Он заблаговременно известил о моем прибытии, пообещав владельцу типографии Вильгельму Хесселю, что тот сможет сам испытать дивные возможности моей памяти. В последнюю минуту он велел также передать письмо его сыну Тюге, и мы отправились во Франкфурт вместо него.
Итак, прохладным осенним утром мы покинули Копенгагенский порт и по серебристой морской глади двинулись к Ростоку. Юный Тюге Браге, по обычаю академии Серо с ног до головы одетый в черное, напустил на себя победоносный вид и, видимо, наслаждался этим путешествием. Он весело расточал мне знаки своей дружбы и заставил пообещать, что я не стану рассказывать его отцу о любовных шашнях, которые он не преминет заводить во время пребывания в Германии. В конце концов он заверил, что сумеет избавить меня от бремени моего нынешнего положения. Когда? Как только устроится его собственная судьба.
– До этого вам еще далеко, – возразил я. – И мой жребий меня не тяготит.
– Прикинь только, какой барыш тебе будет от твоего братца-нетопыря, если выпадет развлекать какого-нибудь принца.
Лишенный возможности обеспечить себе положение в обществе собственными силами и достоинствами ума, юный Тюге с вожделением завистника взирал на чужие богатства. То, что его отец с таким нескрываемым презрением относился к владельцам земель и всякого добра, распаляло дерзость сына, который был не прочь и в этом выказать свое отличие от родителя. Он расписал мне существование, ожидающее меня в случае, если я постараюсь приобрести достаточно пристойные манеры, чтобы быть представленным к германскому императорскому двору. Тамошние принцы славились своей любовью к разным диковинам. Брат Рудольфа, Фердинанд Тирольский, жил в окружении целой армии карликов и великанов. Рассказывали, будто он вывез из Португалии и поселил в своем дворце в Инсбруке семейство людей-львов, чьи тела и даже лица сплошь покрыты шерстью. Их дети в своих белых воротниках походили на котят, украшенных бантами, – так рассказывал покойный друг его отца, французский посол Дансей, видевший их в свои юные годы. Я прервал его живописный рассказ, чтобы сообщить, что не стремлюсь покинуть остров.
– Неужели ты хочешь провести всю жизнь среди этого отребья?
– Я хочу сохранить уважение моего господина.
– А ты уверен, что оно того стоит?
– Оно стоит той цены, которую я за него даю.
– Мой отец смеется над тобой и твердит: «И как мне в голову взбрело сохранить жизнь этому демону, не знаю, что с ним теперь делать, он мне противен!» Да, он в точности так говорил о тебе моей матери.
Его слова ранили мое сердце. Чтобы заклясть тщетную досаду от сознания, что хозяин не любит меня, я решил сам любить его. Усталость, заставлявшая его снимать свой нос, чтобы подышать вволю, наполняла меня сочувствием. Когда наши глаза встречались, из моего взгляда он причащался той мере братского понимания, что не ведает неравенства, сколь бы он ни превосходил меня как мудростью, так и положением. Право слово, мне казалось, что мое присутствие постоянно необходимо ему. Ведь мое физическое безобразие намного превосходило его собственное, и я отвлекал на себя жалость его гостей. Если я восхищался им, если боялся за его жизнь, с беспокойством прикидывал, насколько ему доверяют при дворе, и трепетал за судьбу его трудов, то вовсе не потому, что от этого зависела и моя участь. Его, сын, казалось, вдруг понял это:
– Ты что же, любишь его?
– Как можно не чтить того, кто даровал тебе жизнь?
Меня бы стоило отхлестать за такую дерзость, но он и не подумал поднять на меня руку. Он стыдился той ненависти. Которую внушал ему его родитель. Грубость Тихо Браге в отношении своей жены, презрение, что он питал к невеждам, равнодушие, с каким он третировал своих дочерей, и требовательность, которой он изводил сыновей, – все это возмущало Тюге. Но он прислонился затылком к мачте судна, которое стонало и поскрипывало под крики чаек, поглядел, полуприкрыв веки, на белеющие в первых утренних лучах берега Германии и с надменной иронией поблагодарил меня за то, что я, вознося молитвы за его отца, тем самым освобождаю его от сей заботы.
После медлительного плавания по огромной реке мы добрались до Ростока. Нас встретил Геллиус Сасцеридес, хотя никто не предупреждал, что он окажется здесь. Мерзавец, все еще наподобие петуха наряженный в зеленое, красное и оранжевое, получил от Тихо Браге изрядную сумму вкупе с поручением обеспечить наш переезд во Франкфурт, к владельцу типографии Вильгельму Хесселю.
Геллиус жил в том необъяснимом достатке, каким располагают предатели. Обитал он возле Ростокского порта в низеньком доме, крытом желобчатой черепицей, рядом с двумя голландцами того же возраста. Один из них, художник по стеклу, по уши влюбленный в свою молоденькую любовницу-немку, без конца ласкал ее. В его мастерской было столько роскоши и многоцветья, что я наглядеться не мог.
Здесь, в окружении алхимических печей, стеклянных трубок, сосудов, заполненных доверху свинцом, медью и сурьмой, среди кислых испарений, в чьих облачках играли лучи восходящего солнца, где вонь смешивалась с запахом пота, которым обливались подмастерья, нас посетил Эрик Ланге, нареченный Софии Браге. Крайне подавленный безденежьем, раздраженный, он, по-видимому, был осужден закончить в этом городе свои дни, наезжая в Данию не иначе как по случаю, урывками, коль скоро надобность вечно удирать от кредиторов мешала ему жить в свое удовольствие.· На жизнь он зарабатывал, скитаясь по всей северной Германии, где пускал в ход свое умение приготовлять целебные составы и давал любознательным богачам из Ростока и Дрездена уроки алхимии.
Не знаю почему, а только он, похоже, отлично понимал чего ради Геллиус Сасцеридес согласился вместе с нами отправиться во Франкфурт. Я же со своей стороны догадывался, что он его подозревает в желании навредить моему господину, в душе одобряет эту интригу, но не хочет ничего знать о ней.
Между тем Геллиус во все время путешествия, которое продолжалось целых четыре дня, изображал из себя весельчака и был даже забавен. Запросто, накоротке вел себя с трактирщиками – я видел, что на каждом новом ночлеге он все бойчее налаживает с ними дружбу. Приметив уныние юного Тюге, он заверил парня, что вовсе не склонен «мешать молодости предаваться присущим ей страстям»: следовало понимать, что во Франкфурте, как только мы там окажемся, сыну хозяина вольно пропадать, сколько вздумается, в постелях служанок – отцу ничего об этом не расскажут.
Сверх того за время пути Геллиус в полной мере просветил меня насчет Коперника. К той минуте, когда нашему взгляду предстали горы, обступившие Франкфурт, и те величавые лесные ландшафты, каких мои глаза еще не видывали, память моя по его милости уже была начинена всеми противоречившими друг другу теориями касательно небесных сфер, начиная от Кикета Сиракузского и Гераклида Понтийского.
Он мне также сообщил, что у Вильгельма Хесселя, владельца типографии и друга Тихо Браге, нас ждет встреча с чрезвычайно учеными людьми. Один из них, итальянец Иорданус Брунус, которого Филипп Ротман, математик ландграфа Гессенского, всегда называл поистине великим человеком, наделен памятью, чуть ли не превосходящей мою если сие возможно.
На беду, сам Ротман, тот, кому я был обязан своими очками, кто проявил ко мне сострадание, когда все прочие еще взирали на меня с отвращением, не мог встретиться с нами во Франкфурте, он уже давно тяжко хворал. Сеньор при мне уточнял, что Ротман страдает французской болезнью, и это в его устах звучало так, словно бы убежденность в правоте Коперника стала причиной порчи нравов, погубившей несчастного.
Для Геллиуса Сасцеридеса не было тайной, откуда у меня появились очки. Он знал, как я восхищаюсь Ротманом, который ткет нити своей памяти и цветные ленты к плащу прицепляет с изнанки. Итак, он постарался уверить меня, что Ротман чрезвычайно высоко ставит итальянского философа, которому он собирался меня показать во Франкфурте, того самого Джордано Бруно, с которым мы и впрямь увиделись, как только прибыли, посетив его на дальней городской окраине, где он жил в доме старого сторожа монастыря кармелитов. Близкое соседство обители было ему необходимо на случай, ежели потребуется убежище, ибо он истощал терпение Церкви, преступая в том разумные пределы, и жил теперь, объявленный вне закона.
«Мое дорогое дитя, – сказал мне итальянец при встрече, – я наслышан о твоих талантах; в этом городе мне нельзя задержаться, но настанет день, и я навещу твоего господина Тихо Браге, если он согласится меня принять и если зависть, коварство моих врагов и хитрости всех тех суетных невежд, что мешают философии прокладывать свой путь на земле, не воспрепятствуют моей встрече с тем, чей дух столь возвышен и благороден».
С той поры, как Сеньор позволил мне присутствовать на его диспутах об астрономии, я научился понимать латинскую речь, благо знакомство с «Эмблемами» Альциато помогло мне постигнуть ее законы и пользоваться ими. Но в устах Джордано Бруно этот язык звучал на итальянский манер, он гнусавил, почти как мой господин: «де революционнибус орбиум челестум. Де квиннтупличи сфера»,[17]17
«Де революционнибус орбиум тшелестум. Де квиннтуплитши сфера» (de revolutionibus orbium chelestum [правильно: celestumj. De quintuplichi [правильно: quintuplicij sphaera» (лат.) – о вращении небесных кругов, о пятикратном умножении сфер.
[Закрыть] да еще и распространялся то о глупости Аристотеля, то о людском злонравии, словно опьяненный собственным красноречием встряхивая крупной головой на нежной цыплячьей шее.
Был он тощ, весь в черном, с громадным черепом, туго обтянутым кожей. Виски его провалились, щеки тоже, из-за этого даже казалось, будто перед тобой лик мертвеца. Черные настороженные глаза, сверкая на этом изможденном лине, делали его похожим на кота, который сомневается – не пора ли удирать. Нос его, тонкий и кривой, как сабля, так привлекал взгляд, что мог бы тем самым оскорбить моего господина, хотя, сказать по правде, это было бы весьма безобидное оскорбление, ежели сравнить с теми, которые ему впоследствии еще предстояло изрыгнуть.
В первый вечер, когда мы с ним вместе сидели за ужином (наша компания потом заночевала там же, в обители кармелитов), он, склонясь над моим братом-нетопырем, завел туманную речь о кентавре Хироне, которого, по его выражению, «весьма уместно уподобить моему седоку, похожему на упряжь, сделанную из клочка кожаных кюлот, нашитого поверх камзола». Потом он прозвал меня «ослом Меркурия», примиряющего противоположности. Насчет Меркурия он мне пояснил, что это бог-посланец, вечно связующий существа и явления тонкими узами, будь то хотя бы и узы памяти. Его слова на меня сильно подействовали, причиной тому была статуя Меркурия, недавно содранная с купола Стьернеборга, причем сделавший это герцог Брауншвейгский, господин властительный и злобный, наперекор своему обещанию так и не выслал нам копию.
В конце концов Джордано Бруно, пожелавший, чтобы его называли Ноландцем, коль скоро он прибыл сюда из итальянского города Нолы, замороченный собственными речами, стал проклинать разом и религию папистов, и протестантскую. Когда же Геллиус, смеясь, напомнил ему, что он здесь находится под покровительством кармелитов, Бруно поклялся, что не побоится хоть сейчас повторить свои слова в лицо самому настоятелю ордена.
Потом он отпустил грубую шутку по адресу юного Браге, задремавшего на дальнем конце стола. Он выразил сомнение, способен ли отец этого парня веровать хоть во что-нибудь, и заявил, что для Тихо Браге существует лить одно божество – собственная персона. К тому же последний не ответил ни на одно из его многочисленных писем, самые ранние из которых он отправлял еще из Англии через посредство французского посла Дансея. (Я как раз накануне из рассказов Тюге узнал об этом человеке ~ том самом, что видел португальских детей-котят при дворе Фердинанда Тирольского.) Бруно уточнил, что познакомился с ним еще в юности, при дворе французского короля Генриха III, Дансей «вполне разделял вкусы своего монарха, имевшего пристрастие к той дичи, что в шерсти».
Со своей стороны, Бруно заверил нас, что сам он предпочитает дичь в перьях, причем скорчил умильную физиономию и отвесил галантный поклон супруге хозяина дома, владельца типографии Вильгельма Хесселя.
Те первые письма, с коими Джордано Бруно обращался к Тихо Браге, были десятилетней давности, за эти годы он, до смерти устав от английских распрей, бежал в Германию, учился и публиковал свои труды в Виттенберге. Впоследствии Ротман несколько раз пытался замолвить за него словечко перед господином Браге, чтобы тот пригласил его к себе на остров, но бедняге Теофило (сам же Бруно и наградил себя этим прозвищем) так и не удалось уломать непреклонного датчанина. А между тем, твердил мне ученый итальянец, они братья, это кровная связь, о, сколь неразрывная! «Как у вас двоих!» – заключил Джордано Бруно, тыча перстом мне в брюхо.
На этих словах, заставивших меня призадуматься, мы в тот первый раз и распрощались. Когда же мы вторично посетили Вильгельма Хесселя, владельца типографии и друга моею хозяина, Джордано Бруно на закате дня заявился туда и возвестил, что нам без промедления надобно отправляться в дом по соседству, где он в окружении ареопага будет вести диспут о бесконечности миров и прочих занимательных материях. А перед тем мы еще потолковали о моей памяти, которая внушала владельцу типографии Вильгельму Хесселю немалое любопытство и являлась, собственно говоря, причиной моего присутствия здесь.
Вильгельм Хессель был большой эрудит, в высшей степени напоминавший лебедя как величавой повадкой, так и черными насупленными бровями. Его дружба с моим хозяином завязалась в Германии, в годы их совместного виттенбергского ученичества. Он был свидетелем ссоры, вспыхнувшей между Тихо Браге и другим знатным датчанином Мандерупом Парсбергом, той самой, вследствие которой Сеньор утратил кончик носа. За этот случай, впрочем, упомянутый Вильгельмом Хесселем лишь вскользь, Джордано Бруно тотчас ухватился, воскликнув:
– Сколь хитроумными путями ведет нас Провидение!
Засим он распространился о том, что, лишившись носа, властитель Урании сам себе закрыл доступ к суетным усладам придворной жизни. Он счел уместным заключить подсказанный разумом союз с женщиной низкого рода. К тому же, прибавил итальянец, по мнению Дансея (вплоть до преклонных лет, когда подкралась смертельная болезнь, жившего в окружении миньонов по примеру своего не в меру прославленного подобными наклонностями короля Генриха III, коего Бруно неоднократно за это порицал), астроном – не кто иной, как «евнух, оскопляющий сам себя».
Как большой знаток Англии и Шотландии, обитатели которых были ему ненавистны, Джордано Бруно намекал на короля Якова; он называл этого монарха «Ганимедом его наставника Бьюкенена», утверждая, что последний сверх того помог воспитаннику погубить свою мать Марию Стюарт. Итальянец, был осведомлен о двух визитах юного венценосца на остров Гвэн и о том почтении, какое он якобы питал к Тихо Браге. Я сообразил, что все это известно ему от Геллиуса.
Под конец, насколько я мог судить, не вполне понимая его латынь, он заговорил о ком-то мне не ведомом, именуя этого беднягу «ширмой для рогоносца»; он казался себе необычайно остроумным, его черные глаза вертелись в орбитах, бойко шныряли по лицам собеседников, как будто собственное злоречие разом опьянило его.
У жены хозяина дома Вильгельма Хесселя были две маленькие собачки турецкой породы, из тех, что богатые дамы из северной Германии целыми днями таскают на руках, прижимая к груди. С недавних пор эта мода достигла и здешних мест. Бруно стал насмехаться над такой призрачной заменой любви. Он, только что отпускавший хозяйке комплименты по поводу ее красоты, теперь, напротив, осыпал ее колкостями столь оскорбительными, что я подумал: «Эта женщина искренно, всем сердцем любит своих собак, зато мужчина вроде него таких чувств не испытает даже к родным детям».
Вильгельм Хессель, раздраженный этими наскоками, да и общей невразумительностью его болтовни, перевел разговор на удивительную память, коей меня одарила природа, демонстрируя ее посредством обычных способов: «Ну-ка, сколько всего букв в третьем параграфе? А какая там двадцать восьмая буква?» – и так далее.
Однако у итальянца было в запасе много соображений также и насчет памяти. Она была его единственным талантом, вот ему и приходилось выжимать из нее все прочие, и он понимал, что это обстоятельство ни от кого не ускользает. В трактате «De umbris idearum»[18]18
«De umbris idearum» (лат.) – здесь: об отображении представлений.
[Закрыть] он описал, как использует свой дар.
«Запоминая предметы и связанные с ними понятия, вмещая в себя присущее природе многообразие форм, человеческий мозг способен осознавать конечное единство бытия, иначе говоря, познать Бога», – сказал он мне.
Его метода заключалась в том, чтобы слоги, составляющие слова, обозначать посредством образов животного мира. Он изобрел тридцать знаков, чтобы через них представить различные свойства памяти; я по сему поводу заметил, что ему, верно, стоит немалого труда заменять природное искусственным.
– О чем это ты толкуешь?
– Я хочу сказать, что ваше колесо памяти, все эти теории запоминания служат лишь затем, чтобы порассуждать о даре, который вы получили не по своей воле. Вместо того чтобы благословлять Господа, наделившего вас талантом, вы прямо-таки присваиваете его себе. Вам бы следовало молитвенно обращать свои взоры к Создателю, а вы имеете претензию властью своего разума призывать его к себе, совсем как господин Браге, на которого вы так похожи, что дальше некуда.
Подобно моему хозяину, Джордано Бруно ненавидел, когда ему противоречили; я имел случай убедиться в этом два дня спустя, когда он собрал в одном месте пятерых довольно молодых людей в плащах и тонких студенческих воротниках да сверх того еще шестого, их преподавателя, все они явились послушать его, пока он не отправился в Венецию на встречу с великим Маджини, прославленным тамошним астрономом, которого Геллиус знал лично. Можно сказать, что перед тем, как его выдали, он по примеру Христа раздавал хлебы. У нас даже был свой Иуда Искариот в лице этого гнусного Геллиуса.
Мы сошлись в маленькой таверне с расшатанными оконными рамами и балками, размалеванными красной и черной краской. Осенний дождь ливмя лил за окном, мы топтались среди скамей в помещении, озаренном пламенем четырех свечек и наполненном запахом отсыревшей древесины. При нашем появлении итальянец, который для монаха-францисканца чрезмерно ценил женское общество, поспешил отослать двух служанок прочь, в соседнюю комнату.
Там к ним не замедлил присоединиться Тюге Браге. Из ближней залы тотчас стали доноситься их смешки. Потом младшая вернулась, предшествуемая лакеем, который принес бочонок пива; ленты, что перехватывали ее сорочку, туго стягивали белое тело, но шея оставалась открытой. Я тотчас смекнул, что это скорее шлюха, чем служанка.
«Недолго мне суждено оставаться здесь с вами!» – заявил Бруно присутствующим.
Что, однако, не помешало ему потратить немалую долю этого быстротекущего времени, обрушившись на заблуждения Аристотеля, потом он внезапно распалился и стал обличать своих хулителей, предчувствуя, что таковые затесались среди собравшихся, между тем один из его учеников, итальянец по имени Эльи, крайне тощий и такой же общипанный, как он сам, с тонкими усиками и остроконечной бородкой на английский манер, повернувшись к своему учителю, показал всем два тома ин-октаво, рисунки к коим изготовил сам Бруно. Затем последний восхвалил щедрость герцога Брауншвейгского, который выдал ему пятьдесят флоринов (возможно ли, подумалось мне, что так поступил тот самый вор, который тогда в Стьернеборге отнял у моего хозяина статую Меркурия?).
Под конец Бруно напомнил, что и без того уже чрезмерно многолюдная семья бездельников, шарлатанов, шутов от науки, всяких университетских кровопийц не перестает разрастаться.
«Мы живем ныне во времена, когда царствует порча. Постигая науки, она порождает порчу в умах, та ведет за собой порчу нравов и созданий человеческого духа. А теперь испанцы, как будто им мало того, что сии гибельные измышления распространились среди нас, нашли средство возмутить спокойствие других народов, они пренебрегают и гением, топят в бездонных водах тот особый характер, кои природа в своей дальновидности одарила и выделила их, испанцы используют тиранию и насилие, чтобы посеять раздор на их землях, пока еще девственных».
У этого Джордано Бруно нрав был такой, что он сумел этой обличительной речью распалить даже самых мирных слушателей: все уже были готовы воспротивиться жестокости испанцев. Собравшиеся принялись так горланить, что помешали ему говорить.
Итальянец, именовавший себя то «бичом Аристотеля», то «Теофилом», а то и «Филотеем» и говоривший о себе, словно о герое, ведущем изнурительнейшую из битв с невежеством, хотел было ускользнуть прежде, чем кто-либо вздумает опровергать его аргументы. Некоторые из присутствующих, боясь, как бы он не сбежал, не выслушав их, решили его удержать. Перед ним заперли дверь. Какой-то студент, похожий на птенца, стал защищать Аристотеля, но его щебетанье прервал сопровождавший их мужчина постарше, напомнив, что Бруно не так давно запретили появляться в этом городе за то, что науку, удел колдунов, он предпочел вере в Господа.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































