Текст книги "Властелин Урании"
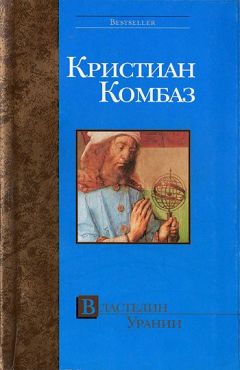
Автор книги: Кристиан Комбаз
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц)
На следующий день после отъезда короля Шотландии меня посадили в тюрьму на восемь дней под тем предлогом, будто я крал хозяйское пиво. Обвинение, не более и не менее справедливое, чем если бы его возвели на меня днем раньше или днем позже. Лишенный выпивки, я не мог пустить в ход свои способности колдуна. Таким образом, моя невоздержанность была в высшей степени полезна моему хозяину. Увы, господин Браге на несколько дней отправился в Копенгаген, да еще в Роскилле собирался заехать, у него там были дела, в которых мой пророческий дар ему никак послужить не мог. Вот он и подумал, что за время его отсутствия жители острова должны убедиться, что я не пользуюсь никакими привилегиями, это, по его разумению, был ловкий ход. Следовательно, заточению меня подвергли дабы восстановить мое доброе имя.
По правде сказать, я от такой заботы едва не умер. Если бы его сестра София не вернулась на остров, мне пришел бы конец. Сидение взаперти в подвале флигеля для челяди, в настоящей камере, именуемой донжоном, хоть и упрятанной под землю, чуть не лишило меня рассудка. Моя сорока какое-то время бродила вокруг стены, но вскоре исчезла. Говорили, что она умерла, да верно, так оно и было: я больше никогда ее не видел. Лакеи, над которыми я часто подсмеивался, когда мой хозяин еще покровительствовал мне, теперь сводили со мной счеты, донимали, не давали спать, мочились на меня через слуховое окошко, подбрасывали туда дохлых котов и ворон, крича: «Йеппе, к тебе посетитель!»
Внезапно мне открылась новая и страшная способность моей памяти: во мраке подземелья она разворачивалась, как нежный лист молодого папоротника, распускала в моем мозгу свои вырезные отростки, очерченные столь четко, что не ускользала ни единая самомалейшая подробность. Я заново оживлял одну за другой все те мысли, что бередили душу с той поры, как я появился на свет, все образы, что томили меня. Сеньор предстал передо мной на песчаном берегу, как тогда, в первый раз, без носа и без одежд, и проплыли давние грезы о земле Исландии, и ожили вновь те жуткие, дикие фантазии, с которыми моя память всегда связывала цифры: химеры, раздутые трупы, выброшенные морем, всякие мерзости, услышанные, подсмотренные или испытанные на себе в те времена, когда Густав вытаскивал меня из какого-нибудь укрытия и с гнусной поспешностью тащил показывать морякам.
Ну, стало быть, София Браге нарушила распоряжение брата и приказала выпустить меня из-под замка.
Меня отмыли. Утешали, прослышав о том, что я лишился своей сороки. Отогрели моего брата-нетопыря. Угощали сушеными фруктами, пивом и заправленной маслом похлебкой в круглой миске с ковшиком. Наконец, когда я среди стольких забот совсем растаял, изнемог от дивного облегчения, служанка Ливэ, осушая мое истерзанное тело, которое она облекла в мягчайшие ткани, с полного одобрения своей госпожи взбодрила мою мужественность, что очень их насмешило, а мне доставило наслаждение, которому, как я видел не раз, предавались и моряки, и поляк-садовник, и даже Йохансон, он того не скрывал и уверял меня, что сам хозяин этим занимается, хотя нам запрещает.
Господин Браге возвратился домой не один: с ним прибыл математик Ротман. В его присутствии он не посмел разбушеваться, хотя ему очень этого хотелось (ведь, оставив меня томиться под землей, он меня обнаружил гуляющим на солнышке и нарядно одетым). Его юный гость, похожий на печальную цаплю, носил красный плащ, на изнанке которого пестрело множество разноцветных нитей и ленточек; он признался хозяину, что некогда подарил мне очки. Выходило, что я скрыл это от своего господина.
Услыхав об этом, Сеньор омрачился, однако ничего не сказал. Филипп Ротман привез новые очки, но эти плохо подходили к моим глазам, и он обещал мне другие. В конце концов Тихо Браге стал проявлять крайнее недовольство тем, что Ротман пытается вовлечь меня в некий таинственный заговор по поводу всех этих ниток и лент, что он носил под плащом, уверяя хозяина, будто они ему нужны, чтобы «ткать свою память». Сеньор решил, что это метафора вроде тех, какими пользовались философы древности или евангельские персонажи. Что до меня, я сразу понял, о чем речь: располагая ленты и нити в определенном порядке, связывая их, создавая сочетания цветов, математик ландграфа Гессенского приводил их в соответствие со сплетениями своей памяти, ему было довольно бросить взгляд на голубую, красную или зеленую ленту, чтобы вспомнить ход мысли, который трудно восстановить без помощи пера и чернил. Итальянец по имени Камилло прославился тем, что ввел в употребление этот прием, и всю Европу объехал, помогая преобразовывать кунсткамеры (таковая имелась у Софии Браге) в «театры памяти», где всевозможные предметы, будучи расположены в символическом порядке, являли наблюдателю обобщенный взгляд на мир видимый как зримое воплощение мира идей.
Ротман объяснял Сеньору, каким образом это происходит. Увы, сам Тихо Браге при малейшем споре предпочел бы по обыкновению засесть за свой стьернеборгский стол в форме полумесяца и исписать кипу страниц: не владея искусством упражнять и изощрять свою память, он ничего не понимал в таких хитростях, помогающих нашему уму, пренебрегая второстепенным, напрямик устремляться к сути.
Столь же тщетны были мои усилия, когда Тихо Браге приказывал мне описать ему то, что творится у меня в голове в минуты, когда я пускаю в ход свой дар запоминания; я мог сколько угодно лезть вон из кожи, толкуя ему о видениях, словах, небылицах, что пронизывают мой мозг, равно кошмарные (а подчас и похотливые, ибо это зависит от простых прихотей фантазии). Мог ли я объяснить этому человеку, воодушевленному мудростью землеустроителя, что мой ум не брезгает картинами греха и распутства, использует и шутку, и словесную игру, если он считал, что блага познания даются лишь тем, кто достаточно добродетелен, чтобы удостоиться их?
Как бы там ни было, к признательности, что внушал мне Ротман, человек, прояснивший мое зрение, на сей раз примешались Восхищение, лихорадочный восторг, радость не меньшая, чем если бы я повстречал в толпе кого-то, кто разделял бы со мной мое уродство. Я пожирал его глазами со вниманием, достойным пса, что глядит из-под стола.
Все это бесило Сеньора чем дальше, тем сильнее. При первом же подвернувшемся поводе эти двое опять поспорили насчет вращения Земли. Несмотря на вмешательство его сестры Софии, перепалка разгоралась, подобно иным пожарам, которые считали потухшими, а они вновь вспыхивали и дом сгорал дотла. Ссора дошла до постыдных крайностей, от которых стало неловко как тому, так и другому, но было поздно. Филипп Ротман на второй же вечер отплыл в направлении Мальме, осыпав Тихо Браге прощальными комплиментами, являвшими собою лишь дань форме, на которую Сеньор отвечал с язвительной церемонностью.
Окажись он в тот день с глазу на глаз с Ротманом, он бы, несомненно, куда спокойнее выслушал эти его «коперниковы бредни». Но место в высших сферах Ураниборга, освобожденное Элиасом Ольсеном, успел занять новый приближенный помощник. Он рьяно поддерживал хозяина в споре и своим безоговорочным восхищением отныне стал побуждать его никому ни на йоту не уступать в том, что касалось доктрины.
Христиан Сёренсен – так звали этого нового ученика. Он происходил из бедной семьи, жившей на юге Зееланда, в селении, носившем немецкое название Лонгберг, что по-латыни звучало бы как longomontanus. Это слово стало его прозвищем.
Лонгомонтанус был среднего роста, его одежда напоминала оперение ворон и некоторых пород уток, что водятся в Польше: глубокий черный цвет с шелковистым отливом, в котором сквозят оттенки синего и муарово-зеленоватого, а то и мелькнет алая искра. В годы своей крестьянской юности он был свинопасом. Это я в один злосчастный день узнал на собственной шкуре, когда вздумал насмехаться за столом над Николасом Урсусом, который тоже в детстве пас свиней. Он стал злейшим врагом Сеньора, когда похитил его труды и опубликовал под названием «Fondamentum Astronomicum»,[13]13
«Fondamentum Astronomicum» (лат.). – «Основы астрономии».
[Закрыть] чем создал себе имя в Богемии, у себя на родине. С той поры, чтобы потрафить Господину, я не раз изощрялся, вспоминая за общей трапезой этого мерзавца, его наряд индюка, кюлоты, расшитые желтыми крестами, оранжевый гульфик с голубыми фестонами, шляпу, словно бы покрытую серебряными талерами, и духи, на которые он не скупился, лишь бы заглушить зловоние свинарника, в котором был рожден.
С тех пор как среди нас появился Лонгомонтанус, мне Дали понять, что зубоскальство по сему поводу надобно прекратить. Сеньор с первого дня шалил его, так: они были похожи. Этот молодой человек двадцати восьми лет кроме достоинств, которыми обладал его господин, имел вдобавок и те, какими тот отнюдь не блистал. В числе первых были упорство и методичность. К категории вторых я бы отнес скромность и терпение, которые Тихо Браге весьма охотно поощрял в других, но сам не практиковал.
Подобно ему, Лонгомонтанус был светловолос и рыжеват, кряжист, круглолиц, с полными губами, но усы имел короткие. Одеваясь в черное, он казался белолицым. Кисти рук у него были того рода, какие часто рисуют на картах: крупные, очень красивые, с прямоугольными ногтями.
Даже сыновья Господина, Тюге и Йорген, не походили на своего отца до такой степени, как этот молодой человек, прибывший сюда с другого конца страны. И они, несмотря на свой нежный возраст, не были так послушны. Тюге уже доходил до того, что противился родителю, а Лонгомонтанус ни за что на свете не сказал бы ему ни слова наперекор. Если их взгляды на движение небесных тел кое в чем и разнились (ученик в отличие от учителя полагал, что Земля вращается вокруг своей оси), то их характеры, не считая гордыни, совпадали во всем, да и антипатии тоже. Он и хозяин одинаково ненавидели сыр, болезни, старух и возвышенные места. Тихо Браге боялся всего, что своей высотой превосходило десять фаунеров: прибрежных скал, кровли своего дворца, башен Кронборга, мельницы Мунтхе. Призывая к себе учеников или помощников, он не мог обойтись без помощи шнура с колокольчиком. Ни за что бы сам не отправился за ними наверх. Подъезжая верхом к Голландской дамбе, что возвышалась над бумажной мельницей, он бывал принужден сойти с лошади.
У своего нового помощника он обнаружил и такое достоинство, как любовь к животным. Тот приглядывался к ним, хвалил их, сам кормил, и часто управляющему Хафнеру случалось именно от Лонгомонтануса узнавать, как себя чувствуют его собаки. Под сенью редких рощиц острова паслись пятеро козлят, подарок старшего брата хозяина Стена Браге, коменданта цитадели Ландскроны. Увы, ему приходилось частенько их заменять, так как поселяне убивали козлят, чтобы избавить от потравы свои огороды или чтобы съесть их. Сын мельника Мунтхе по имени Свенн объяснял это простым законом природы: ежели обворуешь людоеда, можно до отвала трескать мясо, которое он приберегал для себя.
Когда этому страшному человеку случалось остаться со мной один на один, без свидетелей, он и до того распоясывался, что уподоблял жребий козлят участи их хозяина, заявляя, что рано или поздно его надо бы прикончить, разрубить на куски и прокоптить, как его папашу.
Я на это отвечал, не давая воли ужасу и жалости: «Но козликам-то всегда присылают замену, вот так же точно король и его заменит другим Сеньором, этот новый, кто знает, может, еще и позлее будет».
Мне стоило немалого труда убеждать себя, что для Тихо Браге все сложится терпимее, чем для его отца. В снах мне мерещилось, что его труды уничтожат, что по его разграбленному дворцу будут разгуливать бродячие псы. А еще надобно заметить, что в довершение невзгод стоило мне замолвить в разговоре с Мунтхе или кем-нибудь из поденщиков хотя бы словечко в его защиту, как меня тотчас изобличали в том, что я слишком хорошо одет, со стороны Сеньора это такая несправедливость, которая сама по себе дает народу право обвинять и его, и меня.
Той осенью случилось событие, слух о котором прошел по всему королевству, и все усмотрели в нем пример дурного поведения моего хозяина.
Воспользовавшись рвением, с каким юный Лонгомонтанус исполнял свои повседневные обязанности, он оставил Гвэн на его попечение, при нем находились также Йохансон, Ханс Кроль и малыш Шандор Сакаль. Меж тем как они составляли для него опись небесных тел, ему на ум взбрело уладить свои дела в Роскилле. Накануне отъезда он мне объявил, что завтра я должен взойти на «Веддерен» без своей проклятой сороки.
– Ее больше нет, Сеньор. Ваша суровость привела к тому что Христос забрал ее к себе.
– Не кощунствуй.
– Разве птицы не Божьи творения?
– Замолчи, а то никуда не поедешь.
– Э, да какая мне разница, возьмете вы меня с собой или нет? – возразил я ему. – Выспаться мне так и сяк не доведется. Это ж горе горькое – быть лакеем у астронома. Когда приходит время сна, ваши знатные гости и ученики, сытые и пьяные, разбредаются по своим покоям, а мы-то дремлем на лестнице.
– Не беспокойся, о наблюдениях за звездами там речи не будет, – заверил он с тонкой улыбкой, будто задумал что получше.
Господин Тихо очень страдал от недостатка средств. Его расходы без конца росли. Его старший сын приближался к тому возрасту, когда его пора будет отправлять на учение в столицу, отец предполагал оставить его в Копенгагене, поручив заботам своей сестры Софии, самому же отправиться в Роскилле повидать арендатора. Следовательно, Тюге участвовал в этой поездке, наряду с еще двумя десятками народу: были там и лакеи, и повара, и возницы, две белошвейки, переплетчик, которому поручили, сообразуясь с нуждами господина, выбрать и накупить кож, да еще два студента родом из Виттенберга, едва успевшие приехать: им предстояло тотчас сесть на корабль и отплыть в Росток, чтобы за собственные средства обзавестись книгами.
Море грозно вздувалось; шел дождь вперемешку со снегом. Тюге, который был нездоров да к тому же крупно повздорил с отцом, спросил, не подсказывает ли мне внутренний голос, что «Веддерен» налетит на скалы и разобьется.
– Мы будем спасены, – отвечал я.
– Что ж, тем хуже.
При мысли о том, что придется жить в Копенгагене, его охватывало отчаяние. Со мной он держался холодно. Заметив это, я стал опасаться, как бы вскорости не пришел конец нашему доброму согласию, состоявшему в основном в том, что он одалживал мне свои книги, я же их жадно глотал. Ростом он уже превзошел отца. Его голос окреп. Он любил девушку, состоявшую в услужении у его сестер, некую не то Гедду, не то Хельгу, а эта поездка их разлучила. Его зачислили в академию в Серо, что не сулило ему возможности вернуться на остров ранее начала лета. Оказаться среди сорока простолюдинов, питомцев этого заведения, ему совсем не улыбалось, он горько сетовал, зачем родитель уперся и не желает оставить свои не в меру честолюбивые надежды, при том, сколь мало склонности к наукам питает его сын и насколько его голова, как он утверждал, не приспособлена к учению. Его мать, в которой он души не чаял, была слишком низкого рода, чтобы он мог рассчитывать сравняться с отпрысками принцев, чье общество с излишним упорством навязывал ему отец. К тому же, хоть он в том не признавался, его страшно мучил стыд за родителя, такого знаменитого и ученого, но в глазах целого света служившего посмешищем.
Сеньор же, со своей стороны, неустанно искал источник средств, рассчитывая повысить свои доходы, чтобы обеспечить будущность потомства. Он то безрассудно сокращал траты, которых требовали от него его должностные обязанности, то на манер самых отъявленных сквалыг принимался по десять раз кряду выворачивать все карманы, ища, не завалялся ли там какой-никакой скиллинг, и все пытался выжать побольше из своих земельных угодий в Нордфьорде, Роскилле, Скании.
Он и в Роскилле отправился с той же целью. Речь шла прежде всего о том, чтобы воспротивиться распоряжениям архитектора, который требовал от него починить кровлю часовни, где покоились усопшие датские короли; а между тем в его обязанности входило поддерживать ее в порядке.
Когда мы приблизились к этому кирпичному строению чей двойной фронтон с вписанным вершиной вниз треугольником тотчас пробудил в моей памяти роковой символ – две раскрытые ладони, простертые к небу, когда мы вступили туда где под крестообразными нервюрами крашенных охрой по извести сводов обрела приют сумрачная статуя короля Фридриха, оказалось, что в здешней кровле зияют многочисленные бреши и десятки птиц, гнездясь в них, запятнали царственный мрамор своим пометом.
Архитектор мог сколько угодно лезть из кожи, втолковывая Сеньору, что дыры это наименьшее из зол по сравнению с прочими: весь свод грозит обрушиться, а суровая зима, какая ожидается в этом году, неровен час ускорит катастрофу. Он презрительно отвечал собеседнику, что людишки его сорта всегда заодно, им бы только заставить благородного дворянина раскошелиться, чтобы запустить лапы в его денежки.
«Впрочем, завтра я как раз собираюсь в Гуннсё, чтобы потолковать об этом с Педерсеном».
Гуннсёгор, большая, богатая ферма, относилась к Роскилльскому приходу, а мой хозяин числился его каноником. Над десятком жалких домишек, ютившихся у берега заледеневшего озера, курились дымки. Еще здесь имелись маленький замок, заново отстроенный после пожара, с увеличенными оконными проемами, с рамами из белого камня, размеры которых Сеньор счел нескромными, и несколько красиво вытянутых вверх деревянных пристроек – вот и все, что мы нашли, заявившись туда.
Человека, который встречал нас, звали Расмус Педерсен. Ему было лет сорок – пятьдесят. Все секреты местного земледелия были ему ведомы ad vitam.[14]14
Ad vitam (лат.) – от роду.
[Закрыть] За это он получал достойную плату. Но сейчас хозяин прибыл уведомить его, что вовсе не собирается позволить ему обогащаться за свои счет. Из неких полученных им донесений явствует, что Педерсен злоупотребляет данным ему королевской властью правом ловить в озере рыбу на удочку, к тому же он затеял строительство хижин, барыш от которого делит с архитектором из Роскилле (последнее было подтверждено доказательствами).
Расмус Педерсен представил ему счетные книги; это происходило в длинной зале, где топился украшенный резьбой по камню камин. Хоть я пропустил больше половины их разговора, было нетрудно заметить, что арендатор хозяину лжет. Впрочем, Тихо Браге для того и взял меня с собой, чтобы посмотреть, нельзя ли использовать в таких случаях мой дар прозорливости. К тому же он хотел, чтобы в моей памяти закрепились слова, что были произнесены во время переговоров, и цифры, приведенные в деловых бумагах. Но это не понадобилось, так как в конце концов он решил просто изъять все записи Педерсена.
У Сеньора имелась еще и другая причина для ненависти к нему – та, что в моих глазах делала его привлекательным: Педерсен был красив. Тонкое, благородное, словно у Христа, лицо, полные изящества движения, высокий стан. Когда его длинный плащ распахивался, можно было заметить темно-голубой наряд прекраснейшего оттенка, подчеркнутого поясом цвета крыла сойки, узким, с черной каймой, что указывало на скромность, подобающую его положению. Русая борода была слишком аккуратно подстрижена, волосы слишком заботливо уложены, он явно был не прочь обратить на себя внимание, но природная обворожительность заставляла забыть об этих ухищрениях кокетства, которое ему прощали все, за исключением моего хозяина.
Господин Тихо со своим гундосым ворчанием, широкой грудью и брутальными ухватками куда меньше этого человека мог сойти за дворянина. Тем не менее из них двоих именно он прикатил в красной карете с гербами рода Браге, запряженной четверкой вороных, притом в сопровождении пастора из Гуннсё, двух человек из Роскилле и слуг.
Вечером Педерсен распорядился, чтобы гостю подали обед из десяти блюд, среди которых оказалось много рыбных, что было весьма некстати, принимая во внимание их спор по поводу права на ужение рыбы, а также несколько сырных, но Сеньор, к несчастью, сыра видеть не мог. Сестра и мать Педерсена, обе ни дать ни взять поселянки, сели за стол вместе с нами; в трапезе принимали участие также бургомистр Роскилле, его сын, еще двое юношей, одетых в черное, и пастор со слепым мальчиком по имени Карл, за которым приглядывал английский длинношерстый пес с выгнутым, как арка, хребтом; он часто прекращал сопеть, и, затаив дыхание, бросал на меня неприятно испытующий взгляд.
Во время обеда господин Браге приказал своим людям отправиться в Роскилле, чтобы там провернуть некое дельце. На следующее утро, поднявшись еще до света, я увидел на дворе шестерых всадников, они чего-то ждали. Когда Педерсен, в свою очередь, встал, Сеньор официально уведомил его, что разрывает их договор без обжалования и без выплаты неустойки, ссылаясь на то, что арендатор злоупотребил своими правами. Затем он велел, чтобы ему подали экипаж, и уехал.
В Копенгагене он приказал вделать железное кольцо с тяжелой цепью в нижнюю часть стены круглой крепостной башни и заявил мне: «Вот где вскоре предстоит обосноваться Педерсену». И, тотчас пустившись описывать все ступени падения, которые он ему готовит, изумился, приметив на моем лице тень жалости.
Как? Разве мне не подобает радоваться вместе с ним, видя унижение этого наглого разбойника?
– Могу ли я радоваться тому, что человека закуют в железа? – отвечал я. – И вы не окажете ему ни малейшего снисхождения?
– Никакое снисхождение не должно мешать торжеству справедливости.
– А как же Христос? Разве он не пожалел двух разбойников?
Я обратил к нему молящий взгляд, пытаясь пробудить в его сердце милосердие, которое, как я знал, было ему не совсем чуждо. Но он вместо этого заподозрил, будто я утаиваю от него некие опасные истины, и уже не мот думать ни о ком, кроме самого себя:
– Ты на что намекаешь? А ну-ка прекрати эти игры! Если ты связан с иным миром и что-то там проведал такое, что может быть мне полезно в этом деле, выкладывай! Слушаю тебя.
По справедливости он поступит или нет, это его нимало не тревожило. На следующий день он призвал меня в свою комнату на улице Красильщиков – так и вижу ее высоченные потолочные балки – и снова потребовал ответа, не будет ли ошибкой заковать Педерсена в кандалы.
– Зачем спрашивать, если вы сами знаете, что к чему.
– Я этого не знаю. И хочу узнать от тебя.
– Вы уже все обдумали, стало быть, так и должно быть, мне нечего вам больше сказать.
– Повторяю еще раз: у меня нет окончательного решения.
Я стоял нагишом и трясся от холода, его лакеи в шесть утра подняли меня с пола, где я спал по левую сторону от его ложа, да к тому же вернее было бы сказать «подремывал», ибо отсутствие носа привело к тому, что он храпел, как дикий вепрь, и я, сопровождая его в путешествиях, из-за этого часами глаз не смыкал. Теперь же я ждал, когда служанка его сестры принесет мне одежду, в которой я должен был явиться на представление к некоему графу Рюдбергу, любопытствующему поглядеть на моего брата-нетопыря. В довершение всех бед меня терзала зубная боль, Лию обещала ее усмирить, приложив руки к моим щекам. Я так надеялся, что она с минуты на минуту появится здесь вместе с белошвейкой!
– Если не решаешься говорить, нынче же вечером будешь сидеть на цепи вместе с Педерсеном.
– Но к чему спрашивать меня, если вы наилучшим образом решили судьбу Педерсена и не намерены отказаться от своего замысла?
– Мне приятно было бы услышать, что это именно наилучшее решение.
– Что ж, так и есть, будьте уверены в этом, junker, – сказал я, присовокупив – вполголоса, но так, чтобы мое бормотание можно было расслышать – словцо, которым в спорах с ним иногда пользовался Ротман; ученики, и наборщики за глаза тоже называли его так.
Эта ироническая обмолвка привела его в неописуемое бешенство, от последствий которого меня избавило появление белошвейки и Ливэ. Но уходя, он посулил, что мне не поздоровится, притом вскоре.
Мою дерзость питала мысль о том, что на цепь меня посадят рядом с Педерсеном, у которого такое благородное, кроткое лицо. Удовлетворение, которое я испытал, было тем острее, что Ливэ, подведя меня поближе к камину, потерла мой подбородок, и боль отпустила. Ее забавляло отвращение, с которым белошвейка поначалу отшатывалась прочь при виде моего брата-нетопыря.
«Знаешь что? – смеялась она. – Она боится, как бы твой братец не проснулся, когда она станет с тебя мерку снимать. Ну и дурища, а?»
Говоря так, она подталкивала белошвейку ко мне, мягко придерживая за плечо. Славная была девочка, такая же молоденькая, как сама Ливэ, но, невзирая на свои семнадцать, разодетая, словно матрона. Звали ее Фрукта.
«Смотри, как иссох твой братец, – продолжала Ливэ. – Не шевелится. Он разом и мертвый, и живой, сказать по правде, он скорее мертв, чем жив, зато уж этот (тут она сжала пальцами мое срамное место) куда как живехонек, ага, проснулся!»
Она покатилась со смеху. Фрукта, настолько же бледная и белокурая, насколько Ливэ была смугла и темноволоса, уступив уговорам, решилась коснуться ладонью моего брата-нетопыря. Ее подмышки пахли творогом. Потом, как недавно король Шотландии, а за ним и многие другие, она перенесла свое внимание на другую часть моего тела, которая, чуть тронь, напряглась до предела.
Слуга, что бродил по комнате, отошел в сторону при виде того, как Ливэ направляла руку Фрукты, а та приводила меня в неистовство. Похотливые, веселые, они щекотали друг дружку, вертелись, и я, оскверненный, но довольный, кончил на глазах двух этих девчонок, хохочущих от всего сердца. Затем белошвейка, утратившая серьезность последней, первой взялась за ум. Она посоветовала ничего не говорить Сеньору, который немного погодя вернулся, чтобы препроводить меня к Рюдбергу.
Мы проехали по неровным, размокшим от дождя улицам столицы никак не более чем один фьердингвай и остановились перед высоким зданием с узкими окнами, за которыми пылало множество свечей. Я думал, что Сеньор поднимется наверх вместе со мной, но меня оставили одного у озаренного факелами подножия лестницы.
Хозяин дома был в королевстве фигурой значительной, он приходился племянником Парсбергу, члену ригсрода,[15]15
Ригсрод (датск.: rigsraad) – государственный совет.
[Закрыть] тому самому, что в молодости отсек моему господину нос на дуэли. Как мне рассказали позже, Рюдберг сверх того имел репутацию опытного моряка.
Два лакея проводили меня в комнату, заваленную картами, навигационными приборами, эмблемами, вымпелами, чертежами судов, деревянными моделями, изображающими разные участки города и еще не существующий порт Копенгагена. Там, возле светлого большого сундука, я наконец увидел этого гнусного субъекта лет сорока, с узким лицом и треугольной птичьей головой, с тяжелыми веками пьяницы. Он щеголял черным бархатным камзолом с серебряной бахромой, сапогами с тонким черным отворотом, такими огромными, что можно было подумать, будто у их владельца Расплющенные ступни. Его серо-голубой берет свисал на ухо так, что, беря пивную кружку, он одним пальцем приподнимал его, зажимая в остальных кружевной платок, которым отирал пот со лба.
Какая-то женщина дрожащим голоском окликнула его и появилась было на пороге. Он с живостью ринулся ей наперерез, уверяя, что болен, и тотчас отослал прочь. При всем том он говорил чистую правду: стоило ему выйти из прихожей, как он явственно принялся блевать, после чего заорал злобным и плаксивым голосом, обращаясь к лакеям: «Пер! Бо! Йохан! Сказано же вам оставаться здесь, чтоб до полуночи были к моим услугам! Я прикажу вас повесить! А вы, сударыня, исчезните!»
Служитель, стоявший рядом со мной, не двинулся с места. То был белобрысый дородный парень, из-за этой промашки крайне раздраженный на своего хозяина.
Зато к моему он, уж не знаю, с какой стати, проникся расположением. А посему торопливо шепнул мне, чтобы я внимательно слушал, что он мне сейчас скажет. Я навострил уши.
Но тут, увы, вернулся граф Рюдберг и прервал его:
«Я умру от злости, эти мерзавцы меня доведут. Где Йохан? Я сей же час выброшу его в окно, я его изваляю в моей блевотине, я прикажу его удавить, изрубить на куски, кровь ему пустить, как быку нынче утром!»
Выкрикивая это, граф сжимал кулаки в смешной ярости, покачиваясь на своих хрупких лапках с острыми коленками, затем снова выскочил вон, пустившись на поиски этого столь необходимого ему Йохана, которого он нашел и велел отлупить палкой в коридоре. «Ай, ай!» – кричал несчастный. Послышался скрип отворяемой ставни, и я испугался, уж не осуществил ли его господин свою угрозу вышвырнуть провинившегося в окно.
Моего, собеседника это не смутило. Не спуская глаз с двери, он стал меня уверять, что Тихо Браге надлежит очень опасаться его хозяина. Несколько лет назад, сопровождая графа на мыс Куллен, он собственными ушами слышал, как тот сказал, что он платит арендатору из Куллагора, чтобы тот нарочно позабывал зажигать «маяк астронома». (Именно тогда господин Браге, вместо него изобличенный в небрежности, из-за которой немало судов разбилось о скалы, был отрешен от своего фьефа и утратил расположение будущего монарха.)
Наконец интриган с треугольной рожей возвратился в комнату, возбужденный, но исцелившийся. Со сверкающими глазами и ясным голосом он прогнал прочь того, кто так существенно просветил меня, и сделал мне знак раздеться. Я приподнял свою серую рубаху и высвободил злополучного братца из кармана, заботливо пришитого портным, чтобы поддерживать его. Глядя на склонившегося надо мной графа, я почувствовал, как сердце сжимается от стыда и жалости к моему Сеньору: он послал меня сюда, чтобы позабавить этого вероломного негодяя, строящего при дворе губительные козни против него!
«Садись-ка сюда».
Он снял свои перчатки из черной козьей шкуры с отворотами. Руки у него были так же непомерно огромны, как ступни, и покрыты черной шерстью даже между пальцами. «Какой феномен! – пробормотал он. – Эта живая химера и впрямь любопытна!» Он перестал мять моего брата-нетопыря и как бы по рассеянности запустил руку в другое место. Я, со своей стороны, даже не дрогнул. Еще и часа не прошло с тех пор, как мой мед излился в изобилии, а его физиономия внушала мне полнейшее отвращение. Такая бесчувственность, похоже, разозлила его, да к тому же он видел, что я пытаюсь уклониться от потайных блужданий его пальцев. «Ну же, не будь таким пугливым», – уговаривал он меня. Под конец он притворился, будто хочет сравнить размеры моего причиндала и стерженька братца, но сам все взвешивал на ладони первый, пренебрегая вторым. Потом, устав изображать скромность, вдруг принялся тереть себя сквозь ткань одежды, и его острые черты тотчас исказила гримаса похабного возбуждения, оно быстро дошло до крайности, отчего лицо так побагровело, словно граф поперхнулся глотком раскаленного питья.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































