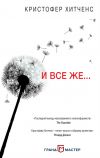Текст книги "Почему так важен Оруэлл"

Автор книги: Кристофер Хитченс
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Позже, в «Культуре и обществе», Уильямс заработал несколько очков, перепечатав некоторые абсолютистские изречения Оруэлла, вне контекста режущие слух. В журналистской полемике Оруэлл пользовался одним одновременно и сильным, и слабым приемом: он часто начинал эссе с провокативного утверждения, призванного приковать внимание читателя, – тактический ход, позаимствованный, как верно заметил Уильямс, частично у Г. К. Честертона, частично у Джорджа Бернарда Шоу. Еще ни один активно печатающийся писатель не мог пробежаться по только что вышедшим из типографии своим страницам и не вздрогнуть при этом, наткнувшись на нечто похожее. Уильямс признается в намеренной «изоляции» этих фраз, что не мешает ему продолжать веселиться. Категорическое утверждение «гуманитарий – всегда лицемер», возможно, не лишено правды, – и на самом деле не лишено, – но только не само по себе. Другие высказывания Оруэлла, по теме провала социалистического движения на Западе, сегодня звучат более убедительно, чем тогда, когда Уильямс осыпал их насмешками, и все же есть в них что-то огульное. И разумеется, нельзя было пройти мимо знаменитого излияния злонравия на головы «оригиналов», вегетарианцев и гомосексуалистов, язвительности, которая только уродует литературу и, возможно, заслуживает гневной отповеди (хотя мы продолжаем восхищаться По и Свифтом за дерзкое отсутствие лояльности в их сатире). Однако скрытое предубеждение Уильямса выдает себя даже в обращении к таким сравнительно легким целям. Уилямс упрекает Оруэлла в постоянном использовании в качестве оскорбления уменьшительного определения «маленький» («типичный социалист… аккуратный маленький человечек», «типичный маленький подлец в котелке» и т. д.). Сегодня мы все, возможно, слишком часто используем слово «маленький» и его аналоги. В одном месте Уильямс действительно упрекает (возможно, несколько высокомерно) своих соратников из новых левых за слишком поспешную оценку «мелкобуржуазности» Оруэлла. Однако как насчет (я привожу первый попавшийся пример) откровенного отвращения Оруэлла, вызванного поведением толп англичан во время Первой мировой войны, когда «несчастные мелкие немецкие пекари и парикмахеры обнаруживали свои магазины разгромленными толпой»?
Совершая еще одно усилие на ниве парадоксальности, Уильямс решает утвердить Оруэлла в качестве примера «парадокса изгнанничества». На основе этого парадокса сложилась настоящая «традиция» (здесь Уильямс солидаризируется с Д. Г. Лоренсом), которая в Англии «соотносится со множеством либеральных добродетелей: эмпиризмом, определенной принципиальностью, честностью. Кроме того, она обычно наделяет изгнанника (в качестве своего рода награды за изгнание) определенными качествами восприятия, а именно способностью определять несовершенства в отвергаемой им группе. Кроме того, она дает видимость силы, хотя сила эта в большей степени иллюзорна. В ее достоинствах, хоть и душеспасительных, мало хорошего: это лишь демонстрация твердости (суровая критика лицемерия, самодовольства, самообмана), однако обычно – слишком нервная, а иногда – истеричная; здесь нет понимания сути сообщества, а в людях, самых высоких моральных качеств, слишком сильно напряжение».
Довольно сильный отрывок, даже несмотря на то, что Уильямс одной рукой раздает, а другой – забирает. Рабочее название романа Оруэлла «1984» звучало как «Последний человек в Европе»; в его творчестве везде присутствует налет солипсистской гордости, читается взгляд сурового затворника-одиночки. Возможно, он достоин того, чтобы его ценили как одного из выдающихся английских диссидентов-интеллектуалов, который всем остальным привязанностям предпочел преданность правде? Само собой разумеется, Уильямс так не считает, и доказательством тому одно-единственное слово, столь невинное на первый взгляд, и слово это – «сообщество».
Уильямс, удостоив Оруэлла званием «изгнанника», немедленно заменяет его на термин «бродяга». Бродягу бы, к примеру, не смогли успокоить или удовлетворить не слишком утешительные рассуждения Уильямса о том, что «словом “тоталитаризм” описывается определенный тип репрессивного общественного контроля, однако любое реальное общество, любое полноценное сообщество обязательно тотально. Принадлежать сообществу означает быть частью целого, означает необходимость принимать его правила, помогая при этом их устанавливать». Другими словами, Уильямс приглашает Оруэлла, да и нас всех, сделать шаг назад, во чрево кита! Помни о своих корнях, соблюдай обычай племени, осознай свою ответственность. Жизнь бродяги или изгнанника обманчива, вредна для здоровья и даже опасна. Тепло твоей семьи, сердечность твоего народа – все для тебя, такова жизнь в «движении». Если тебе так необходимо критиковать, делай это, оставаясь внутри, и следи за тем, чтобы критика твоя была конструктивна.
Довольно специфическая попытка вернуть Оруэлла в свои ряды была подкреплена выдающейся фразой: «Принцип, который он выбрал, был принцип социализма, и “Памяти Каталонии” остается вдохновляющей книгой (независимо от содержащихся в ней политических противоречий), потому что она рассказывает о наиболее взвешенной из всех, что он совершал, попытке стать членом движимого принципами сообщества». Я предоставляю возможность самостоятельно найти доказательства столь смелому утверждению любому читателю этих страниц – Оруэлл действительно был сильно увлечен разгоревшейся в Каталонии борьбой и очарован людьми, с которыми познакомился там и тогда. Однако прежде чем уехать, Оруэлл не был полностью отсечен от своих корней, а «движимое принципами сообщество», чьей частью он впоследствии стал, было сообществом симпатизирующих революции людей, которым суждено было разделить друг с другом опыт измены со стороны Сталина. И именно в сталинское сообщество той эпохи органически влился сам Уильямс.
И нельзя сказать, что ко времени написания «Культуры и общества» он полностью с ним разошелся. В очень кратком и очень поверхностном обзоре «Скотного двора» и «1984» он вновь упрямо продолжает путать среду с ее описанием. В «Скотном дворе» «вопрос власти решается между пьяницами и свиньями, и это наивысший накал конфликта. В “1984” та же мысль звучит яснее, а терминология – точнее. За все в ответе теперь ненавистные политики, а немые толпы “пролов“, находящиеся под защитой собственной тупости, во многом предоставлены самим себе. Единственное несогласие звучит со стороны мятежного интеллектуала, отрекающегося от системы в целом».
Чтобы подчеркнуть и усилить впечатления собственной неспособности следовать развитию сюжета (кто еще мог принять «Скотный двор» за простое описание борьбы за власть между пьяницами и свиньями?), Уильямс даже приводит точную выдержку параграфа про пролов, который полностью опровергает все, что он только что сказал, тот самый параграф, который, как это бывает, появился благодаря веселому впечатлению, что оставили у Оруэлла неукротимые леди из службы уборки, разрядившие конформистскую атмосферу залов и коридоров ВВС.
«Если есть надежда, то она – в пролах… всюду стоит эта сильная, непобедимая женщина, изуродованная трудом и родами, работающая от рождения до смерти и все еще поющая. Из этого мощного чрева выйдет когда-нибудь порода думающих, сознательных людей. Мы мертвецы, будущее принадлежит им. Но мы можем войти в это будущее, если сохраним живой разум…»[23]23
Пер. В. М. Недошивина, Д. Иванова.
[Закрыть]
В написанной в 1951–1952 годах книге «Порабощенный разум», напечатанной на Западе в 1953-м, польский поэт и эссеист Чеслав Милош сделал Оруэллу величайший комплимент из тех, что один писатель может преподнести другому. Милош наблюдал сталинизацию Восточной Европы изнутри, будучи атташе по культуре своей страны. О своих товарищах по несчастью он писал:
«С романом Оруэлла “1984” знакомы немногие, поскольку его трудно было достать и опасно – хранить, его знают только избранные члены Внутренней партии. Он восхищает их проникновением в самую суть деталей, которые так хорошо им известны, а также своей сатирой в духе Свифта. Подобный литературный стиль запрещен Новой религией, поскольку аллегория, благодаря естественному для нее многообразию возможных значений, неизбежно вышла бы за границы, установленные нормами социалистического реализма и цензурными предписаниями. Даже те, кто знает Оруэлла только по слухам, удивлены, каким образом автор, никогда не бывший в России, обладает столь тонким пониманием ее жизни».
Другими словами, всего пару лет спустя после смерти Оруэлла его книга о секретной книге, циркулирующей только в пределах Внутренней партии, сама стала секретной книгой, циркулирующей только в пределах Внутренней партии. Разумеется, Оруэллу до некоторой степени был знаком подобный опыт; немногое прошло мимо Оруэлла в течение его короткой жизни, предчувствие «1984» присутствует даже в его воспоминаниях о школьных днях, эссе «О радости детства». Дополнительный свежий материал, как мы видим, он мог получить из опыта работы в Бирме и на ВВС и, разумеется, из чтения романа «Мы» Евгения Замятина и другой антиутопической литературы эпохи первых лет сталинизма. Однако точка трансцендентности, момент кристаллизации сознания приходится, без сомнения, на время, проведенное им в Испании или, во всяком случае, в Каталонии. Именно здесь Оруэлл пережил предупреждающий приступ боли человека, оказавшегося под прессом полицейского режима – режима, правящего во имя социализма и народа. Для человека Запада такое откровение оказалось относительно новым переживанием: многих думающих и гуманных людей, позволивших отвлечь себя от главной своей одержимости – борьбы с фашизмом, оно заставило слегка вздрогнуть. Но на Оруэлла оно произвело неизгладимое впечатление.
Закономерности, по словам Луи Пастера, способен видеть лишь тот, чей разум готов их замечать. Пастер говорил о некоторой способности разума к открытости, благодаря которой и случаются научные открытия, однако метафору можно с пользой использовать в более широком смысле. В Испании Оруэлл постоянно был настороже и готов был фиксировать любые свидетельства. В оправдание интеллектуалов 1930-х годов часто повторяется, что те понятия не имели, как на самом деле выглядит сталинизм. Также утверждается – иногда с теми же извинениями, – что если бы они способны были догадаться, что такое сталинизм, они также смогли бы отбросить все свои сомнения для пользы дела. Поразительно, но сам Оруэлл ни разу не переживал фазу увлечения сталинизмом, ему не пришлось пройти через выздоровление или очищение посредством внезапного «крушения иллюзий», и в этом – сила его способности смотреть неприятной правде в глаза. Правда и то, что он недостаточно терпимо относился к людям, ссылающимся на изначальные свои иллюзии как на оправдание собственной наивности. Нельзя сказать, что здесь нет ни намека на высокомерие, и, безусловно, это – одна из причин той острой неприязни, которую Оруэлл вызывал тогда и продолжает вызывать сегодня.
Самая первая критика сталинизма прозвучала со стороны движения рабочих-диссидентов и независимых интеллектуалов, что полностью, абсолютно контрастировало с апатичной лояльностью «сообщества» подобных Уильямсу людей. И то, что некоторые из этих интеллектуалов едва сошли со школьной скамьи, но уже не доверяли идее о «духе коллективизма», не должно никого удивлять; во время Первой мировой войны мы уже видели появление небольшой, но очень энергичной группы порядочных юных офицеров, которые также видели насквозь весь ура-патриотизм и классовую лояльность и разделили практически тот же горький опыт.
Остается только сказать, что в 1953 году – спустя три года после смерти Оруэлла – рабочие Восточного Берлина выступили с протестом против новых хозяев. В 1956 году к протестам присоединился народ в Будапеште, а с 1976 года и вплоть до схлопывания режима «народной демократии» польские рабочие-судостроители стали той прославленной ударной группировкой движения, которая издевалась над самой идеей «рабочей партии». Через свое творчество, свои выступления поддержку этому движению народов и наций оказали многие интеллектуалы-«изгнанники» и интеллектуалы-«бродяги», от самого Милоша до Вацлава Гавела, Рудольфа Бахро, Миклоша Харасти, Лешека Колаковского, Милана Шимечки и Адама Михника. И ни один из них не отказал Оруэллу в своей благодарности. Таким образом альянс между сообществами рабочих и отвергнутых скептиков наконец достиг некоторых результатов. Однако кто-то может чувствовать необходимость возразить в том духе, что это вовсе не было той прогрессивной, оздоровительной революцией, о которой мечтал Реймонд Уильямс. Конечно, меньше всего это можно расценивать как окончательное избавление от отчаяния и обреченности. Вот поэтому Оруэлла будут продолжать читать и будут продолжать ценить – я чуть было не сказал «еще долго после того, как имя Уильямса канет в Лету», но я запрещаю себе подобные клише, поэтому напишу: вне зависимости от того, будут ли продолжать читать и помнить Уильямса или нет.
Он посвятил Оруэллу множество страниц, однако пропустил (умышленно, на мой взгляд) все его эссе о поп-культуре, упомянув о них лишь вкратце. (Как уныло говорил сам Уильямс в интервью 1979 года для NewLeft Review: «В Британии пятидесятых фигура Оруэлла, казалось, поджидала вас везде, куда вы бы ни захотели пойти. Если вы пытались разработать новый вид анализа поп-культуры, вы наталкивались на Оруэлла, если вы хотели писать о работе или жизни обычных людей, вы наталкивались на Оруэлла»… Не звучит ли это как признание его значимости или, возможно, как зависть к ней?) Оруэлл, возможно, был первым интеллектуалом, проявившим интерес к развлекательному аспекту популярной литературы и вообще – к эпохе массовой культуры. В своем знаменательном эссе «Еженедельник для мальчиков» он не только высказывает несколько тонких мыслей на тему манипуляции вкусами со стороны газетных магнатов, но и предполагает (как оказалось, совершенно точно), что выпуски «Фрэнка Ричардса», создателя Билли Бантера, слишком обширны и слишком обезличены, чтобы принадлежать авторству одного человека (из этого его понимания родилась на страницах «1984» мягкая порнография, написанная для пролов полуавтоматическим устройством). Его изучение вульгарных открыток с морскими видами и их связи с юмором мюзик-холла открывает живописца и рисовальщика в Дональде Макгилле. Он предполагал написать исследование еженедельных журналов для дам, которые он бы мог или не мог издавать; горько от мысли, что работа эта была утеряна, возможно, в 1944 году, вместе с попавшим под бомбежку его домом в Ислингтоне. Он следил за взлетами и падениями этнического юмора, отмечая, что мишени его меняются вместе с политической ситуацией, и фиксируя тонкие отличия издевательств над евреями от издевательств над шотландцами. Как кинокритик он зорко подмечал усиливающееся влияние американских маркетинговых технологий на привычки и нравы британцев, а также на британскую культуру в целом. Не будет преувеличением сказать, что Оруэлл оказался первопроходцем «культурологии», не задаваясь вопросом о точном названии нового предмета (возможно, он предпочел бы название типа «познай самого себя»). На поле постколониальной публицистики тоже кое-что задолжали Оруэллу, и поэтому так тягостно видеть, что отношение к нему и Эдварда Саида, и Реймонда Уильямса столь показательно лишено щедрости.
Для сомнений по поводу того, что же является истинной причиной возмущений Оруэллом, не остается места. С точки зрения многих официальных представителей левых он был повинен в величайшем грехе – «передаче оружия врагу». И он занимался этим не только в 1930-х годах, когда общее дело борьбы с фашизмом предполагало необходимость сомкнуть ряды, но и продолжал упорствовать в своих проступках в первые годы холодной войны и таким образом – «объективно», как обычно любят говорить, – встал на сторону консервативных сил. В отличие от многочисленных своих современников, чье отречение от коммунизма позже красочно воплотилось в драматических признаниях и мемуарах, в жизни Оруэлла никогда не было периодов русофильства, или поклонения Сталину, или пребывания в рядах сочувствующих. В середине 1940 года он писал, что в некоторых вопросах привык полагаться на свое нутро:
«Я знал о приближении войны между Англией и Германией с 1934 года, а с 1936 года я знал об этом абсолютно точно. Я чуял это нутром, и трескотня пацифистов с одной стороны и “народофронтовцев”[24]24
«Народный фронт» – распространенная в 1930-х годах концепция широкого политического союза левых и центристских партий (коммунистических и социал-демократических) для защиты демократии и прав трудящихся, а также для противостояния потенциальной угрозе фашизма. – Прим. ред.
[Закрыть], притворявшихся, что они боятся, будто Англия готовится к войне с Россией, с другой, никогда не сбивала меня с толку. Никогда не удивляли меня и такие ужасы, как русские чистки, потому что я всегда чувствовал, что это – не конкретно это, но что-то подобное – было заложено в сути большевистской власти».
Должны ли мы поверить, что Оруэлл (который доверил приведенное выше личному дневнику) был способен увидеть в Советском Союзе монстра на основании внутреннего литературного чувства? Утверждение это частично подтверждается колким обзором, написанным Оруэллом в июне 1938 года, в котором обсуждалась книга «Командировка в утопию» – журналистские мемуары Юджина Лайонса.
«Чтобы получить полное представление о степени нашего неведения о том, что действительно происходит в СССР, было бы неплохо попробовать перевести наиболее нашумевшее русское событие последних двух лет, дело Троцкого, на язык английских реалий. Произведя необходимую коррекцию, давайте представим, что левые – это правые, а правые – это левые, и мы получим следующее:
Находящийся на данный момент в изгнании в Португалии мистер Уинстон Черчилль строит заговор с целью сокрушить Британскую империю и установить в Англии коммунистический режим. Имея неограниченный доступ к русским деньгам, он преуспел в создании огромной черчиллевской организации, куда входят члены парламента, управляющие фабрик, служители римской католической церкви и «Лига подснежника» практически в полном составе. Почти каждый день общественности становится известно о новом подлом акте саботажа – то вскрывается заговор с целью подрыва палаты лордов, то вспышка ящура поражает верховых лошадей в королевских конюшнях. Выясняется, что 80 процентов бифитеров Тауэра являются агентами Коминтерна. Высокое должностное лицо почтового ведомства беззастенчиво признается в присвоении почтовых переводов на сумму в 5 000 000 фунтов стерлингов, а также в совершении другого преступления – оскорблении короны путем подрисовки усов на почтовых марках. После 7-часового допроса, проведенного мистером Норманом Биркеттом, лорд Наффилд покаялся в том, что уже с 1920-х годов подстрекает рабочих к забастовкам на собственных фабриках. Стандартные полудюймовые абзацы каждой газетной полосы сообщают о том, что в Вестморлэнде были застрелены еще пятьдесят черчиллевских похитителей овец, или о том, что владелицу деревенского магазина из Котсволда отправили в ссылку в Австралию за то, что она-де обсасывала леденцы и запихивала их обратно в банку. И в это время черчиллисты (или черчиллисты-хармсвортисты, как они сами стали называть себя после казни лорда Ротермира) не прекращают заявлять, что это они – истинные защитники капитализма, а Чемберлен и остальная его шайка – не более чем сборище замаскированных большевиков.
Любой, кто следит за событиями в России, понимает, что это с трудом тянет даже на пародию… Все, что происходит там, с нашей точки зрения, выглядит более чем невероятно, как невероятна теория заговора, по степени абсурда оно выходит за пределы реальности, будто это – прямая фальсификация. Это просто какая-то темная мистерия, и единственное, что видится в ней ясно, – непонятное ее признание в качестве положительной рекламы коммунизма со стороны коммунистов наших – что само по себе смотрится довольно мрачно.
Тем временем выяснение правды о сталинском режиме – если выяснение это возможно – представляется делом первостепенной важности. Социализм ли это или же чрезвычайно жестокая форма государственного капитализма?»
Оруэлл, отвечая на этот вопрос, склоняется к последнему. Его эссе достойно быть представленным такой длинной цитатой, поскольку из нее видно, во-первых, что Оруэлл способен писать иронично (в творческой манере, в которой не мог позволить себе часто практиковаться), а во-вторых, что он мог строить глубокие и сильные умозаключения на основе очень ограниченной информации. И дело было не только в коммунистах, которые принимали за чистую монету фантастические признания обвиняемых на московских процессах. Именитые юристы и королевские адвокаты, опытные репортеры и парламентарии, священнослужители различных конфессий – все находили предоставляемые в огромных объемах доказательства впечатляющими и убедительными. Обращаясь к небольшой аудитории New English Weekly, Оруэлл развил свои догадки, возникшие на основе чудовищности языка процессов, а также истерической их иррациональности, и объявил происходящее гигантским обманом.
Оруэлл опирался не только на свой инстинкт. В Испании он имел возможность из первых рядов наблюдать сталинистские инсценировки и фальсификации обвинений, находясь, сам того не осознавая, на волоске от участи жертвы. Более того, он сохранял, на что указывает его высказывание о «государственном капитализме», тесные контакты с маленькой и разрозненной группой интернациональных левых сил – сил, ныне практически забытых, частью которых, однако, были люди, заставшие темные времена и, невзирая на риски, рассказывавшие правду об угрозе тоталитаризма.
Члены этого движение носили обобщенное название троцкистов (или «троцкисто-фашистов», как окрестила их официальная линия Москвы). Оруэлл никогда не называл себя последователем Льва Троцкого, хотя фигура Троцкого действительно стала прототипом Эммануэля Голдстейна, преследуемого еретика из романа «1984», по поводу же собственного активного участия в создании армии ополчения и другой деятельности времен Второй мировой войны Оруэлл действительно говорил: «Англия несколько политически отстала, никто не обстреливает друг друга экстремистскими лозунгами, как это наблюдается на континенте, однако чувства всех истинных патриотов и всех истинных социалистов можно в основе своей свести к “троцкистскому” девизу: ”Война и революция неотделимы”». Должно быть, это была наиболее английская форма, в которой когда-либо представлялся космополитичный, не признающий национальных и государственных границ троцкизм: попытка Оруэлла связать лидера петроградских Советов с твердыми сторонниками «Армии папаш»[25]25
Народное прозвание добровольческих формирований в Великобритании времен Второй мировой. – Прим. пер.
[Закрыть] представляется делом почти, но все же не до конца смешным. Не до конца, поскольку параллельно с войной разворачивалась социальная и антиколониальная революция, революция, признаться, протекавшая медленно, в которой Оруэлл принимал достойное участие. Не до конца смешным также потому, что выраженные всем его творчеством собственные его взгляды, часто отождествляемые с чисто британскими добродетелями, сложились во многом благодаря непризнанному интернационалу оппозиционных деятелей, принявших на себя удар накатывающей «полночи века» – рожденной рукопожатием Сталина и Гитлера.
В письмах и дневниках Оруэлла можно найти информацию и ссылки на Виктора Сержа, одного из непосредственных участников русской революции, лично наблюдавших за тем, в какую сторону развернутся ее события; на С. Л. Р. Джеймса, литературного гения из Тринидада, написавшего «Черных якобинцев», историю гаитянской революции Туссена-Лувертюра, эффектно рассорившегося с Коминтерном и выпустившего одну из самых лучших книг всех времен, посвященных этике и истории крикета; на Бориса Суварина, одного из первых историков антисталинистского движения; и на Панаита Истрати, прозорливого аналитика практиковавшейся в Советском Союзе бездумной жестокости. (Совсем незадолго до своей смерти в 1935 году Истрати написал вступление к французскому изданию «Фунтов лиха в Париже и Лондоне» – выбранный им заголовок, «Коровье бешенство» (La Vache enrageé, франц.) в наши дни, когда многие знакомы с угрозой одноименного заболевания, звучит несколько странно и резко, однако название это отсылает к французской идиоме manger de la vache enragée, означающей «терпеть сильную нужду, бедствовать». Кроме того, так назывался выходивший в прежние годы в Париже сатирический журнал, где печатались постеры самого Тулуз-Лотрека.)
В этом есть что-то от политико-литературной химии или алхимии: правильная книга обязательно попадется на глаза правильному критику, а сложное дело найдет себе правильного интеллектуала. Оруэлл не замедлил отметить огромное значение романа «Возвращение из СССР» Андре Жида, ранней работы автора, который начинал с прославления московского режима, а затем с отвращением отвернулся от него. Редакция Partisan Review, блестящее сборище разносторонних талантов, независимых интеллектуалов Нью-Йорка, мыслящих достаточно широко для того, чтобы включить в свои ряды Дуайта Макдональда и Филипа Рава, решив сочетать в работе журнала антисталинскую политику и литературный модернизм как основной профессиональный интерес, стала подыскивать себе сотрудников и за океаном. В первую очередь выбор пал на Оруэлла, который в период между мюнхенским сговором и окончанием войны регулярно присылал редакции «Письма из Лондона». Уже будучи смертельно больным, Оруэлл в последние годы своей жизни познакомился с творчеством Давида Руссе, французского диссидента левого толка, чья книга «Концентрационный мир» стала первой литературной попыткой возвести образ «лагеря» со всеми ужасными ассоциациями, которые его сопровождают, в символ моральной катастрофы века. Предполагалось, что Руссе мог бы написать вступительную статью либо к французскому изданию «Памяти Каталонии», либо к французскому же изданию «Скотного двора»; Оруэлл одно время даже надеялся, что в работе над последним примет участие Андре Мальро, однако сильно сбавил энтузиазм, узнав о поддержке Мальро режима де Голля.
Необходимо внести ту же ясность и в некоторые практические, прямые вопросы. Оруэллу не требовалось никаких доказательств, чтобы поверить в ужасающий голод, охвативший Украину в 1930-х годах, хотя факт этот отрицался многими коллегами-журналистами, утверждавшими, что лично посетили места событий. В 1940-м – плохом году – он писал о поляках следующее:
«Среди целой чреды книг, написанных о Чехословакии и Испании, немного найдется томов, посвященных Польше, а эта книга вновь поднимает болезненный вопрос о судьбе малых народов. Так случилось, что недавно я наткнулся в газете левого крыла на обзор под заголовком “Фашистская Польша недостойна того, чтобы выжить”. Весь скрытый смысл состоял в том, что независимое государство под названием Польша было столь плохо, что введенное Гитлером откровенное рабство было для него предпочтительней. В период между началом войны и июнем 1940 года подобные идеи, без сомнения, получили большую популярность. Во времена Народного фронта мнение левого крыла заключалось в защите безумных положений Версальского договора, однако русско-фашистский пакт несколько расстроил представителей “антифашистской” ортодоксии последних нескольких лет. Стало модно высказываться в том духе, что маленькие нации доставляют одни неудобства, а Польша “столь же плоха”, что и нацистская Германия… Однако правда заключается в том, что польская армия сражалась ничуть не меньше французской против значительно превосходящих ее сил, при этом никак нельзя говорить о том, что Польша вдруг неожиданно посреди войны сменила сторону. Очевидно, что эта нация в тридцать миллионов душ, обладающая традицией долгой борьбы с императорами и царями, заслужила независимость в мире, где возможен национальный суверенитет. Польша, подобно Чехии, воскреснет вновь, а старые феодальные порядки, с частными церквями на территории замков и лесниками, братьями барона по отцу, исчезнут в прошлом навсегда».
Можно заметить, что Оруэлл воспользовался здесь словом «души», совершенно для него не характерным, однако помимо этого он, как всегда, тщательно старается не романтизировать жертв. За несколько месяцев до того, как было написано это эссе для New Statesman, появилось «1 сентября 1939 года», стихотворение У. Х. Одена (поэта, которого Оруэлл незаслуженно критиковал). В своем сверхъестественном произведении Оден говорит о том, что весь цивилизованный мир «погряз в глупости и ночи»:
Каким-то образом посланные Оруэллом сигналы были получены и переданы далее теми, кто был готов их уловить и передать другим. Это были сигналы того рода, что услышал много лет спустя Чеслав Милош из Польши, несмотря на то что человек, их передавший, уже ушел навсегда.
Ближе всего к тому, что хоть как-то можно описать в терминах троцкизма, Оруэлл приблизился в Испании, куда отправился, чтобы в Ленинских казармах Барселоны присоединиться к ополчению ПОУМ (Рабочей партии марксистского объединения, или Partido Obrero de Unificaciyn Marxista; эта партия, если не сам «троцкизм», пользовалась симпатиями левой оппозиции). Однако подобное стало возможным благодаря счастливой случайности – имеющимся у него старым связям с Независимой рабочей партией (ILP), которая, критикуя Лейбористскую партию слева, также занимала четкую антисталинскую позицию. (Наиболее значительным членом этой партии был Феннер Броквей, ставший позднее в парламенте лидером лейбористов, выдающийся защитник независимости колоний.) Большинство иностранных антифашистов в Испании либо уже вступили сами, либо были отобраны в ряды интернациональных бригад, действовавших под жестким контролем со стороны коммунистической партии. Оруэлл же попал в отряд инакомыслящих, что позволило ему с первых позиций наблюдать живую историю Каталонии, ставшей историей предательства революции.
Эти страницы – не место для последовательного и полного рассказа. Однако большинство хроникеров и историков сегодня сходятся в одном: в своей «Памяти Каталонии» Оруэлл говорил правду о намеренном ниспровержении Испанской Республики руками агентов Сталина, а также о необычайной жестокости методов, к которым они прибегали, чтобы уничтожить независимость левых Каталонии. Так получилось, что он стал свидетелем попытки вооруженного захвата власти коммунистами в Барселоне в начале мая 1937 года, и ставшие недавно доступными документы из советских военных архивов Москвы доказывают, что подготовка к полномасштабному путчу действительно имела место. Сопутствуй ей успех, и мы увидели бы еще один «показательный суд», по образцу тех, что инсценировались в Москве. Но даже несмотря на провал, великий каталонский лидер, основатель партии ПОУМ был похищен, подвергнут варварским пыткам и – оставшись несломленным – убит. Представитель коммунистов позднее заявил, что он якобы сбежал, чтобы присоединиться к нацистам.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?