Текст книги "Первый век Санкт-Петербурга. Путь от государева бастиона к блистательной столице империи"
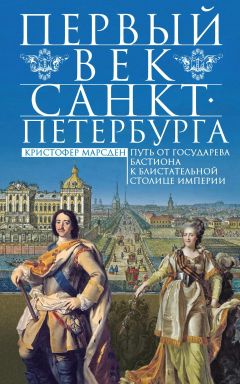
Автор книги: Кристофер Марсден
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)
Но это были лишь первые опыты. В 1725 году Растрелли снова отправился в путешествие. Какую часть Европы он посетил и как распределялось время его пребывания за рубежом, мы не знаем, хотя в свое время и было приложено немало усилий, чтобы определить маршрут юного Растрелли. Можно лишь строить предположения, исходя из стиля его последующих работ, которые напоминают различные архитектурные сооружения в стиле барокко в его разновидностях. Был ли его стиль, как предполагал француз Рео, сформирован в Париже, в школе Робера де Кота и Боффрана? Или же он провел, как предполагал итальянец Ло Гатто, пять лет в Риме? Встречался ли он с архитекторами Центральной Европы, чьи работы в Саксонии, Баварии и Австрии наверняка видел? Говорил ли он, как предположил Рео, с Бальтазаром Нойеманом в Париже? Делился ли он воспоминаниями о Петре и Петербурге с Чавери, который совсем незадолго до этого покинул Россию? В любом случае очевидно, что немецкое барокко оказало на него влияние.
Позднее, когда он подрос и его талант развился, Растрелли стал украшать свои творения во французском и итальянском духе, причем обильно; обилие украшений всегда было важной целью Растрелли. Его искусство не было героическим – хотя в целом творил он скорее в стиле рококо, чем в стиле барокко. Растрелли равнялся на работы современников, а не старых мастеров; в его произведениях можно заметить больше сходства с Нойеманом и Пёппельманом, чем с Бернини и Борромино. Хотя он и был итальянцем, похоже, итальянское барокко оказало на него влияние совсем в малой степени – возможно потому, что в Италии стиль барокко вышел из моды раньше всех в Европе. Как снова указывает Рео, его поздние работы вызывают в памяти такие строения, как Амалиенбург Кювилье близ Мюнхена, дворец Цвингер Пёппельмана в Дрездене и дворцы Фишера фон Эрлаха в Вене.
Намного интересней, чем это сравнение со столь отдаленными сооружениями – хотя мастера барокко в какой-то мере общались друг с другом, – тот факт, что мы впервые в истории архитектуры Петербурга встречаемся со стилем, корни которого лежат не только в традициях западного Ренессанса. Определенно корни творчества Растрелли лежат на Западе, и никто ни на йоту не может усомниться, что стиль Растрелли продукт общеевропейской культуры, – но этот стиль имеет индивидуальность куда более значительную, чем просто личные особенности в общепринятом стиле, какими, к примеру, характеризовался Чурригера. Эта индивидуальность весьма отличалась от всего, чему учили в студиях Парижа. Она имела российские корни.
Стиль, который создал Растрелли, без колебаний можно назвать русским барокко, но под этим названием не следует ошибочно понимать барокко, приспособленное к местным особенностям. Таким барокко является московское барокко, которое основывалось на местном архитектурном стиле Московии и западных идеях, проникающих в Россию через иностранцев на протяжении XVII века и через несколько поколений итальянских архитекторов, работавших в Кремле. Подобным барокко является и украинское барокко; этот термин часто используется для характеристики только некоторых определенных декоративных мотивов, используемых в зданиях Киева и вокруг него, которые были построены в подражание итальянским мастерам. Но это барокко в Москве и на Украине XVII века еще имеет традиционные черты и выглядит столь не по-европейски по сравнению со зданиями XVIII века, что его трудно назвать барокко. Поэтому, чтобы не было путаницы с этим старым русским барокко, мы будем использовать для характеристики стиля Растрелли, хоть это и неуклюже звучит, обозначение «стиль Растрелли» или «елизаветинское рококо».
Стиль этот на четыре пятых уходит корнями в Западную Европу, но оставшаяся одна пятая столь оригинальна, столь выразительна, столь отлична по характеру, что этот стиль мгновенно узнаваем как русский. Растрелли изучал церкви Москвы и укрепленные монастыри за пределами города, а также, возможно, древние церкви Новгорода, Пскова и Владимира. Он вобрал в себя религиозные традиции русской архитектуры и самую суть византийского стиля. Возможно, он побывал на Украине, в Киеве и изучил там последние постройки в лавре, где уже были воплощены советы западных мастеров. Он видел, как в зданиях XVII века сочетаются архитектурные традиции Запада и Востока. Какими неэлегантными, какими варварскими его искушенному глазу человека XVIII века, должно быть, казались эти неуклюжие гибриды в церковной архитектуре московского барокко. Без сомнения, были исключения – грациозные башни Новодевичьего монастыря могли ему понравиться. Можно почти ощущать воздействие этого монастыря на его работы.
И если чересчур смело утверждать, как некоторые, что Растрелли стал продолжателем русского барокко (то есть допетровского московского барокко) в XVIII веке, то почти наверняка можно говорить, что поздние здания XVII века, которые являются уже не чисто русскими по характеру, оказали на него сильное воздействие и стали одним из элементов его творчества, соединившимся с воспоминаниями Растрелли об увиденном в Риме, Версале, Вене, Мюнхене, Вюрцбурге и Дрездене.
Если бы Растрелли работал у Петра Великого, если бы он был немного старше, чтобы стать современником и коллегой Трезини и Швертфегера, возможно, его гений никогда бы не получил достаточной свободы, чтобы развиться. Но судьба оказалась на его стороне; он родился в очень удачный момент. Хотя Растрелли и имел привилегированное положение в окружении Петра и был в состоянии путешествовать и учиться за рубежом, он начал работать только после того, как царь скончался и германо-голландское влияние в Санкт-Петербурге ослабло. Он был за рубежом в правление Екатерины I и Петра II, когда в строительстве Петербурга наблюдался застой; времена Анны Иоанновны совпали с его ученичеством – у него в это время было мало работы, да и та временная. Время его художественной самореализации наступило при Елизавете Петровне, и в этом заключалась его большая удача. Он стал практически главным авторитетом в российском искусстве, поскольку все архитекторы Петра к этому времени или скончались, или покинули страну, а правительницы России нуждались в архитекторе, чей стиль имел бы именно такое направление, как у Растрелли. Никакой Леблон не подошел бы лучше.
Первые свои работы Растрелли создал в год восшествия на престол Анны Иоанновны. В 1730 году, когда императрица была в Москве после коронации (для которой Растрелли сделал рисунки различных элементов, таких, как триумфальные арки на улицах и украшения для саней, что использовались в маскарадной процессии), она дала указание Растрелли и Шеделю построить так называемый Анненхоф в Кремле. Это здание было сделано из дерева и заняло место прежнего дворца, построенного в XV столетии. Вскоре этот Анненхоф перенесли из Кремля на новое место, в район Лефортово на Яузе, притоке Москвы-реки. Позднее здание было разрушено, Растрелли построил дворец в той же части города. Его назвали Летним дворцом. Похоже, это был очень элегантный дом в стиле барокко, длинный, невысокий и грациозный, с изящной балюстрадой, идущей по всей длине фасада.
В 1732 году Анна навсегда покинула Москву. Растрелли последовал за ней в другой город. Когда императрица прибыла в Санкт-Петербург, она разместилась на берегу Невы, со стороны Адмиралтейства. Дом, в котором поселилась, ранее принадлежал графу Апраксину, президенту Адмиралтейства при Петре. Когда он скончался в 1728 году, дом перешел Петру II. Дом этот стоял рядом со вторым Зимним дворцом, построенным для Петра Великого архитектором Маттарнови и незадолго до переезда Анны обновленным Трезини. Здесь и Петр, и Екатерина I испустили свой последний вздох. О причине, по которой Анна Иоанновна проигнорировала старый Зимний дворец, можно догадаться по комментарию нашей знакомой миссис Рондо – она описывала в 1730 году этот дворец как «маленький, очень некрасивый, со множеством маленьких комнат, не имеющий ничего примечательного ни в архитектуре, ни в живописи, ни в мебели».
Видимо, по этим причинам Растрелли, создавший по приезде из Москвы в 1732 году здание школы верховой езды в столице, получил указание преобразовать дворец Апраксина в новый императорский Зимний дворец. При этом ему пришлось включить в новое здание сложный дворец Кикина и множество менее важных сооружений, находящихся в непосредственной близости. Подобное условие, естественно, сковывало воображение молодого архитектора – ему требовалось не создавать, а всего лишь перестраивать. В результате дворец, достаточное представление о котором дает множество планов и рисунков современников, получился удивительно негармоничным по своему внешнему виду. Неуклюжий, неровный фасад выходил на набережную Невы, в то время как невообразимо длинное заднее крыло отходило в сторону от берега параллельно восточному рву Адмиралтейства. Достоинств у здания было мало, разве что большой размер. Фон Хафен, видевший этот дворец в 1736 году, непосредственно после завершения, описал его как «большое квадратное здание высотой в четыре этажа», но добавил: «совершенно ничего примечательного в архитектуре». Внутри заслуживал внимания огромный зал, который мог похвастать потолком, расписанным Караваком. Миссис Рондо пишет, что комнаты были значительно больше, чем «зал Святого Георгия» в Виндзорском замке, который Элиа Эшмол в 1719 году назвал «самой красивой комнатой в мире». Это сравнение – если миссис Рондо точна в своих оценках – предполагает, что в Зимнем дворце были исключительно большие комнаты, поскольку зал в Виндзоре – хотя после изменений Георга IV он не столь беспрецедентно велик – имел примерно двести футов в длину и шестьдесят в ширину.
В 1736 году «третий» Зимний дворец был полностью завершен, и в тот же год Растрелли получил назначение на пост обер-архитектора императорского двора. Его возможные соперники в то время либо разъехались, либо умерли. Трезини после тридцати лет верной службы скончался в 1734 году в Санкт-Петербурге, его последние работы после смерти Петра были по большей части не архитектурными, а такими, как подставки для окропления святой водой при Екатерине I и иллюминация дворца Апраксина, крепости и Триумфальных ворот при возвращении Анны Иоанновны из Москвы. Швертфегер получил в 1733 году пенсию. Шедель, поработав в Москве с Растрелли, поехал на юг, в Киев, где и оставался до конца своих дней – и где мы с ним еще встретимся в своем повествовании немного позже.
В Петербурге остался Шумахер, построивший для прибытия Анны в Петербург в 1732 году Триумфальную арку. Шумахер занимал пост архитектора Академии наук, но был довольно незначительной фигурой. В 1735 году он построил Литейный двор на набережной Невы. Шумахер скончался в 1767 году в Петербурге. Странно звучит, но единственным, кто мог составить конкуренцию Растрелли, был русский по фамилии Еропкин, которого мы уже упоминали как преемника Мичетти. Петр послал его учиться в Рим за свой счет; похоже, Еропкин стал образованным человеком – он перевел Палладио на русский и владел замечательной библиотекой на латинском, немецком, французском и итальянском языках.
Но после нескольких предприятий, лишь часть из которых имела отношение к архитектуре (он строил дворец в Преображенском под Москвой примерно во время смерти Петра), частично занятый осушением и канализацией в Санкт-Петербурге, Еропкин не имел большого веса. Последние годы своей жизни он тихо провел в работе над монастырем Александра Невского. Помимо этого, следует отметить, что после 1721 года с Запада в Россию не прибыло ни одного сколько-нибудь заслуживающего внимания архитектора. Растрелли получил огромное поле деятельности.
Однако, несмотря на столь благоприятное положение, Растрелли первое время никак им не воспользовался, поскольку довольно длительное время отсутствовал в России. Когда он покинул в 1732 году Москву, ему пришлось заниматься строительством не только Санкт-Петербурга, но и в Курляндии, на территории, управлявшейся всесильным Бироном.
Каким-то образом он достиг благосклонности фаворита Анны Иоанновны. Эта связь между Растрелли, который, как никто другой, представлял итало-французский элемент в Петербурге, и Бироном, немцем, чьи усилия были направлены против растущего итало-французского влияния, весьма удивительна. Однако факт остается фактом – единственной действительно ценной работой Растрелли во времена Анны Иоанновны является дворец, построенный им для Бирона в Митаве (в наши дни Елгава в Латвии), местопребывании правительства Курляндии. Сооружение началось в 1737 году; первая часть дворца была закончена в 1740 году. Это обширное сооружение за пределами города, на острове, образованном двумя реками. Дворец совсем не характерен для стиля Растрелли – но сейчас мы не можем сказать, является ли это результатом тогдашней незрелости его таланта или же казарменная монотонность здания была выражением вкусов самого Бирона. То, что «третий» Зимний дворец намного более характерен для стиля Растрелли, заставляет предположить последнее. Растрелли создал еще две резиденции для Бирона в Курляндии – в Рухенхале и в Зиппельборфе. Они появились гораздо раньше, чем дворец в Митаве, и, по всей видимости, одновременно с Зимним дворцом в столице.
В 1739 году Растрелли снова вернулся в Санкт-Петербург, где разработал иллюминацию и винные фонтаны для празднования мира с Турцией. После смерти Анны Иоанновны в 1740 году – после некоторого периода сомнений – последовала ссылка Бирона в Сибирь, но слава Растрелли позволила ему продолжать службу и при новом дворе, несмотря на прежнюю связь с опальным министром. Удивительно, но взлет Растрелли начался в короткое время регентства весьма ленивой и явно не соответствующей своему месту регентши Анны Леопольдовны.
Хотя четырнадцать месяцев, отделявшие смерть Анны Иоанновны от переворота, приведшего на престол Елизавету Петровну, пролетели быстро – тем не менее, как бы нам ни хотелось приписать Елизавете инициативу в создании восхитительного Летнего дворца, который Растрелли начал в 1741 году, начало было положено все же при Анне Леопольдовне, несмотря на то что до своей ссылки она могла увидеть лишь его фундамент. По духу и ассоциациям он относится к Елизаветинской эпохе. Чтобы лучше понять эту эпоху, ощутить атмосферу двадцати беспокойных лет правления Елизаветы, следует хотя бы коротко остановиться на характере женщины, чья живая индивидуальность подвигала ее на экстравагантные поступки и для которой Растрелли создавал архитектурный фон.
VI
Елизавета Петровна
1741–1761 годы
Она имела разума, жизнерадостности и живости достаточно, чтобы приноровиться к французскому гению.
Кампредон
Кажется, что она была рождена для Франции, поскольку любила только внешний блеск.
Лефорт
Императрица Елизавета Петровна весьма отличалась от смуглой, суровой и мужеподобной Анны Иоанновны. Она была сама женственность. От своего отца Петра Великого унаследовала высокий рост, взрывной темперамент и энергию. От матери Екатерины I получила вспыльчивый, но добрый характер. От обоих унаследовала эмоциональность и большой запас жизненных сил. Петр Романов дал ей неистощимую, поистине эпическую жизнеспособность, Марта Скавронская – крестьянскую силу.
Уже в двенадцать лет у нее была прекрасная фигура. Елизавета была полна грации и излучала озорство и живость. Девушкой она любила болтать о чем-нибудь веселом, всегда была в добром расположении духа и ни на минуту не оставалась спокойной, постоянно находясь «одной ногой в воздухе», как писал о ней один саксонский священник. Внешностью она напоминала мать, чья массивная конституция, выразительные глаза и розовые щеки привлекли даже русского царя. Черты лица Елизаветы нельзя было назвать правильными – нос у нее был широк и довольно курнос, но большие живые глаза, «так похожие на глаза большой веселой птицы», были восхитительны. У нее были роскошные волосы каштанового оттенка, чистая кожа, белые зубы и маленький, хорошо очерченный рот с полными красными губами, цвет которых привлекал даже без помад. Говорили, что курносый нос совсем ее не портил. Это была откровенно привлекательная женщина, даже при некоторой своей вульгарности. Ее сексуальная привлекательность не отличалась утонченностью и интеллектуальностью – но противостоять ей было невозможно.
Характер тоже очаровывал. Казалось, Елизавета излучала веселье. Всегда учтивая и дружелюбная – что шло от сердца, – она была приветлива и общительна, конечно, всегда сохраняя должное достоинство. Никто не ощущал, как с Екатериной, что благожелательность императрицы объясняется расчетом. Ее улыбка не могла, как сказал Мэссон про улыбку Екатерины, «соответствовать случаю». У Елизаветы в самой натуре было делать людей счастливыми. В ее веселости было что-то игривое, но ненормальной эта веселость не казалась. Вот что миссис Рондо сказала о Елизавете, тогда еще царевне: «Я чувствовала к ней благоговейную любовь, и это сделало мой визит к ней удовольствием, а не церемонией. Приветливость и мягкий характер заставляют проникаться к ней любовью и уважением. На публике она неподдельно весела, кажется, у нее кружится голова от веселья, – но в личной беседе я услышала в ее словах столько здравого смысла и логических доводов, что убедилась, насколько неправильный вывод поначалу сделала о ее поведении. Она кажется легка в обращении. Я говорю «кажется», поскольку кто знает, что у нее в самом деле на сердце».
Миссис Рондо оказалась права в своих сомнениях. Елизавета без меры любила удовольствия. До самого последнего часа ее жизни удовольствия составляли предмет ее главных интересов. Она жила словно в вихре поиска новых удовольствий везде и в любое время. Ей не хватало знаний – до конца своих дней она считала, что до Англии можно добраться не пересекая моря. Вряд ли она читала книги, кроме религиозных, напечатанных особым крупным шрифтом. Елизавета не любила работать, самые неотложные дела она откладывала на месяцы и даже не взяла на себя труд ответить на два письма от Людовика XV, написанные им собственноручно. Елизавета предпочитала сплетни и компанию дам. Из серьезных вещей с почтением относилась лишь к религии. От безудержного веселья Елизавета внезапно переходила к долгим периодам набожности. Ее рвение к паломничеству и церковным праздникам в такие периоды были серьезным испытанием для всего двора. Елизавета при этом довольно часто посещала монастыри, где делала недолгие остановки.
При всей привлекательности императрицы ее фривольность, естественно, вызывала недовольство. Ее популярность при дворе и в армии не знала границ, девушкой она часто посещала казармы и была крестной матерью для всех солдатских детей, но с нашей стороны было бы справедливым дать высказаться и ее врагам, которые относились к ней более трезво и осторожно. Хитрый французский посол Ла Шетарди, которого пришлось выслать за его махинации, говорил, что Елизавета фривольна и расточительна и что на нее нельзя положиться; что она «посвятила себя чувственным наслаждениям». Лорд Макартни, прибывший в Россию вскоре после ее смерти, в своем докладе отзывался о ней очень враждебно. «Эта императрица, – писал он, – в своих женских недостатках и самонадеянности не знала границ. Она была чересчур большого мнения о своей внешности и столь ревниво относилась к другим красавицам при дворе, что это становилось в ее глазах преступлением. Разрешая себе всякие излишества в грехах и не сдерживая свой характер, она было непоколебимо сурова с теми, кто, следуя ее примеру, разрешал себе то, что разрешала она. Она расточительна, несдержанна, мстительна и неразборчива».
Для некоторых нелицеприятных оценок Макартни было основание. Да, она была расточительна – но ее преемники на русском троне имели много причин благодарить ее за это. Да, она была тщеславна, а иногда и сурова, и это хорошо доказывает случай с госпожой Лопухиной. Лопухина была хорошенькой, слишком хорошенькой, чтобы это было безопасно в подобных обстоятельствах, и однажды появилась на балу – из бравады или по недомыслию – в розовом платье и с розовыми розами в волосах, тогда как в розовом была сама Елизавета, а этот цвет запрещалось использовать придворным дамам, поскольку он был любимым цветом императрицы. На виду у всех придворных Елизавета заставила Лопухину встать на колени, приказала слугам принести пару ножниц и срезала злосчастные розы вместе с локоном волос, на которых они держались. После этого Елизавета отвесила Лопухиной пару свирепых пощечин и отправилась танцевать дальше. Когда ей доложили, что несчастная девушка упала в обморок, Елизавета просто пожала плечами и произнесла: «Она только получила то, что заслужила, маленькая дурочка».
Да, Елизавета была тщеславна, и это ее качество проявилось еще ярче, когда она стала старше и красота ее увяла; в последние годы жизни она была капризной и щеки ее камеристок часто алели от пощечин. Но императрица быстро прощала и в глубине души была добрым человеком. Ей доставляло удовольствие выступать в роли миротворца – так же как и в роли свахи. Императрица ненавидела кровопролитие, плакала при каждом известии о победе своей армии (ее эмоциональную слабость Анна Иоанновна никак не могла понять), не разрешала казнить опальных политиков, заботилась о хорошем обмундировании солдат и, когда узнала, что Лиссабон разрушен землетрясением 1755 года, повелела отстроить часть города за свой собственный счет, хотя Россия не имела никаких дипломатических отношений с Португалией.
Лорд Макартни пишет о неразборчивости. Это можно понимать либо как неразборчивость в средствах достижения цели, либо как неразборчивость в любовных связях. Первое следует сразу же отбросить – при всех своих недостатках Елизавета была безукоризненно честным человеком. А вот насчет любовных связей приходится признать, что, изобразив ее в обнаженном виде еще совсем маленькой девочкой, Каравак точно предсказал ее позднейшую нескромность – однако, если судить с чисто арифметической точки зрения, ее любовный список гораздо меньше, чем список Екатерины, которой Макартни восхищался. Он пишет о невоздержанности. Может быть, но не в смысле алкоголя. Малодушие? Вряд ли – несчетное число раз она демонстрировала свое мужество, так же как и щедрость. Непостоянство? Это может показаться невероятным, но она сохраняла привязанность даже к своим оставленным любовникам.
А вот в чем нельзя усомниться – так это в том, что Елизавета отличалась редкой леностью. Ничто не доставляло ей большего удовольствия, как сидеть или лежать в нижнем белье, беседуя со своими дамами. Главными среди этих дам и центром всех дворцовых интриг были Мавра Егоровна Шувалова, Анна Карловна Воронцова, Настасья Михайловна Измайлова и некто Елизавета Ивановна, таинственная и вызывающая некоторое подозрение пожилая женщина, которую императрица использовала для различных щекотливых поручений и кого проницательный граф Строганов назвал «министром странных дел», по аналогии с постом канцлера, который был министром иностранных дел. За исключением воскресных дней и выходных, императрица редко покидала свои апартаменты, хотя двор должен был являться в шесть часов в прихожую независимо от того, выходила к ним императрица или нет. Придворные дамы, чтобы скоротать эти скучные часы, играли в карты.
Жизнь Елизаветы была крайне неупорядоченной. В то время как распорядок дня предусматривал для придворных дам обед в полдень, ужин в шесть, а сон в десять, сама императрица часто обедала в 5–6 часов дня, спала после обеда час или два, ужинала в час или три утра и отправлялась в кровать после восхода солнца (часто даже в семь часов). Когда Елизавета уходила к себе, то часто лежала не засыпая, в то время как с полдюжины ее дам тихо переговаривались у кровати, мягко щекоча ей подошвы[20]20
Императрица боялась заговоров и приказывала фрейлинам ночью не давать себе спать. (Примеч. пер.)
[Закрыть]. Очень многие стремились попасть в постоянный состав щекотальщиц, поскольку эти вечерние часы давали превосходную возможность передать личные просьбы и испросить милость для кого-либо.
Спальня императрицы была во власти таинственной фигуры по имени Василий Иванович Чулков, бывшего истопника при дворцовых печах, которого подняли до звания камергера. Каждый вечер он приходил с матрасом и подушками и проводил, словно собака, ночь у изножья кровати императрицы. На рассвете, когда после ухода щекотальщиц приходили Разумовский, Шувалов или кто-либо, кто был в данное время фаворитом, Чулков оставался в комнате. В полдень Елизавета поднималась с кровати и очень часто находила Чулкова сладко спящим. Рассказывают, что она его обычно будила, вытаскивая подушку из-под головы или щекоча у него под мышками. Обычно он, поднявшись, гладил ее плечо, называя «дорогой белой лебедью».
Но хотя умственно императрица и была ленива и почти не способна сосредоточиться, ее физическая энергия была неукротимой.
Елизавета очень любила танцевать. Это было частью ее натуры; ее жизнь сама была словно танец. Все современники признают ее несравненной и наиболее грациозной танцовщицей своего времени – и императрица следила за тем, чтобы двор имел возможность в этом убедиться. Балы проходили очень часто. Элегантная сдержанность менуэта, который впервые появился в Париже в 1650 году, стала популярной в Санкт-Петербурге так же, как и прочих европейских столицах. На своих придворных балах Елизавета чередовала его с кадрилью, с английским придворным танцем, который она очень любила, с полонезом и дикой русской пляской. Ни мало ни много – четыреста пар обычно принимали участие в балах в огромных помещениях дворца, благоухающих от цветущих апельсиновых деревьев и охлаждаемых иллюминированными фонтанами и каскадами.
Для того чтобы придать своим балам более официальный дух, императрица поддерживала существовавшую со времен Анны Иоанновны традицию кадрилей в маске. Обычно на балу было четыре кадрили; в каждой участвовало двенадцать – шестнадцать пар, помимо ведущей пары. Каждую кадриль следовало танцевать в отдельной маске. К примеру, в 1739 году, во время одной из свадеб при дворе Анны Иоанновны в первой кадрили, которую вели жених и невеста, все были одеты в оранжевое домино, маленькие оранжевые шапочки с серебряной кокардой; маленькие кружевные рюши оранжевыми тесемками были повязаны вокруг шеи. Во второй кадрили, которую вела Елизавета, все были облачены в зеленые домино с золотыми кокардами. Во время третьей кадрили танцующие были в розовом и с серебристыми кокардами. Перемена нарядов сделала бы праздник веселее, но, к сожалению, жесткий этикет по рангу и следованию иногда весьма мешал живости процессии. Когда Екатерина в 1744 году впервые прибыла в Петербург, она пришла в восхищение от великолепной и увлекательной жизни двора, но горько сетовала на «неприятные» балы.
К примеру, маскарад после свадьбы Екатерины начался в семь часов вечера. Четыре кадрили были в масках, цвета при этом шли в следующем порядке – сначала розовый и серебряный, затем белый и золотой, после этого синий и серебряный и, наконец, желтый и серебряный. Когда Екатерина вошла в зал для балов, она обнаружила, что танцевать нужно с определенным партнером и с определенного места, указанного на полу. «Но, – писала она, – для меня было очень трудно подчиняться этим указаниям, поскольку на балу не было ни одного дворянина, который был бы способен танцевать. Всем этим людям было от шестидесяти до девяноста лет, и самым старым был маршал Ласу, мой партнер. Это было так неприятно, что я чуть не заплакала».
Несчастная Екатерина: галантный пожилой дедушка, как и его сверстники, был совсем неподходящей компанией для живой девушки шестнадцати лет на ее свадебном балу. Екатерина попросила распорядителя дать ей другую пару; он передал ее просьбу императрице, но та повторила свое распоряжение, что пары не могут меняться, и потому Екатерине пришлось начать танцевать с престарелым маршалом. Этот бал проходил в Зимнем дворце. Следующим вечером такие же кадрили повторились в Летнем дворце. В Зимнем дворце ужин подавался в галерее, на полукруглых столах, поставленных вокруг фонтана, навевающего прохладу. В Летнем дворце было множество маленьких столиков, за которые каждый мог сесть по желанию. Вечером после этого был маскарад для народа; за маскарадом последовала театральная комедия, которую играли французские актеры. В промежутках все желающие могли утолить голод или жажду, закусывая в маленьких домиках. Вторая часть пьесы закончилась только в три часа ночи. На следующий вечер празднеств состоялся еще один бал, за которым последовал фейерверк.
Осенью и зимой того года фейерверк следовал за фейерверком. В неделю их проводили по два, по очереди – один при дворе, а один в каком-нибудь из домов. В императорских дворцах существовал распорядок на всю неделю: в воскресенье – бал, в понедельник – театральное представление, часто балет или опера, дворцовый маскарад давался в среду, комедию смотрели в четверг. Екатерина писала, что, хотя придворные притворялись, что рады всем этим балам, на самом деле считали их скучными, поскольку, несмотря на маскарадные маски, на балах было слишком много правил. Поскольку на балы приходило мало людей, залы дворца всегда казались пустыми, тогда как на балы в частных домах народ набивался битком.
Но маскарады не единственное, что внесла Елизавета в балы. На протяжении всего ее правления русский двор вынужден был мириться с особенностями характера самой Елизаветы. Хотя эти особенности были безобидными, но ярко говорили о самолюбовании императрицы. Это было довольно странно, поскольку самовлюбленной Елизавету назвать было нельзя. Но она очень гордилась красивой формой своих ног и маленькими ступнями (даже критически к ней настроенная Екатерина говорила, что у Елизаветы была маленькая ножка), и, чтобы продемонстрировать это другим, она часто надевала мужскую одежду. Для этого она ввела то, что назвала «метаморфозами», когда на балах мужчины одевались женщинами, а женщины мужчинами. Если вспомнить о весе, размерах и сложности бальных нарядов того времени, то стоит пожалеть иностранных дипломатов, которые находили присутствие на балах самой трудной из своих обязанностей в России. Иногда подобные «метаморфозы» проводились дважды в неделю. Единственным временем, когда придворные могли быть спокойны, что им не объявят про новые «метаморфозы», были дни поста, в которые набожность императрицы превалировала даже над ее любовью к развлечениям.
На «метаморфозах» дамам разрешалось одеваться так, как они хотят, за исключением костюмов паломников, чего не допускала религиозная душа Елизаветы, и костюмов клоунов, которые она по каким-то причинам считала неприличными. Сама Елизавета обычно одевалась французским мушкетером или казачьим гетманом. Ее любимым костюмом, однако, было платье, которое напоминало об ее покойном отце. Елизавета любила наряжаться голландским матросом и требовала обращаться к ней «Михайловна», в память о том времени, когда Петр Великий работал на верфи в доках Заандама в Голландии под именем Петр Михайлов (или Петр Бааз, как называли его голландские матросы).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































