Текст книги "Ночи под каменным мостом. Снег святого Петра"
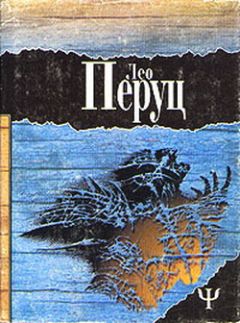
Автор книги: Лео Перуц
Жанр: Зарубежное фэнтези, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 25 страниц)
Едва переступив порог, Ланг уставился на лежавшие на столе мешочки с золотом и платежные поручения. Как и всегда, он уже прикидывал в уме, какою суммой на сей раз можно будет удовлетворить императора, а какую оставить себе. Греческая мраморная статуя, которую император купил у антиквара в Риме, прибыла в Прагу и должна быть оплачена. Были и другие неотложные долги. К тому же император собирался приобрести картину Дюрера «Поклонение волхвов» из церкви Всех Святых в Виттенберге, которую предложил ему магистрат города.
Однако его речи ничем не выдавали тревожащих его мыслей. Он сказал Мейзлу:
– Надеюсь, я пришел вовремя. На улице ветер, вот-вот хлынет дождь. А как со здоровьем у моего дорого друга?
Он схватил руку Мордехая и сжал ее так, чтобы услышать и оценить пульс. «А ведь ему худо, – подумал он с удовольствием. – Пульс-то какой частый. Наверняка лихорадит…»
На вопросы о здоровье Мейзл всегда отвечал одинаково: «Спасибо, ничего нового». Каково ему было на самом деле, он не согласился бы открыть никому.
– Все хорошо, благодарю вас, – заявил он. – Что же касается сегодняшнего недомогания, то к утру оно пройдет.
И он высвободил руку из любопытных пальцев императорского камердинера.
Филипп Ланг еще раз глянул на него и составил свой прогноз. Не было сомнения, что в этом изношенном теле уже не осталось сил противостоять чахотке и близящемуся концу. Завтра он может доложить своему господину, что «тайного сокровища», всех этих одинарных и двойных дукатов, розеноблей и дублонов остается ждать не более двух-трех недель. И вовсе не половина, а все, что оставит еврей Мейзл в деньгах и имуществе, должно было по плану Филиппа Ланга достаться императору. Ибо лев и царь не делятся ни с кем.
Мейзлу же он сказал:
– Мы должны радоваться, что живем в такие времена, когда врачи сделали множество великолепных изобретений, которые они умеют применять нам на благо.
– Да, это хорошо, – согласился Мейзл. – Но я не прибегаю к помощи врачей. Мне и так становится лучше день ото дня!
– О, это доброе известие! Я с радостью доложу об этом всемилостивому господину, – заявил Филипп Ланг. – Мой высочайший господин строго-настрого наказывал мне предостеречь вас, дабы вы берегли свое здоровье и лечились всеми возможными средствами.
– Что ж, из почтения к повелению Его Величества я сделаю это, – согласился Мейзл. – Да умножит Господь мира жизнь, славу и благополучие Его Величества!
Затем, покончив с любезностями и этикетом, они перешли к деловому обсуждению.
Около полуночи, когда после долгих переговоров партнеры пришли к согласию, Мендл принес вино, холодные пирожки и горячие, испеченные в оливковом масле миндальные лепешки, которые он только что получил из кондитерской. От души выпивая и закусывая, Филипп Ланг рассказывал о событиях и обычаях при императорском дворе, где так часто происходят удивительные вещи. Например, он поведал о том, что камердинер барон Пальфи держит особого слугу, который всякий раз, как барон бывает рассержен, обязан вместо него ругаться самой грязной площадной бранью, ибо сам он чересчур богобоязнен. О том, что испанский посланник дон Бальтазар де Цунига каждую неделю обманывает свою молодую и прелестную жену с новой любовницей, но при этом никогда не затевает интрижек с женщинами по имени Мария, так как боится прогневить Богородицу. О том, что Мартин Руланд и итальянец ди Джордже, ученые господа при дворе императора, один из которых строит вечный двигатель, а другой шлифует параболические зеркала, вечно вздорят между собою, потому что каждый подозревает, будто другой получает тайком более высокое вознаграждение за свои заслуги. Стоит им столкнуться нос к носу, как они начинают присваивать друг другу больше почетных титулов, чем существует букв в немецком и итальянском алфавитах. Один рычит: «Обманщик! Ганс-дурак! Пес рваный! Козел ублюдочный!» – а другой орет: «Birlone! Furfonte! Mescalzone! Furbo!»[34]34
Потаскуха! Падаль! Вонючка бесштанная! (итал.).
[Закрыть], и это при том, что император обоим должен жалованье не за один год. А молодой граф Хевенхюллер, лейтенант конной гвардии императора, вернулся с турецкой войны с сабельным шрамом поперек шеи. Удар клинка пересек ему сухожилие, так что ему приходится носить для поддержки головы серебряный ошейник, называемый бандажом. И вот однажды, когда он за офицерским столом пожаловался на плохие времена, дороговизну и на то, что ему вечно не хватает денег для интимных развлечений, его визави, капитан арбалетчиков, предложил: «А ты заложи свой ошейник, дурень, вот тебе и будет на что сбегать к своей курвочке!» Ну, тут и пошла потасовка – вплоть до сабель!
Он замолчал, потому что в этот момент Мордехая Мейзла вновь охватил мучительный приступ кашля, и в дверях появился Мендл с кружкой лекарственного настоя наготове. Он как тень проскользнул к хозяину, принял из его рук платочек и подал ему новый.
– Это ничего, – прохрипел Мейзл, когда кашель утих. – Всего лишь легкий кашель. Это все от сырости в воздухе. Завтра, Бог даст, опять установится теплая и сухая погода, и все пройдет.
И он кивнул Мендлу, чтобы тот вышел.
– А до тех пор, – посоветовал Филипп Ланг, – вам бы надо рассыпать соль во всех помещениях, где вы бываете, да побольше! Ведь соль для воды как магнит для железа, она и высушит воздух. Венгерские и португальские вина, которым он отдал должное за ужином, ударили ему в голову. Есть люди, которые, чуть выпьют лишнего, становятся задирами и начинают искать ссоры, а другие, напротив, вешают нос, льют слезы и жалуются на то, как скверно устроен мир. Филипп Ланг не относился ни к тем, ни к другим. Вино делало его болтливым и высокопарным. А потому он принялся безудержно толковать о себе, о своих дарованиях и о могуществе, которого он якобы достиг. Он утверждал, что за ним бывает последнее слово во всех делах у императора. Чтобы услужить друзьям, он может свернуть горы, и ничто против его воли не сдвинется с места. Бывает, что иной высокородный господин тщетно добивается его дружбы, но уж если кто оказывается ее достоин, так тому можно поистине позавидовать. И, подняв свой бокал, он осушил его за здоровье дорогого друга Мордехая Мейзла, за его благополучие и грядущее счастье.
– Пока я остаюсь на своем месте, – сказал он, – и присматриваю за делами в королевстве, мой всемилостивый господин может проводить время по своему усмотрению – за музыкой или созерцанием картин в кунсткамере.
Мейзл молча обдумывал про себя эти слова. Он был много наслышан об этом странном человеке, которого называли избранным императором Римским и королем Богемским и который позволял вертеть и крутить государственными делами своим камердинерам и цирюльникам. Вот и утром господин Словский, которому он сократил вдвое срочную выплату по векселю, опять рассказывал ему о своем царственном господине. «Он не любит людей, – сказал гофкамердинер. – Он их ни во что не ставит, презирает и часто высмеивает. Окруженный шумной сворой живописцев, музыкантов, разного рода рыцарей удачи, обманщиков, ученых и артистов, он, в сущности, проводит свои дни в одиночестве».
Он, Мордехай, был тоже одинок в своем большом доме, где целыми днями не стихал шум и царила деловитая суета.
– И почему это, – спросил он у Филиппа Ланга, – Его Величество император Римский, да умножит Бог его дни и его славу, не имеет ни жены, ни ребенка?
– Вы очень прямо выразились, – с легким неудовольствием откликнулся Ланг. – Но, с другой стороны, почему бы нам и не поговорить с открытым сердцем, ведь мы уже не один год связаны дружбой? Почему бы мне не сказать вам правду? В проектах женитьбы недостатка не было: велись переговоры с Мадридом и Флоренцией, носились взад-вперед секретные курьеры, привозили портреты царственных девиц кисти знаменитых мастеров, но мой всемилостивый господин не желал и пальцем пошевелить ради брака, и всякое слово пропадало всуе…
С минуту помолчав, он продолжил приглушенным голосом, словно кроме них с Мейзлом в комнате был еще некто третий, которому не следует знать столь секретные вещи.
– Мне, однако, всемилостивый господин доверился и сказал, что не хочет брака, ибо ждет встречи с любимой своего сердца, которая ушла от него, что никогда не забудет ее и что она всегда будет в его душе. Он говорил о ней в такой странной манере, что я многого просто не мог понять. Он сказал, что кто-то вырвал ее у него из рук, но как это случилось, я так и не смог уяснить. Знаю только, что с тех пор она больше не приходила к нему. А потом господин сказал, что боится, как бы ее не поразил гнев Божий, из чего я и заключил, что она была женой какого-то человека.
Когда Мейзл услышал из уст Филиппа Ланга о «любимой сердца», его собственному сердцу стало так тяжко, что он не мог понять, почему оно все еще бьется и стучит, и полнится болью, и не хочет остановиться навеки…
Он перевел дух и стал думать о том, отчего это вдруг его охватила такая тревога и печаль – ведь ничего дурного он не услышал. Он даже удивился своему состоянию, а потом ему пришло на ум, что он совершил неправильный поступок, осознание которого так тяжело легло ему на душу. Он никогда в глаза не видел человека, с которым теперь был связан коммерцией и завещанием. Этого странного человека, называвшегося римским императором и состоявшего из сплошных загадок и причуд, из великого блеска и великолепия. Он решил, что причиной его тоски и впрямь была мысль о завещании, и как только он утвердился в этом решении, на сердце у него стало легче. И чем больше он раздумывал над этим, тем настоятельнее становилось его желание увидеть императора.
С этим он и обратился к Филиппу Лангу. Запинаясь и с трудом подбирая нужные слова, он изложил ему, как горячо он желает лично принести благодарность римскому императору за все благодеяния, милости и свободы, которые он от него получил. При этих словах Ланг воззрился на него как человек, которому подсыпали хины в муку.
– Я не ослышался? – прошипел он. – Вы говорите всерьез? Вы хотите на прием к Его Величеству императору? Да кто же это – шел бы он к палачу! – вложил вам в голову такую бессмыслицу?!
Внутри его поднялась злоба, переходящая в инстинктивный страх. Он решил, что Мордехай Мейзл задумал раскрыть его двойную игру и обвинить его перед императором. Да, но каким образом этот еврей мог узнать, что он, Филипп Ланг, в качестве скромного вознаграждения за свою посредническую деятельность оставляет себе пятую, а иногда и четвертую часть императорской доли?! Или у этого жида Мейзла повсюду имеются осведомители? «Что же за безбожный, коварный и предательский народ эти жиды, – сказал он себе в горчайшей злости. – Вечно они думают о всяких пакостях и не хотят вести себя спокойно, как подобает людям».
– Его Величество, – сказал Мордехай Мейзл, – оказал мне великую честь и благодеяние. Он сделал для меня больше, чем какой бы то ни было другой государь для людей моей веры. Поэтому я обращаюсь к вам с усерднейшей просьбой…
– Non sepuo[35]35
Я не могу! (итал.).
[Закрыть]! – сердито оборвал его Ланг. Он родился в Триентском округе и всякий раз, когда волновался или злился, пересыпал свою речь итальянскими словами. – Non sepuo. Это… невозможно. Этого нельзя. Вы не знаете двора. Вы понятия не имеете о том, как подобные дела решаются у императора. Посланник короля Англии, к примеру, ждет уже два месяца, чтобы передать Его Величеству грамоту, но так и не может добиться приема. Он оскорбляется, пишет протесты, грозится уехать обратно, но все без толку. Господин полковник фон Гвандероде, которому должно вручить императору письмо курфюрста Бранденбургского, тоже до сих пор не допущен. Князю Боргезе, интернунцию и родному племяннику Его Святейшества Папы, император не может отказать, зато требует изложить дело коротко, не тратя лишних слов, ибо он, Его Величество, и без того отягощен многочисленными заботами. А вы хотите попасть к Его Величеству! Что можете вы донести до ушей моего всемилостивого господина, какую еще болтовню вы уготовили ему? Разве у вас есть основания для жалоб? Или вы не знаете, что я – как это у вас называется? – «огэв исраэль», друг евреев? И разве я не был вам всегда словно брат?
– Я не хочу приносить никаких жалоб, – возразил Мейзл, – и тем более не хочу ничего передавать. Я хочу лишь возблагодарить Его Величество за оказанные ласку и милость.
– Вот это хорошо! – воскликнул Филипп Ланг. До него наконец дошло, что хотя Мордехай Мейзл и упорствует, но его намерение, в сущности, безобидно и в случае каких-либо неожиданностей он, как камердинер Его Величества, легко сможет защитить себя. А потому он продолжил совсем иным тоном: – Моя дружба к вам столь велика, что я, возможно, помогу исполнить ваше желание, даже если это и будет трудно. Только об одном я прошу вас: наберитесь немного терпения. Если это дело не выйдет сегодня или завтра – ничего не потеряно. Я должен выбрать удобный день и подходящее место, чтобы сообщить о вашей просьбе Его Величеству с глазу на глаз. Дело в том, что мой всемилостивый господин хочет действовать с большой осторожностью. Он никогда и ни в чем не спешит и ничего не предпринимает в неурочный день или час. Поймите меня правильно и подождите немного. Две-три недели – это все, чего я прошу.
В этот момент Мордехай Мейзл увидел его насквозь. По фальшивому звучанию его голоса и слишком слащавому выражению лица он смог заключить, что скрывается за гладкими фразами Ланга. Ланг уже числил его в покойниках и давал ему всего лишь две-три недели жизни. Если бы ему только удалось, он употребил бы все усилия для того, чтобы Мейзл вовсе не повстречался с императором.
– Благодарю вас, я все понял, – проговорил Мордехай Мейзл.
Филипп Ланг оставил свою коляску на Николаевской, и Мендлу пришлось проводить его с фонарем, так как в паутине узких, извилистых улочек ночью немудрено было и заблудиться.
Когда он вернулся в дом на площади Трех Колодцев, то застал хозяина еще на ногах.
– Когда взойдет солнце, пойдешь в мясные лавки, – приказал ему Мордехай, – и спросишь, кто из мясников на этой неделе будет отвозить в «Олений ров» венгерскую говядину для зверинца!
В еврейском городе было несколько человек, которые могли видеть римского императора, когда им вздумается. Это были мясники и их работники. Дело в том, что пражские мясники-евреи были обязаны ежедневно привозить по 34 фунта свежего мяса для двух императорских львов, орла и других хищников в парк «Олений ров» и ввиду того беспрепятственно пропускались со своими повозками в ворота замка. А император почти никогда не упускал случая присутствовать при утреннем кормлении своих зверей. Он сам следил, чтобы каждому досталась полагающаяся ему часть – а обоим львам, которых он лично укротил и дрессировал и с которыми чувствовал себя магически связанным одними и теми же созвездиями, даже давал мясо из собственных рук. Такой же привилегии удостаивался и орел, одиноко и печально сидевший в своей клетке.
Надев на себя кожаный фартук, перепоясавшись ремнями для заплечной сумки и нацепив на пояс маленький мясницкий топорик, Мордехай Мейзл с мясником Шмайе Носеком переехал через Влтаву по мосту, ведущему в Градчаны. К полудню они должны были добраться до «Оленьего рва». Миновав ограду, которой был обнесен зверинец, они остановились перед домиком привратника, нагрузились мясом и прошли остаток пути пешком, потому что почуявшая запах львов лошадь тряслась и не желала дальше ступить ни шагу.
День выдался холодным – под ясным небом гулял пронизывающий ветер, взметавший опавшие листья. Дорожка, по которой они шли, провела их сначала через фруктовый сад и огород, а потом пошла по лугу. Они миновали кустарник и пересекли буковую рощу, где жили косули и лисицы. А выйдя из рощи, очутились перед боковым флигелем замка; к нему-то и примыкал зверинец.
Под сенью древних буков и вязов стояли клетки и вольеры из толстых железных прутьев. Ручной медведь, который привык клянчить кормежку, приносимую с дворцовой кухни, предоставленный самому себе топтался по дорожкам. В маленькой землянке, вровень с травой крытой черепицей, дежурили сторожа. Их было трое, но навстречу им вышел только один. И пока под рычание львов и визг обезьян он проверял и взвешивал мясо, мясник Носек указал Мейзлу, через какие ворота император выходит в парк. Он описал и его наружность – по его словам, это был невысокий, коренастый мужчина с курчавой бородкой, очень быстрый в движениях. В это время года на нем обычно бывает короткий плащ с меховым подбоем и золотой каймой, сшитый из материи, которую Носек оценил в полгульдена за локоть. Но главное – императора было легко опознать по тому, как он выбрасывает при ходьбе правую руку, словно указывая себе путь своей узкой кистью с узловатыми голубыми жилами. Мейзлу не придется долго ждать: звери голодны, и из окон императорских покоев уже наверняка слышно рычание львов.
Когда мясо было взвешено и хорошее его состояние засвидетельствовано, они получили разовую плату: четыре новеньких серебряных богемских гроша мяснику и полгроша – работнику.
Тем временем из землянки вылезли два других сторожа, чтобы встретить императора. Но его пока не было видно. Шмайе Носек обратил внимание на помощника садовника, который возился неподалеку от них у шпалера розовых кустов, не спуская глаз с дворцовых ворот. По мнению Носека, он вовсе не был похож на мальчишку-садовника и уж во всяком случае плоховато управлялся с ножом и садовыми ножницами. Носек ничуть не удивился бы, если бы вдруг оказалось, что этот юноша, кто бы он ни был, пролез сюда с помощью садовника для того, чтобы обратиться к императору.
Щитоносцы у ворот как по команде вскинули свои алебарды, затем – ать, два, к ноге! – воткнули их древка в землю, и ворота отворились. Император в своем плаще с золотой каймой вошел в парк, слегка выбрасывая вперед правую руку, – точь-в-точь, как и описывал Носек.
Минувшей ночью Рудольф II был измучен кошмарами, в которых его младший брат Матиас, австрийский эрцгерцог, преследовал его в образе вепря. Когда же он пробудился, то к тоске, которая постоянно одолевала его душу, добавились страх и смятение ночного кошмара, от которых он никак не мог отделаться. Дежуривший в то утро второй камердинер Червенка умел, когда представлялась возможность и надобность, несколько поправить настроение императора. На этот раз он велел провести под окнами спальни испанских и итальянских коней императора. Вид этих горделивых животных, как всегда, порадовал Рудольфа, и он как был, в одной пижаме, высунулся в окно, не обращая внимания на резкий ветер, врывавшийся в комнату. Он склонился наружу и окликал по имени то одного, то другого скакуна: «Диего! Бруско! Аделанте! Карвуччо! Конде!» И каждый конь, которого он звал, подымал голову и звонко ржал в ответ. И все же тоска не вполне отошла от сердца Рудольфа…
После того как ему накрыли стол для завтрака, в покое появился истопник Броуза с совком для золы и скребком, намереваясь убрать пепел из камина. Император подозрительно взглянул на него и спросил:
– Скажи-ка, Броуза, что у тебя на уме? Ты держишься за меня или за герцога Матиаса?
– Куманек, – отвечал Броуза, не прерывая своего занятия, – что мне до вас обоих? Я держусь за метлу, кочергу и совок, потому что это моя обязанность. А вы с Матиасом нашпигованы одним салом, и для бедных людей один не лучше и не хуже другого…
– Ты считаешь себя бедным человеком? – усмехнулся император. – Да ты богач – ведь у тебя всегда найдутся сбережения. Не хочешь ли ссудить мне сотню гульденов? Мне как раз не хватает денег!
Броуза оторвался от работы и обратил к императору свое плосконосое, припудренное угольной пылью и пеплом лицо.
– Это можно, – сказал он. – А какое поручительство ты мне даешь и что я получу в залог?
– Ты должен дать мне сотню гульденов без всяких залогов и поручительств, – настаивал Рудольф, – только под мое слово и ради моей персоны!
– Ну нет, господинчик мой! – сказал Броуза. – Лучше я дам сотню гульденов под этот совок, чем ради твоей персоны!
В следующий момент он бросил совок со скребком и выскочил в дверь, ибо император уже схватился за тяжелую серебряную хлебницу, и Броуза привычно сообразил: «Как он сделает мне в голове дыру, так никакой пластырь не поможет!»
Примерно час император провел в комнате, служившей мастерской двум камнерезам и паркетчику. Он молча наблюдал, как продвигалась у них работа, а они делали вид, что не замечают его присутствия, зная, что ему не нравится, когда кто-нибудь мешает ему предаваться своим мыслям.
Потом он прошел в зал, стены которого были увешаны картинами Брейгеля, Дюрера, Кранаха, Альтдорфера и Гольбейна. Посреди зала стояла приобретенная накануне мраморная скульптура, произведение великого античного мастера, имя которого не дошло до нас. Она изображала мальчика Илионея, одного из сыновей Ниобеи, которая в своей материнской гордыне бросила вызов богине Латоне и навлекла на себя гнев ее детей – богов Аполлона и Артемиды.
Пронзенный стрелой Аполлона, мальчик Илионей опустился на землю, но не хотел сдаваться смерти без боя. Правой рукой он еще силился вырвать стрелу из груди, а левой отталкивался от земли, стараясь подняться, чтобы побежать к своей матери и найти у нее защиту. И так благородна была поза ребенка, так прекрасно уже отмеченное смертью, но все еще жаждущее жизни лицо, что на глаза Рудольфа навернулись слезы. Лишь после этого ему стало легче на сердце. Его утешало и радовало сознание того, что это дивное творение забытого' мастера вновь извлечено на свет из праха и руин и что оно попало в его, императора, любящие руки.
Тем временем подошел час обеда, и он услыхал рычание львов и крик орла в парке: его любимые звери звали его.
Спускаясь по лестнице и принимая на ходу из рук слуги свою шляпу и плащ, он невольно погрузился в мечты. О, если бы Богу было угодно, думал он, выходя в сопровождении двух офицеров гвардии в ворота парка, чтобы ему выпало жить на свете не в свое время, а в том далеком столетии, когда неведомый мастер изваял Илионея. Если бы он царствовал в Риме вместо Августа или Нерона, то кого из мыслителей, ученых и художников той счастливой эпохи привлек бы он к своему двору? Поэтов и комедиографов он ценил невысоко, но Вергилия чтил как ученого мужа и вместе с Плинием и Сенекой всегда хотел бы иметь при себе. И когда он подумал, что Платон, Аристотель, Эвклид и Эпикур – самые великие из тех, кого он ставил превыше всех великих, – ко времени Августа давно уже переселились в царство теней, его вновь коснулось горькое разочарование.
Затем его мысли опять возвратились к скульптуре. Если бы он, мечталось ему, был не императором в языческом Риме, а творцом этого умирающего мальчика, разве его слава не была бы выше, нежели слава всех цезарей? Разве Тициан не превзошел славою и блеском его отца, великого Максимилиана? И пока он брел и грезил наяву, раздумывая о блеске и достоинстве художников и государей и представляя себя то императором в языческом Риме, то ваятелем из мрамора, к нему подскочила одетая помощником садовника девушка, бросилась на колени и крикнула звонким голосом:
– Рудольфе, помоги!
Император очнулся, отступил на шаг и сделал защитное движение рукой.
Стоявшая перед ним на коленях девушка была дочерью одного из имперских генералов. Этот заслуженный воин уже давно находился в турецком плену. И поскольку он был уже в преклонных годах и подвергался жестоким притеснениям со стороны турок, она боялась более никогда не свидеться с ним. Она смогла собрать лишь часть выкупной суммы и хотела попросить императора помочь ей. Однажды она уже падала ему в ноги, подкараулив его в конюшне, где он навещал лошадей. Тогда он выслушал ее и обещал, что возьмет на себя ее дело. Но после того ничего не случилось…
Император не узнал девушку. Он принял ее за мальчика из дворцовой кухни, который – как докладывал ему неизменный Червенка – уже второй раз заснул у вертела и по приказу обер-гоф-маршала, контролирующего поварской персонал, должен был получить изрядную порцию палок.
– Ты сделал это уже во второй раз, – сказал император коленопреклоненной девушке. – Не допускай этого впредь! Я скажу обергофмаршалу Лихтенштейну, чтобы он простил тебя. Но ты причинил мне вред. Иди, не забывай об этом, и больше так не делай!
Затем он быстрыми шагами продолжил свой путь. Генеральская дочь поднялась на ноги и, словно во сне, глядела вслед императору. Он обратился к ней милостивым тоном и даже как будто обещал поговорить о ее деле с каким-то могущественным сановником, но вот какой вред она ему причинила? Этого она не могла понять… Разве что под конец, разволновавшись, попортила ножницами один из кустов роз? Пока она мучительно раздумывала обо всем этом, один из сопровождавших Рудольфа офицеров подошел к ней, снял шляпу и с вежливостью, подобающей персоне ее ранга, попросил ее последовать за ним.
– Я пошлю Червенку к Лихтенштейну, – говорил про себя император. – Пусть поговорит с ним и передаст мою волю в этом деле. Его самого я видеть не хочу, ведь он опять будет просить у меня денег… Все они хотят от меня денег, что Лихтенштейн, что Ностиц, что Штернберг или Гаррах! Люди с кухни и из серебряной камеры, священники и музыканты, певцы и танцоры – все хотят одних денег и все рады бы иметь долю в моем тайном сокровище… Но к нему я не дозволю прикоснуться, оно мне и самому нужно, чтобы иметь защиту от братской любви моего чертова Матиаса!
Наконец он достиг львиного вольера. Он взял кусок венгерской говядины из рук сторожа и вошел в клетку. Львица, которая давно уже ждала его, поднялась и положила передние лапы ему на грудь. Она ловко взяла мясо у него из рук, а в это время лев, приветствуя императора, потерся своей огромной головой о его плечо.
Император говорил со своими львами. Для него это был самый легкий и отрадный час на дню. Он и не подозревал, что в этот самый миг навсегда утратил свое тайное сокровище…
– Рудольфе, помоги!
Мордехай Мейзл, стоявший у землянки сторожей, прижав ко рту платочек, ибо кашель все больше донимал его, вновь услышал те самые слова… Семнадцать лет тому назад их выкрикнула юная Эстер, его жена, когда почувствовала на себе хватку ангела смерти. «Рудольфе, помоги!» В последнее мгновение своей жизни она думала о человеке, который только что прошел мимо Мейзла.
До этого часа римский император был для него, Мордехая, некой схемой, властью, которую все чувствуют, неким далеким сиянием. Но теперь он увидел его во плоти и во крови – он сразу узнал этого человека, несущегося короткими, быстрыми шагами, полуопустив голову и со скрипом давя башмаками подмерзший песок. Человека, который отнял у него любовь…
В один короткий миг им овладела догадка, что его жена Эстер, которую он не в силах был забыть, была причастна к этому чужому мужчине. Что она и была любимой императора – человека, который в данный момент удалялся от него по выложенной гравием дорожке. Да, она и была той самой «любимой сердца», о которой рассказывал ему Филипп Ланг, когда вино развязало ему язык… В его памяти впервые за много лет отчетливо всплыли слова, которые она лепетала во сне у него под боком. Лишь теперь он смог истолковать их. И стало ему так, словно он всегда знал эту горькую правду.
В его сердце была смертная скорбь, но сильнее скорби была ненависть и жгучее стремление отомстить человеку, лишившему его любимой.
Из всего богатства, что он оставит по смерти, по договору императору принадлежала половина. А потому он не оставит после себя ни денег, ни имущества!
Не много ему оставалось на это времени. Он знал, что ему было легко разбогатеть. Это была своего рода игра. Но удастся ли ему стать бедным? Золото льнуло к нему. Теперь оно должно уйти. Он должен оттолкнуть его от себя – уничтожить, рассеять и разметать все до последнего гульдена! У него были кровные родичи: сестра, брат и трое их детей. Ничего из золота и добра нельзя отдать в их руки, ибо судьи императора, его советники, тюрьма и пытка легко отнимут все это у несчастных. Только мелкие вещи, которыми может владеть бедный человек, должны перейти к ним: кровать, на которой он спал, кафтан, в котором ходил, старый пергаментный молитвенник…
А куда же деть золото?!
Дом для бедняков в еврейском городе. Дом для слепых. Приют для сирот. Новая ратуша. Школа, где дети будут учиться читать. Но и этого мало, все равно еще останется золото, дукаты, нобли, несметное имущество, деньги в руках разных торговых партнеров… Нет, надо распылить все! Нужно замостить узкие, кривые улочки еврейского города и осветить их фонарями. Пусть-ка император со своими советниками попробует выцарапать деньги из булыжников мостовой в гетто!
Лишь бы ему хватило времени сбыть свои деньги и добро! Стать бедным человеком, который не владеет ничем и ничего не может назвать своим, у которого сталось одно желание – сделать по воле своей. Он стал изгоревшим огарком свечи, который должен – и будет! – гореть, пока это желание не исполнится.
А потом – спи, Мордехай Мейзл! Спи и забудь свое горе, спи и забудь свою боль! Угасай, сгоревшая свеча!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








![Книга Прыжок в неизвестное [Свобода] автора Лео Перуц](/books_files/covers/thumbs_100/pryzhok-v-neizvestnoe-svoboda-13832.jpg)































