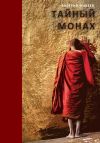Текст книги "Лже-Нерон"

Автор книги: Лион Фейхтвангер
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 24 страниц)
Он мирно уснул в эту ночь. Во сне ему было видение. С лугов подземного царства поднялась и стала приближаться человеческая фигура; крепкая, решительная, шла она по призрачным, бледным, туманным лугам, и с умилением, с нетерпением, с любопытством и радостью всматривавшийся в нее Нерон узнал свою Кайю. Она заговорила с ним так, как говорила всегда.
– Не делай глупостей, идиот! – прикрикнула она на него своим въедливым голосом. – Стоит на минуту оставить тебя одного, и ты сейчас же натворишь чепухи. Но теперь хватит. Вставай, дурень, и чтобы духу твоего здесь не было! Время не ждет.
– Беги, улепетывай, – сказала она еще, как в свое время говорила ему в Риме и позже в Эдессе.
Говоря, она постепенно обращалась в тень; было удивительно, было страшно занятно смотреть, как эта крепкая, пышнотелая женщина становится призраком, но призраком плотным, дородным, объемистым, с сочным и грубым, въедливым будничным голосом, повторяющим:
– Беги, улепетывай.
Но тихо-тихо, издевательски и грозно сопровождали этот голос звуки струнных инструментов и барабаны, и на самом деле Кайя говорила стихами:
И тут конец тебе придет,
Он штучку вовсе оторвет,
И ты повиснешь.
Нерона не встревожило это видение, скорее развеселило. Она, значит не превратилась в летучую мышь, а осталась его славной, прежней Кайей, и худа ей не было оттого, что он послал ее в царство теней. Это обрадовало Нерона, и он не рассердился на Кайю за то, что она по-прежнему считает его маленьким человеком. Ума в подземном царстве, видно, людям не прибавляется. А предостережения Кайи его только рассмешили. Еще столько было не сделано из того, что боги определили ему совершить; бесчисленное количество непроизнесенных речей, неисполненных ролей, непостроенных зданий ждали своего воплощения. Боги ни за что не допустят, чтобы погиб человек, которого они избрали для выполнения такой многообразной миссии. Слова его Кайи «Беги, улепетывай» были попросту смешны.
Песнь о горшечнике, вернувшаяся вместе с Кайей, была не столь забавна. В последнее время эта муха оставила его в покое; досадно, что она вернулась. Он вступил с песней в жестокий спор, он издевался над ней: «И тут конец тебе придет», – какая ерунда... Много лет тому назад ему тоже говорили, что мол, поздно уж теперь усваивать произношение «th»; если ребенком не усвоить, то никогда не произнести как следует этот звук. Ну, и что же? Выучился он произносить этот звук или нет? И, злорадствуя, звучно, чисто и красиво, он бросил в ночь: thalala, thalata.
На этот раз царедворец Вардан очень сократил промежуток между своими посещениями, он был у Нерона уже на следующее утро. Снова заговорил о войне, которой римляне угрожают его господину и царю, если царь будет упорствовать в своем признании Нерона. Вардан говорил вежливо, почтительно, но настойчивей вчерашнего. Нерон же не слышал того, чего не хотел слышать.
Еще через несколько дней явился посланный великого царя и торжественно пригласил Нерона во дворец Артабана, где царь в присутствии двора имел сделать Нерону некоторые сообщения.
Это встревожило Нерона больше, чем донесения царедворца Вардана и предостережения Кайи. Ему вдруг стала ясна игра Артабана. Угроза войны с Римом – это лишь предлог. На самом деле великий царь просто хочет избавиться от него, Нерона, опасаясь, как бы «ореол» Нерона не затмил его собственное жалкое парфянское величие. Возможно, что Артабан предложит ему переселиться в более отдаленную резиденцию, в Сузу или еще куда-нибудь; возможно, он собирается сократить его двор или даже сплавить его, Нерона, в один из своих замков на крайнем Востоке, где он будет окружен цветнокожими вместо цивилизованных людей. Когда какой-нибудь царь начинает завидовать «ореолу» другого, от него можно всего ожидать.
Нерон стал думать, как помешать Артабану осуществить свое намерение. Он нашел способ. Аудиенция произойдет в присутствии всего двора. Он произнесет перед всеми этими блестящими сановниками речь, которая заставит Артабана отказаться от своих низких планов, он напомнит повелителю парфян в сдержанных и тем не менее сильных словах о долге гостеприимства.
Он тотчас же принялся за разработку речи. Вернуть задумавшего злое дело царя на путь, который предписывал великий долг гуманности. Это была трудная, но возвышенная задача, которую мог разрешить только Нерон. Он работал пылко. Писал, декламировал, отшлифовывал, запоминал, исправлял. «Речь о гостеприимстве» превратилась в мастерское творение. Если бы он, Нерон, решил устранить противника и тот произнес бы такую речь, Нерон привлек бы этого противника к себе на грудь, обнял бы его и, растроганный, попросил бы у него прощения и дружбы. В уединении своего парка, в пустом парадном зале он репетировал речь. Речь становилась все округленней, звучней, значительней, трогательней. Он чувствовал почти благодарность к Артабану за то, что тот дал ему повод для этой речи.
И вот он стоит в тронном зале в Ктесифоне в состоянии праздничного возбуждения, но все же нервничая больше обычного. Древние персидские цари на фризе, опоясавшем зал, всадник Митра на мозаике купола будут слушать сегодня его мастерскую речь.
Занавес раздвинулся, корона повисла над головой великого царя. Речь Артабана была короткой.
– Снова возникли, – сказал он, – сомнения в подлинности мужа, воззвавшего к его, Артабана, гостеприимству. Уже и раньше были моменты, которые давали пищу этим сомнениям. Боги не только допустили, чтобы муж, называвший себя Нероном, потерпел поражение, он, кроме того, бесславно удалился из Эдессы, своей резиденции. Эти аргументы, однако, были опровергнуты свидетельством Варрона, мужа, который в свое время завоевал доверие и дружбу великого Вологеза. Теперь же Варрон исчез, быть может, из огорчения, что он ошибся в личности мнимого Нерона, а вместе с Варроном исчезла и вера в подлинность этого Нерона. Западные люди заявляют решительно и единодушно, что они никогда не признают этого Нерона своим императором, и даже грозят ему, великому царю, войной, если он по-прежнему будет покровительствовать самозванцу. Из всех этих соображений он видит себя вынужденным препроводить человека, который называет себя Нероном, на границу своего царства. Дальнейшее он должен предоставить богам. Если этот человек действительно Нерон, боги явят тому доказательство.
Когда Нерон услышал первые слова Артабана, он обрадовался, что речь Артабана так суха и прозаична, – отличный фон для его, Нерона, выступления. То, что он приготовил, не является ответом на доводы царя: его речь трактует лишь вопросы этики и гуманности. Это и был в первую голову вопрос гуманности – может ли царь отказать в защите ему, который нуждается в защите. Но Артабан, видимо, был глух к таким вещам. Он говорил исключительно о политике, об этой ничтожной политике, вопросы которой Нерон всегда предоставлял решать своим советникам, об этой низшего порядка дисциплине, которой царям не пристало обременять себя.
И вдруг – и сердце у Нерона замерло – ему пришло в голову: может быть, и в самом деле выдача его Риму всего лишь вопрос политики, может быть, Артабан живет в мире реальном, а он, Нерон, в мире грез. Он тотчас же отмахнулся от этой мысли. Нет, нет, этого не могло быть, это не так, не может быть, чтобы они говорили на разных языках. В конце концов, Артабан, рожденный царем, повелитель Востока, обладает «ореолом», он не может не понять его, Нерона.
А если все-таки он не поймет его? Нет, Нерон не должен такими мыслями сбивать себя с толку. Поддавшись таким сомнениям, он может испортить свою речь. Он попросту не будет прислушиваться больше к тому, что говорит Артабан, ко всем этим «итак», и «следовательно», и «так как», и «потому что». Тут сплошная логика, противный, сухой рассудок, он же, Нерон, обратится к сердцам своей аудитории.
Он старался не слушать. Но против воли ухо воспринимало слова Артабана, и они проникали в мозг. Несколько реальных прозаических доводов ему все-таки следовало вплести в свою речь. Дион из Прузы, Квинтилиан, все они пользовались прозаическими тезисами, облекая их в блестки ораторского искусства. Он досадовал, что не сделал этого. Стараясь не показать виду, он следил за лицами сановников. Царедворцы внимательно слушали речь царя, явно сочувствуя ему. Эти лица ему, Нерону, предстоит преобразить своей речью. Удастся ли ему?
Внезапно, точно озаренный молнией, он понял свое положение. Все эти царедворцы – сплошь недруги, а великий царь Артабан – исконный его враг, и слова его – отравленные стрелы. Он же, Нерон, чистый и незлобивый, пришел в стан врагов, пришел без панциря, и теперь он погиб. Он сидел и внимательно слушал, но сердце его неистово билось, и руки взмокли от пота.
Но тут царь кончил свою речь, слово было за Нероном.
«Я не знаю, – так строил он мысленно свою речь, – как обратиться мне к тебе, блистательный. Сказать ли мне: из праха смиренно возносится к тебе мой голос, о сын богов? Или я смею еще сказать: склони ко мне ухо твое, о брат мой?»
Это было хорошее вступление, и он отлично заучил смущенную улыбку, с которой следовало произнести эти первые фразы. В эффекте можно быть уверенным, нужно только сосредоточиться, и сейчас он начнет.
– Я не знаю, – произнес он. Но что это? Кто сказал эти слова? Он? Его ли это горло, из которого выходит хриплый шепот, затерявшийся в огромном тронном зале раньше, чем его услышал ближайший сосед? Он откашлялся, начал вторично, охваченный паническим страхом.
– Я не знаю, – сказал он. Но это было еще хуже, чем в первый раз, сплошное нечленораздельное урчание. Артабан затих на своем троне, слушая, вежливо ожидая. Царедворцы переглядывались, встревоженные. В третий раз он начал:
– Я не знаю. – Ни одного внятного звука не было, одно безобразное кудахтанье.
Он стоял, как человек, вокруг которого все рушится. В сердце и в голове звучала приготовленная несравненная речь. Он знал, если бы он мог произнести ее, все эти враждебные лица вокруг засветились бы, сердце этого холодного, занятого политикой царя, сердца всех парфян устремились бы к нему, весь народ парфянский взялся бы за оружие, чтобы защитить его. За все сорок пять лет его жизни всего два раза голос изменил ему, и именно сегодняшний день, именно этот решающий час избрали боги, чтобы наказать его хрипотой, погубить его. В одно мгновение он из римского императора превратился в последнего, самого жалкого и смешного из смертных.
Он стоял, облаченный в царские одежды. Но под этими одеждами был бедный, преследуемый римскими властями, дрожащий всем телом Теренций. И на лице человека на троне и на лицах священнослужителей и сановников он читал то, что, как надоедливое насекомое, жужжало у него в голове:
Горшечнику бы жить с горшками
И с кувшинами,
А не с царями...
17. ТРЕХГЛАВЫЙ ПЕС
Артабан вырядил поезд, который по его приказу доставил Нерона к границе, чрезвычайно пышно, точно ехал какой-нибудь князь, а не пленник в сопровождении конвоя. Граница, где он был передан римским властям, расположена была на небольшой возвышенности, и отсюда, с предпоследней вершины своего существования, пока римские чиновники писали акт, подтверждающий сдачу его им на руки, он смотрел на расстилавшийся внизу Евфрат, который недавно еще был его рекой, и на город, который меньше, чем год тому назад, восторженно встречал его.
Губернатор Руф Атил не был жесток, но он считал необходимым глубочайшим образом унизить Теренция, чтобы никому не могло прийти в голову: а не Нерон ли это все-таки? Поэтому с Теренция тотчас же и на глазах у всех сорвали пышные одежды, надели ему кандалы на руки и на ноги, повели его в грязных отрепьях самой длинной дорогой по улицам города, который забрасывал его насмешками и грязью, провожал плевками, и бросили, наконец, в подвалы крепости.
В этот день Теренций был еще довольно представителен с виду, между пятнами грязи просвечивала еще его блекло-розовая кожа. Широкое лицо пока еще было гладким и более или менее тщательно выбритым, многочисленные тумаки и щипки еще не испортили тщательно завитых и припомаженных лучшими маслами, зачесанных на лоб локонов. Все происшедшее повергло его прежде всего в безмерное изумление и испуг. Дыра, в которую его бросили, была сырая, темная, кишмя кишела крысами. И все же он уснул после этого полного волнений дня, и, несомненно, эту первую ночь в неволе он провел лучше той, когда убили Нерона, или той, когда он лежал в храме Тараты, или той, когда он очутился в доме Иоанна.
Наутро к нему присоединили второго пленника, также в отрепьях, оборванного, худого, в рубцах и кровоподтеках – Кнопса. Маллук наконец, после долгих переговоров, выдал его, но его путь до римской границы был менее приятен, чем путь Теренция. Конвоиры со злым умыслом близко подпускали толпу, и Кнопс прибыл на римскую границу в сильно растерзанном виде. Его держали на скудном пайке, он страдал от голода, ныли раны; все же он не был особенно подавлен. Еще до того, как его увезли из Эдессы, он узнал из надежных источников, что Иалта благополучно бежала из города. Правда, это было все, что ему удалось узнать. Иалте давно уже полагалось родить, но он не получил весточки об этом. Самое важное, однако, она успела скрыться от этой сволочи. Маленький Клавдий Кнопс, наверное, давно уже увидел свет, и живется ему, безусловно, неплохо. Папаша Горион знает, куда Кнопс рассовал свои деньги, а Горион не из тех людей, которые не сумели бы эти деньги выудить. Голодным и холодным его сыночек, конечно, не будет, он будет защищен хорошим панцирем из золота. Его маленький Клавдий Кнопс пойдет в него, он поднимется высоко, выше креста, который будет последней вершиной его, Кнопса, жизни; сын его наплодит новых Кнопсов, людей его породы, хитрых, изворотливых, настойчивых, способных строить на глупости других свое благополучие. Кнопс не был храбрецом, он трепетал от страха перед тем, что ему предстояло. Но сознание, что все совершенное им и все предстоящие страдания – все это для блага его маленького наследника и сына, следовательно – для цели благородной, придавало ему силы, поддерживало в нем живость и склонность к быстрым злым остротам.
В полумраке подземелья он узнал своего бывшего господина и императора раньше, чем тот его. Он дотащился в своих цепях до Теренция, оглядел его, ощупал, насколько позволяли цепи, установил:
– Ну, Рыжая бородушка, с вами дело еще не так плохо. На вас, видимо, еще кое-что осталось. Телом вы пока еще не очень сдали. Но, боюсь, надолго вам свои приятные формы сохранить не удастся. Много вам еще всякой всячины предстоит. И в конце концов ваши объемистые телеса вам дорого будут стоить. Привяжут ли вас к кресту или пригвоздят – жирному труднее висеть, чем сухопарому. Жирному больше достается. Правда, у жирного нервы крепче.
Он ткнул Теренция в живот своими цепями. Он питал ужасную злобу к этому человеку, которому так неслыханно повезло и который своим идиотским бегством погубил и себя и своих товарищей.
Теренций не ответил. Он страдал, правда, от голода, но еще больше от отсутствия ванны и парикмахера. Однако «ореол» его не покинул. Он, Теренций, высоко взлетел после первого своего падения, из пещер подземного города в пустыне он был снова вознесен на прежнюю высоту, переживет он и это падение. Грубая реальность близкого конца, глянувшая на него из резких, пискливых слов Кнопса, тотчас же преобразилась в его сознании в нечто более высокое. Он видел себя пригвожденным к кресту не как низкий предатель родины, а как герой трагедии, герой, которого сама судьба избрала своим врагом. И речи Кнопса не могли уязвить его.
Еще через день в подземелье ввели третьего гостя. Но капитан Требон вошел иначе, чем Кнопс, – он вошел незакованный, статный, чистый, упитанный и по-прежнему полный жесткого юмора. Он держал в своих руках Эдесскую цитадель до последней минуты. В сущности, он должен был бы, когда его взяли в плен, броситься на меч. Но капитан Требон считал, что он не раз доказал свою храбрость и что, хотя офицер должен быть героем, это отнюдь не обязывает его исповедовать глупый стоицизм. Он и не помышлял о том, чтобы в угоду злому гению подохнуть раньше положенного срока. Ему приходилось видеть в своей жизни удивительнейшие капризы судьбы, сражения, когда, казалось, все неизбежно шло к гибели и вдруг чудесный оборот событий в последнюю минуту приносил спасение. Тот не настоящий солдат, кто не верит в свое счастье; без этой веры ни один солдат не пошел бы в бой.
В данную минуту, однако, он был здесь, в темнице, и коротал время, оглушительно хохоча над своими товарищами по несчастью. Они лежали в цепях, жалкие, униженные, он же, любимец армии, даже в неволе не потерял своей популярности, и обращение с ним было соответствующее. И правильно. Те двое, рабы, выродки, заслуживают, чтобы их распяли на кресте. Он же – вольнорожденный, у него, любимца армии, капитана Требона, есть свой дух-покровитель, и народ и армия попросту не потерпят, чтобы с ним расправились.
Сумерки подземелья наполнились громовыми раскатами его голоса, телесность капитана оживляла этот призрачный полумрак, его сильное дыхание, его запах побеждали близость потустороннего мира. Капитан гонял крыс и радушно, по-простецки, шутил со стражниками, переговариваясь с ними через стены. И потом снова, громко, немузыкально, жирным своим голосом пел песенку о горшечнике, с силой в такт ударяя Нерона по плечу или по ляжкам или тыча его в живот. Подобно всему народу, и он, Требон, обманут был этим поддельным императором, и, как весь народ, он мстил теперь за свое легковерие ему, разоблаченному, свергнутому.
И Кнопсу он старался отплатить за то, что столько времени вынужден был относиться к нему, как к равному. У Кнопса же от присутствия бывшего собутыльника настроение поднялось. Хотя обращение с Требоном было лучше, хотя Требон мог безнаказанно дразнить и мучить его, Кнопса, Кнопс теперь даже в большей степени, чем раньше, чувствовал свое превосходство. Куда этому чванливому дураку Требону до него, он, Кнопс, видит вещи в их настоящем свете. Они оба погибнут. Он и Требон. Но от Требона, когда его распнут, ничего не останется, а он, Кнопс, будет жить в своем маленьком сыночке. Значит, чья взяла?
Разумеется, умнее было бы чувства эти скрыть. Но Требон уж очень большой наглец. Кнопс должен сбить с него спесь. И вот однажды, когда Требон со всей присущей ему наглостью взялся за него, Кнопс не вытерпел.
– Не заблуждайся, старина, – начал он язвительно. – Твою фельдмаршальскую тушу точно так же выбросят на свалку, как и мою канцлерскую, и одни и те же псы сожрут наше мясо и обгложут наши кости. Но тогда-то и обнаружится, кто из нас был умнее, – ты, который советовал мне дожидаться сенаторских дочек, приготовленных нам в Риме, или я, который уже сделал моей Иалте сына. От тебя, капитан Требон, ничего не останется. Я же кое-что оставлю на земле: удачного сына с крепким телом – от матери, хорошей головой – от отца и вдобавок с кучей золота.
Требон сидел на своих нарах, слушал, соображал, ухмылялся. Он припомнил совершенно точно, что Кнопса арестовали, когда Иалта его еще не разрешилась от бремени. Требон знал практику Востока, знал, что на Востоке арестованных лишают всякой возможности общения с внешним миром. И поэтому, помолчав, он коварно, со злобной мягкостью спросил Кнопса, есть ли у Кнопса хорошие вести от Иалты и их отпрыска. Кнопс промолчал, и Требон понял, что у Кнопса никаких сведений нет. И он развязно и нагло стал над ним издеваться.
– Да, да, наш Кнопс – это голова. Тебе, наверное, боги во сне открыли, что вылезло из чрева твоей Иалты? Или ты по яйцу можешь сказать, петух это будет или курица? Они разве тебе не сказали, что Иалта твоя ощенилась девчонкой, жалкой, маленькой крысой, унаследовавшей комплекцию отца?
Кнопс был убежден, что капитан просто-напросто нагло врет. И все-таки слова капитана оказали свое разрушительное действие. Всякий раз, когда у Кнопса возникала мысль, что Иалта может родить ему девочку, он отгонял эту мысль от себя. Он раскаивался в своей слабости, в том, что заговорил с Требоном. Держать язык за зубами. Не показывать этому подлому псу, как он уязвлен. Но он не в силах был сдержать себя; робко, умоляюще прозвучал вопрос:
– Тебе что-нибудь точно известно, Требон? Ты действительно что-нибудь знаешь? Скажи же, прошу тебя, Требон.
Требон злорадствовал. Он рассказывал стражникам о надеждах и опасениях Кнопса, и день и ночь гремели под тюремными сводами его соленые остроты насчет потомства Кнопса.
Теренций почти не замечал присутствия остальных. Когда его оставляли в покое, он опускался в своем углу на корточки, насколько позволяли цепи, и погружался в себя. Однажды, к удивлению Кнопса и Требона, он сказал очень вежливо:
– Вы оказали бы мне услугу, если бы не так шумели.
Он по-прежнему страдал от голода и еще больше от грязи; это, очевидно, входило в ту роль, которую определила ему судьба. Но уж безусловно не входила в эту роль тоска по Кайе, мучившая его день ото дня сильней. О, как он хотел бы, чтобы Кайя пришла к нему ночью, во сне, как он был бы благодарен ей за ее сердитые увещания и окрики! Он горевал по ней, призывал ее мысленно, чтобы она накормила, искупала бы его.
Проходили день за днем, не принося заключенным ничего нового. Наконец, в свете факелов в камеру вошел человек, которому суждено было целиком заполнить собой последние дни заключенных, даже во сне не давая их слуху и зрению отдохнуть от себя, – капитан Квадратус. На этого Квадратуса губернатор Атил, который хотел превратить закат Лже-Нерона в занятное зрелище для толпы, возложил осуществление казни.
Квадратус был невысокого роста, но широк в плечах и очень мускулист.
Телом он был неимоверно волосат, на черепе же красовалась лысина, обведенная, словно венком, кустиками черных волос; несколько причудливое впечатление производила эта голова на короткой шее и с носом, как утиный клюв.
– Привет тебе, о милосердный, о великий император Нерон, – представился капитан Квадратус Теренцию.
Он сказал это бесцветным, флегматичным голосом, но при этом с такой силой шлепнул Теренция по заду, что Теренций со стоном отскочил. Кнопса и Требона капитан Квадратус приветствовал подобным же образом. По сравнению с его коварной, сухой игривостью шутки Кнопса были детской забавой, а Требон рядом с благодушным соперником живо утратил свою резвость.
Капитан Квадратус пожелал прежде всего получить представление, как он выразился, о физических возможностях своих «пансионеров», и с этой целью он заставил их проделать гимнастические упражнения. Кнопс живо повиновался, прыгал и приседал по команде Квадратуса. Нерон же, в сознании величия своего «ореола», и Требон, в сознании своей силы, не слушали команды и упорно оказывали пассивное сопротивление. Флегматичного Квадратуса это радовало. У него были время и средства сломить это сопротивление. И он сломил. Сначала – Теренция, потом – Требона. Кожа Нерона очень скоро потеряла свою гладкость, лицо заросло мохнатой, бурой бородой, и прозвище Рыжая бородушка теперь никак не подходило к нему. Требон тоже быстро утерял свой мужественно-статный вид, и рыжие волосики, пушком покрывавшие его тело, приобрели грязный, желтовато-белый цвет. Вскоре все трое весили меньше, чем раньше двое из них.
Натешившись в свое удовольствие над заключенными, капитан Квадратус принялся подготовлять зрелище для толпы, о котором говорил губернатор.
Однажды все трое выведены были во двор, где их дожидались люди с досками, рубанками и пилами.
– Вот, господин фельдмаршал, – сказал Квадратус, – ты и отпрыгал свое.
– Вы же, милейший секретарь, – обратился он к Кнопсу, – снова сможете показать свой не раз испытанный дар зажигать массы. А вы, ваше величество, – обратился капитан к Теренцию, и голос его был все так же раздражающе медлителен и сух, – будете, несомненно, мне благодарны. Вы получите особенно выгодную возможность показать вашему народу свое искусство.
И люди принялись пилить и строгать, они изготовили деревянный воротник, сделанный на троих, так что затылками они почти соприкасались, лица же их смотрели в разные стороны. Затем все трое пленников были посажены на тачку, прикованы к ней, на шеи им надели этот большой деревянный воротник, туловища скрывала как бы коробка из дерева и гипса, так что над деревянным воротником возвышалась лишь трехликая голова. Обшивка имела форму торса сидящей собаки; стенки этой коробки до тех пор обивали и оклеивали собачьими шкурами, пока все вместе не приняло вида фантастического и в то же время реального гигантского трехликого пса.
На эту счастливую идею Квадратуса натолкнули слова о трехглавом псе ада, как назвал Иоанн из Патмоса на процессе христиан триумвират Теренция, Требона и Кнопса.
Кто бы ни увидел этих троих людей, замурованных в доски и гипс, всякий тотчас же понимал, что именно имелось здесь в виду. Стражники хлопали себя по ляжкам, весь город шумно радовался, а капитана Квадратуса, которому пришла в голову эта блестящая идея, бурно чествовали.
«Трехглавый пес ада» пропутешествовал по всей стране – император, его маршал и его канцлер – на своей тачке. Капитан Квадратус избрал не прямой путь, а возил свою тачку с востока на запад, с севера на юг, через всю провинцию. За двадцать лет, со времени пышного проезда армянского царя Тиридата, который в сопровождении многих царей Востока направлялся с визитом к римскому императору, Сирия не видела более интересного зрелища, чем этот «трехглавый пес». Огромные толпы шли за тачкой, это была невероятная потеха, многие не довольствовались одной встречей с трехглавым и следовали за ним в соседнее, даже в соседнее с соседним селение.
Прибытие трехглавого превращалось повсюду в народный праздник. Города предлагали свои стадионы, цирки, самые большие площади для этого зрелища. И действительно, было на что смотреть.
Трехглавый пес капитана Квадратуса очень отличался от того, каким рисовал его себе Иоанн из Патмоса, – он был гораздо потешней и гораздо страшней. Три лица, которые смотрели с туловища пса на толпу, были лица стариков, грязные, сморщенные, жалкие, обрамленные щетинистыми бородами, при этом настолько затравленные, злые и озверевшие, что многие, хотя трехглавый был прикован и окружен стражниками, не отваживались приблизиться; дети испуганно цеплялись за платья матерей, женщины падали в истерике.
Разумеется, тот, кто подходил близко, не жалел об этом. Можно было не только изучать эти лица, можно было дергать их за бороды, бить по щекам. Капитан Квадратус позаботился о том, чтобы зрелище не надоедало своим однообразием. Он приказал просверлить в обшивке отверстия, и кто хотел, мог велеть трехглавому «дать лапку». Да и лаять должен был трехглавый, когда ему приказывали. Если он не повиновался, стражники пиками кололи его через отверстия.
– Гав-гав! – кричала толпа. – Полай, Рыжая бородушка, полай, фельдмаршал, дай лапку, водяных дел мастер. – Так называли Кнопса в память наводнения в Апамее.
Нерон почти все время молчал, его серые воспаленные глаза были по большей части закрыты, от него было мало толку. Самым потешным был капитан Требон. Он обменивался крепкими словечками со своим соперником и конвоиром Квадратусом. Главной мишенью для его насмешек служили голос капитана и его утиный клюв – нос. Человек с таким трухлявым, сонным голосом, издевался Требон, никогда в жизни не сможет пользоваться настоящим авторитетом у солдат, да и у женщин; ибо по голосу можно судить и еще кое о чем. Если вблизи находились дети, Требон советовал им оседлать утиный нос Квадратуса и покататься на нем верхом. Особенно возбуждался Требон, когда ему, потехи ради, давали выпить. Тогда он принимался горланить, выкрикивал ужасающие непристойности, предлагал женщинам попробовать повозиться с трехглавым, если у них хватит смелости и достатков. Вокруг стояли визг и хохот.
Кнопс больше интересовался детьми. Он оглядывал их своими быстрыми глазками, очень пристально, главным образом – маленьких, и с такой жадной нежностью, что матери с испугом уносили их. Он, по-видимому, не сердился на детей, даже когда они его дразнили, дергали за бороду, щипали и колотили его своими маленькими ручками по лицу. Однажды все-таки, когда какая-то женщина поднесла к его лицу своего смуглого трехлетнего мальчика, чтобы тот положил ему в рот пирожок, он неожиданно укусил мальчику руку.
Долгие часы, почти по целым дням, торчали эти трое в их уродливом скоморошьем одеянии из дерева и гипса, скованные друг с другом. Если они чуть-чуть опускали напряженно вытянутые головы, деревянный воротник давил на шею. Веревки, цепи, дощато-гипсовая обшивка вокруг их тел вынуждали их к неподвижности и больно оттягивали назад голову, шею и плечи.
Для зрителей это была единая голова, поднимающаяся над собачьим торсом. Но у головы этой было три лица, она думала тремя мозгами и сидела на трех телах. Три сообщника составляли одно целое с того самого мгновения, как они увидели друг друга, с этого мгновения они были в одно и то же время и друзьями и недругами. Теперь же они были связаны тесней, чем кто-либо на свете, в постоянном соприкосновении, настолько сросшиеся, что каждый с содроганием ощущал естественные отправления остальных, и они стали друг другу невыносимы.
Один и тот же воздух вдыхали шесть ноздрей, одно и то же проходило перед их шестью глазами, один и тот же шум слушали их шесть ушей. Их мозг неизбежно думал об одном и том же. «Долго ли это будет тянуться?» – думали они, и: «Когда наконец мы будем в Антиохии?» и: «Проклятые скоты!» Но наряду с этим у каждого были свои мысли: «О мой сыночек», – думал Кнопс, «О моя Кайя», – думал Теренций, «О мой дух-покровитель и моя счастливая звезда», – думал Требон.
Они лаяли и давали лапки, они проклинали мир и самих себя, они плакали в бессильной ярости и утешали себя, они ненавидели друг друга, скрежетали от ненависти зубами, и все же каждый из них чувствовал, что нет в мире существ более близких ему, чем те двое, с которыми его соединяют внутреннее родство, счастье, взлет, преступление, падение и грядущая гибель.
Но все это они чувствовали лишь в первые дни. Затем впали в апатию и только уколами, тумаками и подзатыльниками можно было вызвать в них проявление признаков жизни.
Они перестали даже ненавидеть друг друга. Они ждали лишь ночи, которая освободила бы их от цепей.
Много недель подряд длилось это странствие по Сирии. День за днем Нерона и его сообщников высмеивали, оплевывали, забрасывали грязью. Они уже не чувствовали этого. Они не видели более злорадных и ненавидящих лиц в толпе, едва ли замечали они даже лицо капитана Квадратуса. Они не слышали более криков и визгов сотен зрителей, вряд ли даже доходил до их слуха их собственный лай. Единственное, что они иногда еще воспринимали своим сознанием, была мелодия песенки о горшечнике, эта простая и все же изысканная мелодия с ее крохотными, наглыми, циничными паузами, и однажды даже сам немузыкальный капитан Требон, когда ему скомандовали залаять, вместо этого машинально загорланил хрипло: «И ты повиснешь».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.