Текст книги "Иудейская война"
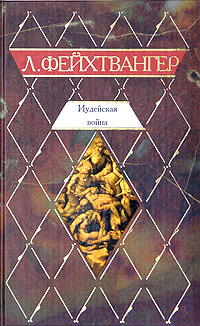
Автор книги: Лион Фейхтвангер
Жанр: Классическая проза, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 27 страниц)
Алексий сидел на земле и семь дней предавался скорби. Он качал головой, поглаживал грязную бороду, – недешево заплатил он за любовь к отцу и к брату.
Когда он после этого в первый раз тащился через город, он был удивлен. Он думал, что нужда уже не может стать сильнее, но она все же стала сильнее. Раньше Иерусалим славился своей чистотой, теперь надо всем городом нависла ужасающая вонь. В некоторых городских кварталах трупы складывали в общественные здания, и когда здания были полны, их запирали. Но еще страшнее вони была великая тишина, царившая в этом некогда столь оживленном городе, ибо теперь даже самые деятельные люди потеряли охоту говорить. Молчаливый и вонючий, кишевший густыми роями насекомых, лежал в солнечных лучах белый город.
На крышах, на улицах валялись истощенные люди, их глаза были сухи, рты разинуты. Одни болезненно распухли, другие обратились в скелеты. Шаги проходящих солдат уже не могли побудить их сдвинуться с места. Они валялись повсюду, эти голодающие, уставясь на храм, который словно висел в голубом воздухе, весь белый и золотой, и ожидали смерти. Алексий видел, как одна женщина, вместе с собаками, рылась среди отбросов, ища чего-нибудь съедобного. Он знал ее; это была старая Ханна, вдова первосвященника Анана. Прежде, когда она шла по улице, перед ней расстилали ковры, ибо ее ноги были слишком аристократичны, чтобы ступать по дорожной пыли.
Затем наступил день, когда Алексий, мудрейший из людей, сидел понурившись, уже не зная, что предпринять. Он нашел свою подземную кладовую опустошенной – другие открыли его тайник и воспользовались оставшимися запасами.
Когда Нахум с трудом вытянул из своего сына эту горестную новость, он долго сидел и размышлял. Похоронить мертвого считалось заслугой, и великой заслугой перед Ягве было похоронить самого себя, если этого не мог сделать никто иной. Нахум бен Нахум решился на это. Когда по человеку было видно, что проживет он самое большее два-три дня, стража выпускала его за ворота. Пропустят и его, бен Нахума. Он положил руку на темя сына Алексия, смотревшего мутным взглядом на свою угасающую жену, и благословил его. Затем взял свою лопату, счетную книгу, ключ от старой стеклодувной мастерской, захватил также немного миртового хвороста и священных курений и потащился к Южным воротам.
Перед Южными воротами находилась огромная погребальная пещера. По истечении года, когда труп обычно истлевал до костей, эти кости складывались в очень маленькие каменные гробы, и их ставили рядами друг над другом вдоль стен в таких пещерах. Правда, на погребальной пещере у Южных ворот тоже сказалась осада – пещера была разрушена и уже не имела достойного вида, просто груда разбитых каменных плит и костей. Но все же она продолжала оставаться иудейским кладбищем.
И вот Нахум присел на желтовато-белую, озаренную солнцем землю этого кладбища. Вокруг него лежали другие умирающие от голода, смотрели на храм. По временам они бормотали: «Слушай, Израиль, един и вечен бог наш Ягве!» Иногда они вспоминали о солдатах, о тех, в храме, у которых были хлеб и рыбные консервы, о солдатах в римском лагере, у которых были жиры и мясо, и тогда гнев изгонял из них голод, но, увы, на короткое, очень короткое время.
Нахум чувствовал огромную усталость, но эта усталость не была неприятной. Жаркое солнце согревало его. Вначале, когда он был еще учеником и обжигался об горячую массу, бывало ужасно больно. Теперь его кожа привыкла. Алексий не прав, заменив целиком ручной труд стеклодувной трубкой. И вообще его сын Алексий слишком высокого мнения о себе. Из-за его самоуверенности у него умерли дети и жена, украдены его запасы. Что сказано в Книге Иова? «Имение, которое он глотал, изблюет его. И будет отнят хлеб у дома его»[145]145
Книга Иова (XX, 15; цитата неточна).
[Закрыть]. Кто же из них Иов – он или его сын Алексий? Это очень трудно решить. Правда, с ним лопата, но разве он скребет ею свои струпья? Он не скребет их, значит, Иов – это его сын Алексий.
Воздать почесть умершему – заслуга, особенно если ты сам уже мертвец. Но сначала Нахум должен посмотреть в свою счетную книгу, в порядке ли последние записи: пусть с ним в могиле будет хорошая счетная книга. Он слышал рассказы о некой Марии бат Эцбен. Солдаты-маккавеи, привлеченные запахом жареного, ворвались в дом этой Марии и действительно нашли там жареное мясо. Это был ребенок Марии, и она хотела с солдатами сторговаться: так как ребенка родила она, то половина мяса должна остаться ей, половину она отдает солдатам. Вот это практичная женщина. Правда, такую сделку следовало непременно заключить в письменной форме и отдать на хранение в ратушу. Но теперь это сделать трудно. Чиновники там никогда не бывают. Они говорят, что голодны, но так нельзя – просто не приходить только потому, что голоден. Впрочем, некоторые от голода умерли, – день смерти лучше дня рождения[146]146
Ср. Екклезиаст (VII, 1).
[Закрыть], – и это их до известной степени извиняет.
«И вот мой сын Алексий, семь пядей во лбу, умнейший из людей, несмотря на весь свой ум, сидит голодный». Нахума вдруг охватывает бесконечная жалость к Алексию. Конечно, он – Иов. Борода Алексия гораздо больше поседела, чем его собственная, хоть он и моложе. Правда, его борода, Нахума, теперь тоже утратила свою четырехугольную форму, и если бы на него взглянула беременная женщина, ее дитя не было бы от этого красивее.
Все же он сердится за то, что ему, Нахуму бен Нахуму, стеклодуву, крупному коммерсанту, не оказывают должных почестей, что он один составляет весь свой траурный кортеж, – это, конечно, со стороны Ягве большое испытание, и он понимает Иова, и теперь ему совершенно ясно: Иов – это не сын его Алексий, он сам – Иов. «Гробу скажу: ты отец мой; червю: ты мать моя и сестра моя»[147]147
Книга Иова (XVII, 14).
[Закрыть]. А теперь пойдем, моя лопата, копай, моя лопата.
Он поднимается с большим усилием, слегка покряхтывая. Ему трудно – чтобы копать, нужно видеть. А тут эти отвратительные мухи, они сидят на его лице и все перед ним застилают. Очень медленно скользит его взгляд по желтовато-серой земле, по костям, по остаткам каменных гробов, и вдруг, совсем близко, он видит что-то переливающееся, опалового цвета; удивительно, как он раньше не заметил, – это же кусок муррийского стекла. Настоящее? Если не настоящее, то нужен какой-то особенно искусный способ, чтобы подделывать такое стекло. Где известен подобный искусный способ? Где делают они такое стекло? В Тире? В Кармании?[148]148
Кармания – область Древней Греции, лежащая на берегу Персидского залива.
[Закрыть] Он должен знать, где делают такое художественное стекло и как его делают. Его сын Алексий, наверное, знает. Недаром же он самый умный человек на свете. Нахум спросит своего сына Алексия.
Он подползает к осколку, он берет в руки кусок стекла, бережно прячет в карман у пояса. Быть может, это осколок флакона от духов, который положили в могилу умершему. Стекло, нет, не настоящее, но изумительная подделка, только специалист может ее отличить. Он уже не думает о том, чтобы лечь в могилу, в нем живет только одно желание – спросить своего сына Алексия об этом волшебном стекле. Он встает, он действительно выпрямляется, делает шаг правой, левой ногой, он слегка волочит ноги, спотыкается о кости и камни, но он идет. Возвращается к воротам, до них минут восемь пути, ему не понадобилось много времени – не проходит и часу, как он уже у ворот. Еврейские сторожа оказываются в хорошем настроении, они открывают сторожевое окошечко, они спрашивают: «Нашел что-нибудь пожрать, эй ты, мертвец? Тогда поделись с нами». Он гордо показывает им свой кусочек стекла. Они смеются, они пропускают его; и он возвращается на улицу Торговцев мазями, в дом своего сына Алексия.
Римляне подводили к городу четыре новых вала. Солдаты, не занятые на этой работе, несли уставную лагерную службу, занимались военными учениями, слонялись без цели, смотрели на белый, тихий, зловонный город, ждали.
Офицеры, борясь с удручающей скукой, устраивали охоты на зверей, которые собирались в большом количестве вокруг города, привлеченные запахом мертвечины. Попадались очень интересные породы, их не видели в этой местности уже много поколений. С Ливана спустились волки, из Иорданской области пришли львы, из Галаада и Васана[149]149
Галаад, Васан – области за Иорданом.
[Закрыть] – пантеры. Лисы жирели, не прибегая для этого к особым хитростям, хорошо жилось и гиенам, и стаям завывающих шакалов. На крестах, окаймлявших все дороги, густо сидело воронье, на горах выжидали стервятники.
Стрелки из лука иногда развлекались тем, что стреляли по сидевшим на территории кладбища умиравшим от голода евреям. Другие солдаты отправлялись поодиночке или кучками к стенам, где, вне досягаемости для снарядов, но достаточно близко, чтобы их видели, показывали людям, сидевшим на стенах, свои обильные пайки, жрали, давились, кричали «Хеп, хеп! Hierosolyma est perdita!»
От начала осады прошло уже семь недель. Евреи праздновали свой праздник пятидесятницы[150]150
Пятидесятница – один из трех главных древнееврейских праздников, справлялся на пятидесятый день после пасхи. Первоначально был праздником жатвы, позже переосмыслен как праздник в честь дарования народу закона у горы Синай.
[Закрыть], жалкий праздник, а ничто еще не изменилось. Прошел весь июль, ничто не изменилось. Иногда евреи делали вылазки, пытались атаковать новые валы, но безуспешно. И все-таки этот поход действовал римским легионерам на нервы сильнее, чем более опасные и суровые походы. При виде безмолвного и зловонного города осаждавшими постепенно овладевала бессильная ярость. Если евреям удастся уничтожить четыре новых вала, то строить новые укрепления будет уже невозможно: дерево приходит к концу. Тогда оставалось только ждать, пока те, там, внутри, не умрут с голода. Злобно поглядывали солдаты на храм, все такой же нетронутый, белый и золотой. Они не называли его «храм», ибо были полны страха, ярости и отвращения, они называли его только «вон то» или «то самое». Неужели им придется вечно сидеть перед этой белой таинственной и страшной твердыней? Римский лагерь был полон мрачной, отчаянной тревоги. Никакой другой город в мире не смог бы выдержать так долго междоусобицу, голод, войну. Неужели этих изголодавшихся нищих так и не удастся образумить? Надо было спешить с возвращением в Рим к октябрьским жертвоприношениям. Все, начиная с начальников легионов и кончая последним рядовым союзных войск, дошли до предела в своем гневе на этого бога Ягве, не дававшего римскому военному искусству восторжествовать над фанатизмом еврейских варваров.
В один из последних дней июля Тит пригласил Иосифа вместе с ним совершить обход. Тит – без знаков своего сана, Иосиф – без оружия молчаливо шагали среди огромного безмолвия. Равномерно раздавался окрик часовых, равномерно произносили они пароль: «Рим впереди». Окрестности Иерусалима были теперь на двадцать километров в окружности пусты и голы, над ними исполнилось слово Писания: «Гнев Ягве излился на это место, на люден, на скот, и деревья, и поля, и плоды земли»[151]151
Книга Пророка Иеремии (VII, 20).
[Закрыть].
Они достигли ущелья, в которое жители города обычно сбрасывали тела умерших. Оттуда шла резкая вонь, едкая, удушливая; тела лежали огромной грудой, в отвратительном бесстыдстве гниения. Тит остановился. Послушно остановился и Иосиф. Тит сбоку смотрел на своего спутника, терпеливо стоявшего среди ужасных испарений. Принц сегодня опять получил достоверные сведения о том, что Иосиф занимается шпионажем, действует в тайной согласованности с осажденными. Тит не поверил ни одному слову. Он отлично знал, в каком трудном положении оказался Иосиф, которого считали изменником и евреи, и римские солдаты. Он был искренне расположен к Иосифу, считал его честным человеком. Но бывали часы, когда он казался ему таким же чуждым и жутким, как и его солдатам. И здесь, стоя над этим ущельем с трупами, он искал на лице Иосифа каких-нибудь следов отвращения и печали. Но это лицо оставалось непроницаемым, и от него на принца повеяло чем-то холодным и непонятным; как мог еврей все это переносить?
Иосиф же испытывал мучительное желание быть там, где ужасы осады выступали с особенным безобразием. Он ведь и послан сюда, чтобы служить оком, которое видит весь этот ужас. Волноваться легко. Но заставить себя стоять на месте и созерцать – гораздо труднее. Нередко им овладевала мучительная режущая боль – оттого что он здесь, вне городских стен, и безрассудное желание смешаться с толпой там, в городе, Им-то хорошо! Иметь право сражаться, иметь право страдать вместе с миллионом других людей – это хорошо.
Он получил из города письмо, дошедшее неведомым путем, без подписи. «Вы мешаете. Вы должны исчезнуть». Он знает, что письмо от Юста. Опять этот Юст оказался прав по отношению к нему. Все попытки к примирению безнадежны, его личность мешает всяким переговорам.
Это очень тяжелое лето для Иосифа, лето под стенами Иерусалима. Заживающая рана на правой руке не опасна, но она болит и писать невозможно. Иногда Тит спрашивает его в шутку, не подиктует ли он ему: Тит лучший стенограф во всем лагере. Но, может быть, даже хорошо, что Иосиф сейчас не в состоянии писать. Пусть не будет ни мастерства, ни красноречия, ни чувства. Пусть все его тело станет только оком, больше ничем.
И вот он стоит рядом с Титом среди унылой местности, бывшей некогда одним из самых прекрасных уголков земли, его родиной. Теперь здесь пусто и голо, словно до сотворения мира. А на последней городской стене, уже поколебленной, еще держатся его соплеменники, – изможденные, одичавшие, они уверены в своей гибели и ненавидят его, как никого и никогда. Они назначили цену за его голову, чудовищную, высшую, которую они знают – целый четверик пшеницы. Молча стоит Иосиф, глядя перед собой. За ним, перед ним, рядом с ним – кресты, на которых висят люди его племени, у его ног – ущелье, где гниют люди его племени, вся опустошенная местность полна зверья, ожидающего добычи.
Тит заговорил. Он говорил тихо, но в этой пустыне отдается каждый звук.
– Ты считаешь жестокостью, мой Иосиф, что я заставляю тебя быть здесь?
Иосиф еще тише, чем принц, отвечает. Медленно, взвешивая каждое слово:
– Я сам этого захотел, принц Тит.
Тит кладет ему руку на плечо.
– Ты держишься молодцом, мой Иосиф. Могу я исполнить какое-нибудь из твоих желаний?
Иосиф, по-прежнему не глядя на него и тем же тоном, отвечает:
– Не разрушайте храм, принц Тит.
– Я этого желаю не меньше, чем ты, – сказал Тит. – Но мне хотелось бы сделать что-нибудь для тебя лично.
Иосиф наконец обернулся к принцу. Он видел его лицо, заинтересованное, испытующее, не лишенное доброты.
– Дайте мне, – проговорил он медленно, веско, – когда город будет взят, кое-что из добычи… – Он умолк.
– Что же дать тебе, еврей мой? – спросил Тит.
– Дайте мне, – попросил Иосиф, – семь свитков Писания и семь человек.
Они стояли, оба одинаковые, рослые, на фоне унылого ландшафта. Тит улыбнулся:
– Ты получишь семьдесят свитков, мой Иосиф, и семьдесят человек.
Священники из череды, совершающей служение, собирались ежедневно в Зале совета, чтобы бросить жребий, кому совершать отдельные частности жертвоприношения. Утром 5 августа, 17 таммуза по еврейскому счислению, среди собравшихся появились вожди армии – Симон бар Гиора и Иоанн из Гисхалы, оба при оружии, в сопровождении секретаря Амрама и большой толпы вооруженных солдат. Начальник храмового служения, руководивший жеребьевкой, спросил с тревогой, стараясь сохранить самообладание:
– Чего вы хотите?
– Можете сегодня не бросать жребия, доктор и господин мой, – сказал Иоанн Гисхальский. – Вам и впредь не придется бросать жребий. Вы все, господа священники, левиты, служители, можете разойтись по домам. Служение в храме прекращено.
Священники стояли перепуганные. От голода их лица стали дряблыми, белыми, как их одежды, они очень ослабели. Многих из них, подобно доктору Ниттаю, поддерживало только уважение к службе. Они слишком обессилели, чтобы кричать, и в ответ на заявление Иоанна раздалось только какое-то постанывание и поклохтывание.
– Сколько еще осталось жертвенных агнцев в ягнятнике? – грубо спросил Симон бар Гиора.
– Шесть, – с трудно дававшейся ему твердостью ответил начальник храмового служения.
– Вы ошибаетесь, доктор и господин мой, – мягко поправил его секретарь Амрам, и в вежливой злорадной улыбке обнажились его зубы. – Их девять.
– Выдайте этих девять агнцев, – сказал почти добродушно Иоанн Гисхальский. – В этом городе Ягве – уже давно единственный, кто ест мясо. Агнцы не будут сожжены. Ягве достаточно нанюхался сладкого запаха на своем алтаре. Те, кто за святыню борется, должны и питаться святыней. Выдайте девять агнцев, господа.
Начальник храмового служения чуть не подавился, ища ответа. Но он не успел открыть рта, так как выступил доктор Ниттай. Он устремил пылающий взгляд высохших исступленных глаз на Иоанна Гисхальского.
– Всюду сеть и западня, – проклохтал он со своим жестким вавилонским акцентом, – безопасно только в храме. Вы хотите теперь и в нем расставить ваши западни? Вы будете посрамлены.
– Там увидим, доктор и господин мой, – ответил хладнокровно Иоанн Гисхальский. – Может быть, вы заметили, что форт Антония пал? Война подползла к храму. Храм уже не обитель Ягве, он – крепость Ягве.
Но доктор Ниттай продолжал сердито клохтать:
– Вы хотите ограбить алтарь Ягве? Кто украдет у Ягве его хлеб и мясо, тот украдет у всего Израиля его опору.
– Молчите, – мрачно приказал Симон. – Служба в храме прекращена.
Но секретарь Амрам подошел к доктору Ниттаю, положил ему руку на плечо и сказал примирительно, оскалив желтые зубы:
– Успокойтесь, коллега. Как это место у Иеремии? «Так говорит Ягве: всесожжения ваши совершайте, как и обычные жертвы ваши, и ешьте мясо; ибо я не заповедовал отцам вашим и не требовал сожжений и жертв, когда вывел их из земли Египетской»[152]152
Книга Пророка Иеремии (VII, 21—22).
[Закрыть].
Иоанн Гисхальский обвел круглыми серыми глазами ряды растерянных слушателей. Увидел упрямый высохший череп доктора Ниттая. Успокоительно, любезно он сказал:
– Если вы хотите, господа, и впредь совершать службы, петь, играть на ваших инструментах, произносить благословляющие молитвы, это у вас не отнимается. Но весь оставшийся хлеб, вино, масло и мясо реквизированы.
Пришел первосвященник Фанний, его известили. Когда Иоанн Гисхальский организовал в городе и храме выборы на высочайшую должность и жребий пал на Фанния, этот туповатый, малограмотный человек принял веление божие с тягостным смущением. Он сознавал свое ничтожество, он ничему не учился, ни тайному знанию, ни даже простейшим смыслам Священного писания, – он учился только делать цемент, таскать камни и класть их друг на друга. Теперь Ягве надел на него святое облачение, восемь частей которого очищают от восьми тягчайших грехов. Как ни беден он умом и ученостью, святость в нем есть. Но нести бремя святости тяжело. Вот теперь эти солдаты приказывают приостановить храмовое служение. Этого нельзя допустить. А что он может сделать? Все смотрят на него, ожидая его слов. О, если бы он надел свое облачение, Ягве, наверное, вложил бы в его уста нужные слова. Теперь он кажется себе нагим, он переминается с ноги на ногу, беспомощный. Наконец он начинает.
– Вы не можете, – обращается он к Иоанну Гисхальскому, – накормить девятью ягнятами всю армию. А мы можем благодаря им совершать служение еще в течение четырех священных дней.
Священники находят, что устами Фанния говорит благочестивая и скромная народная мудрость, и тотчас начальник храмового служения поддерживает его.
– Если эти люди еще живы, – говорит он, указывая на священников вокруг себя, – то лишь благодаря их воле совершать служение Ягве согласно Писанию.
На это Симон бар Гиора сказал только:
– Врата храма достаточно налюбовались, как вы набиваете себе брюхо жертвами Ягве!
И его вооруженные солдаты ворвались в ягнятник. Они взяли ягнят. Они ворвались в зал, где хранилось вино, и взяли вино и масло. Они проникли в святилище. Никогда, с самою построения храма, сюда не входил никто, кроме священников. А теперь солдаты, смущенно ухмыляясь, неуклюже обшаривали прохладный, строгий, сумеречный покой. Здесь стоял семисвечник, бочонок с курениями, стол с двенадцатью золотыми хлебами и двенадцатью хлебами из муки. Золото никого не интересовало, но Симон указал на душистые пшеничные хлебы. «Берите!» – приказал он; он говорил особенно грубо, чтобы скрыть свою неуверенность. Солдаты подошли к столу с хлебами предложения осторожно, на цыпочках, Затем быстрыми движениями схватили хлебы. Они несли их так бережно, словно это были младенцы, с которыми надо было обращаться осторожно.
Вслед за солдатами, неуклюже шагая, шел первосвященник Фанний, глубоко несчастный, больной от сомнений, не зная, что предпринять. Боязливо уставился он на завесу, закрывавшую святая святых, жилище Ягве, в которое только он имел право входить в день очищения. Однако ни Симон, ни Иоанн к завесе не прикоснулись, они повернули обратно. Первосвященник Фанний почувствовал, что с него свалилась огромная тяжесть.
Покинув священные запретные залы, солдаты облегченно вздохнули. Они были целы и невредимы, никакой огонь с неба не сошел на них. Они несли хлебы. Это были изысканные белые хлебы, но всего только хлебы, и если к ним прикоснуться, ничего не случится.
Симон и Иоанн пригласили в тот день на вечерю членов своего штаба, а также секретаря Амрама. Уже в течение многих недель не ели они мяса и теперь жадно вдыхали запах жареного. Было также подано много благородного вина, вина из Эшкола, а на столе лежал хлеб, много хлеба, – его хватило бы не только для еды, как говорили, смеясь, приглашенные, но и для того, чтобы брать мясо с тарелки. Они перед тем выкупались, умастились елеем из храма, подстригли и причесали волосы и бороды. Удивленно смотрели они друг на друга – в каких статных, элегантных людей превратились эти одичавшие существа.
– Ложитесь поудобнее и ешьте, – пригласил их Иоанн Гисхальский. – Мы это себе разрешаем, вероятно, в последний раз, и мы это заслужили.
Солдаты вымыли им руки, Симон бар Гиора благословил хлеб и преломил его, трапеза была обильной, они уделили от нее и солдатам.
Оба вождя были в добром, кротком настроении. Они вспоминали свою родную Галилею.
– Мне вспоминаются стручковые деревья в твоем городе Геразе, брат мой Симон, – сказал Иоанн. – Прекрасный, город.
– А я вспоминаю о финиках и оливках в твоем городе Гисхале, брат мой Иоанн, – сказал Симон. – Ты пришел в Иерусалим с севера, я – с юга. Нам следовало сразу объединиться.
– Да, – улыбнулся Иоанн, – мы были дураками. Как петухи. Работник несет их за ноги во двор, чтобы зарезать, а они, вися и раскачиваясь, продолжают колотить друг друга клювами.
– Дай мне грудинку, что у тебя на тарелке, брат мой Иоанн, – сказал Симон, – а я тебе дам заднюю ногу. Она жирнее и сочнее. Я очень тебя люблю и восхищаюсь тобой, брат мой Иоанн.
– Благодарю тебя, брат мой Симон, – сказал Иоанн. – Я не подозревал, какой ты красивый и статный. Я вижу это только сейчас, когда приближается смерть.
Они поменялись мясом и поменялись вином. Иоанн запел песню прославлявшую Симона, – как он сжег римские машины и артиллерию, а Симон запел песню, прославлявшую Иоанна, – как за первой стеной форта Антония он возвел вторую.
– Если бы наше везенье равнялось нашей храбрости, – улыбнулся Иоанн, – римлян бы здесь давно уже не было.
Они пели застольные и непристойные песни и песни о красоте Галилеи. Они вспоминали о городах Сепфорисе и Тивериаде и о городе Магдале, с его восемьюдесятью ткацкими мастерскими, разрушенными римлянами. «Красно от крови озеро Магдалы, – пели они, – покрыт весь берег трупами Магдалы». Они написали свои имена на боевых повязках с начальными буквами девиза маккавеев и поменялись повязками.
Снаружи равномерно доносились глухие удары в главную стену. Это работал «Свирепый Юлий», знаменитый таран Десятого легиона.
– Пускай работает, – смеялись офицеры, – завтра мы его сожжем. – Они возлежали, ели, шутили, пили. Хорошая была трапеза, последняя.
Ночь шла своим путем. Они стали задумчивы, в большом зале царило буйное, мрачное веселье. Они вспоминали мертвых.
– У нас нет ни чечевицы, ни яиц, – сказал Иоанн Гисхальский, – но десять кубков скорби мы выпьем и ложа мы опрокинем.[153]153
Речь идет о поминальных обычаях: во время пира скорби близкие покойного должны были выпить «чашу утешения»; близкие также приносили скорбящим кушания-из чечевицы и яиц, а в доме покойного переворачивали все кровати и так спали в течение траурной недели.
[Закрыть]
– Мертвых очень много, – сказал Симон бар Гиора, – и их память заслуживает лучшей трапезы. Я имею в виду умерших офицеров.
Было восемьдесят семь офицеров, изучивших римское военное искусство, из них семьдесят два человека пали.
– Их память да будет благословенна.
– Я вспоминаю первосвященника Анана, – сказал Иоанн Гисхальский. – То, что он сделал для укрепления стен, было хорошо.
– Он был негодяй, – резко отозвался Симон бар Гиора, – мы должны были его уничтожить.
– Мы должны были его уничтожить, – примирительно согласился Иоанн, – но он был хороший человек. Память его да будет благословенна.
И они выпили.
– Я вспоминаю о другом покойнике, – едко сказал секретарь Амрам, – он был другом моей юности, и он оказался псом. Он изучал в одной комнате со мной тайны учения. Его имя Иосиф бен Маттафий. Да не будет мира его памяти.
Ему пришла в голову мысль, сулившая особенно приятное развлечение. Он перемигнулся с Симоном и Иоанном, и они приказали привести доктора и господина Маттафия, отца Иосифа, заключенного в темницу форта Фасаила.
Дряхлый высохший старик провел ряд долгих, ужасных дней в вонючем темном подземелье. Он был безмерно истощен, но он взял себя в руки. Он боялся этих диких солдафонов. Они стольких убили, что еще чудо, как это они его оставили в живых, им не следовало перечить. Он поднес дрожащую руку ко лбу, поклонился.
– Чего вы хотите, господа, – пролепетал он, – от старого, беззащитного человека? – И заморгал, ослепленный светом, невольно вдыхая запах кушаний.
– Дело плохо, доктор и господин Маттафий, – сказал Иоанн. – На том месте, где мы сейчас находимся, скоро будут римляне. Как нам поступить с вами, старичок, мы еще не решили. Оставить ли вас римлянам или теперь же убить?
Старец стоял согнувшись, молча, дрожа.
– Послушайте, – начал секретарь Амрам, – как вам, может быть, известно, пищевых продуктов в городе почти нет. У нас больше нет мяса, мы сидим на стручках. То, что вы здесь видите, это кости последних девяти ягнят, предназначенных для жертвенного алтаря Ягве. Мы их съели. Что вы уставились на нас? Было очень вкусно. Вы видите какой-нибудь «мене-текел» на стене? Я – нет. В начале войны с нами был и ваш сын. Затем он отошел. Поэтому, в конце войны, вам следует быть с нами. Мы люди вежливые, и мы приглашаем вас принять участие в нашей последней трапезе. Как видите, костей осталось еще немало. Мы предоставляем вам также хлеб, которым мы брали с тарелок мясо.
– Ваш сын оказался подлецом, – сказал Иоанн Гисхальский, и его хитрые серые глаза стали гневными, – отбросом. Вы породили кусок дерьма, доктор и господин Маттафий, священник первой череды. Есть кости и хлеб подобает нашим солдатам, а не вам. Но мы поддерживаем предложение-доктора Амрама и теперь приглашаем вас.
Симон бар Гиора был менее вежлив. Он угрожающе посмотрел на старца мрачными узкими глазами и приказал:
– Есть!
Старец весь дрожал. Он безмерно гордился успехами сына. Сам он не умел выдвинуться. Он понимал, увы, прекрасно понимал, почему Иосиф потом перешел к римлянам. Но эти люди не понимали, они смертельно возненавидели его сына. И вот теперь ему приказывают есть. Может быть, это испытание, и если он начнет есть, они будут торжествовать, и издеваться, и убьют его за то, что он попытался этим кощунством сохранить остаток своей жизни. После грязи и вони темного узилища он почти терял рассудок от голода и истощения. Он видел кости – это были сочные кости, полные мозга, кости годовалых отборных ягнят, наверно, можно разжевать такую кость и съесть целиком. И еще хлеб, восхитительно благоухавший и, кроме того, пропитанный соком и мясной подливкой. Старик приказал себе не двигаться, однако ноги не послушались его. Его влекло вперед, он пошел, против воли, грязными руками схватил кости. Откусил, стал глотать, сок капал на его свалявшуюся белую бороду. Он не благословил пищи – это было бы, вероятно, двойным кощунством. Он знал, что мясо – с алтаря Ягве и хлеб – со стола его и что он совершает удесятеренный грех. На веки веков лишал он себя и своих потомков спасения. Но все же он присел на пол, забрал кости в обе руки, рвал их своими старыми, испорченными зубами, прокусывал, жевал, пережевывал, был счастлив.
Остальные смотрели на него.
– Взгляните, – сказал доктор Амрам, – как он жрет ради спасения своей души.
– Вот каковы люди, которые довели нас до теперешнего положения, брат мой Иоанн, – сказал Симон.
– Вот каковы люди, за которых мы умираем, брат мой Симон, – сказал Иоанн.
Больше они не сказали ничего. Молча смотрели они, как доктор и господин Маттафий сидел на полу зала, в свете факелов, и жрал.
На другой день, 6 августа, доктор Ниттай разбудил назначенных на этот день священников восьмой череды, череды Авии. Руководить храмовым служением, вместо растерявшегося начальника, взял на себя доктор Ниттай, и священники повиновались. Они последовали за ним в зал, и доктор Ниттай произнес:
– Подойдите и киньте жребий, – кому закалывать жертву, кому спускать кровь, кому нести к алтарю жертвенные части, кому муку, кому вино.
Они стали метать жребий. Затем доктор Ниттай сказал:
– Выйди тот, на кого пал жребий, и посмотри, не настало ли время закалывать жертву.
Когда настало время, дозорный прокричал:
– Наступает день. На востоке становится светло.
– Светло ли уже до Хеврона? – спросил Ниттай.
И дозорный ответил:
– Да.
Тогда доктор Ниттай приказал:
– Пойдите принесите ягненка из ягнятника.
И те, кому выпал жребий, пошли в ягнятник. Невзирая на то, что там не было ни одного ягненка, они взяли ягненка, которого не было, они напоили его, как предписывал закон, из золотого кубка.
Другие отправились тем временем с двумя гигантскими золотыми ключами к святилищу и открыли большие врата[154]154
Большие врата – вели в святилище Иерусалимского храма. Облицованные массивными золотыми листами, они были настолько тяжелы, что их с трудом открывали двадцать священников. Шум открывавшихся ворот служил сигналом для утреннего жертвоприношения.
[Закрыть]. В то мгновение, когда мощный шум открывавшихся ворот достиг его слуха, тот, кому надлежало это сделать, заколол в другом зале жертву, которой не было. Затем они положили животное, которого не было, на мраморный стол, сняли с него кожу и разрубили его, тоже согласно закону, понесли вдевятером отдельные части к ограде алтаря. Затем кинули жребий, кому нести жертвенные части на самый алтарь. Пришли низшие служители и переодели избранных. Затем они возжгли на жертвеннике огонь и стали бросать в него курение, черпали из золотой чаши золотыми ложками. И они взяли стозвучный гидравлический гудок и заставили его зазвучать всеми голосами сразу. Когда раздавался этот мощный вой, покрывавший в Иерусалиме каждый звук, все знали, что сейчас совершается жертвоприношение, и простирались ниц.
Тому, на кого пал жребий, подали вино. Доктор Ниттай взошел на один из выступов алтаря и стоял в ожидании, с платком в руке. Те, кому надлежало, бросили части жертвы в огонь. Как только священник наклонился, чтобы вылить вино, доктор Ниттай подал условный знак, махнул платком. И пока поднимался столб дыма, левиты, стоявшие на ступенях святилища, запели псалом, и священники у ограды алтаря стали благословлять распростертый народ.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































