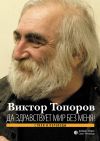Текст книги "Грамматические вольности современной поэзии, 1950-2020"

Автор книги: Людмила Зубова
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
ГЛАВА 12. ГЛАГОЛЬНАЯ СОЧЕТАЕМОСТЬ
Как растолковать тебе, дружок,
распалив твое воображенье,
что стихи не столько под рожок
словосочетающее пенье,
сколь застывший между строк прыжок
в тишину из головокруженья.
Виталий Кальпиди
Рассмотрим способность глаголов сочетаться с разными частями речи (глагольную валентность).
В современной поэзии исходные нормативные сочетания часто преобразуются, грамматическими аномалиями создается иная картина мира по сравнению с общепринятой.
За пределами этого раздела остается стилистически маркированная сочетаемость, в частности архаизмы типа бежать объятий, воевать стихию, диалектизмы и просторечие: болели мне руки, я извиняюсь вам, если в контекстах употребление таких моделей ограничивается стилизацией.
Аномальное обозначение направленности действия или состояния
Большое количество актантных сдвигов в современных текстах связано с употреблением экзистенциальных глаголов, глаголов неконтролируемого действия, статичного положения в пространстве, ментального действия и состояния (например, умереть, уснуть, вздремнуть, жить, лежать, стоять). Они приобретают, вопреки их семантике, значение направленности и сопутствующую этому значению целевую валентность:
в овечье вечное
древесные вёдра землерозы на вымокшем горизонте
в лето вхожу выхожу
из-света в тёмную светом террасу
в затмение копчёной части лиственного солнца
затихание света влетает
вветром пели плетение птицы
куда я живу
в моей полноте беспомощности
Быть может, там, в синеве и вечности, Тот, Кто есть,
приблизит лицо к тебе, как к бабочке – человек.
И в бездну если смотреть, а тут в синеву Его…
Стой столько, сколько стоишь, но дольше не задержись,
живи себе куда жил, откуда себя живешь,
сквозь изгородь и холмы, по-над-через жизнь.
Куда мне жить?
Я выстругал ручей,
И крепостной комар удумал крови,
Начистив клюв уверенной вороне…
<…>
В кого мне жить?
Без девушки с клюкой
И прочих пряностей из фартука слависта?
Запущенность колеблется от свиста
Причины – мачехи, и близок перебой
Бортов с шарами и клюки с рукой.
(Я повторю: «любовь, как рыба молодая»,
но что напишет мне тетрадь твоя пустая
и водянистая, где есть на самом дне
осадок чёрного рыбачьего упрёка?..
Что сердце сердце ест, как соль, Москва далёко,
а в Симферополе – ни плюнуть, ни блеснуть,
кругом писатели – и некуда уснуть.)
в моросящем чикаго спустя сто лет
ты целуешь нерусскую революцию
мальчик в лимоновой куртке и взглядом кэдбери
их скоро всех убьют у кого ты учишься
строгости партий в свои дымовые шахматы
вздрагиваешь кожурою глазного яблока
водишь зрачком просыпаясь туда от ужаса
Все куда-то подевались, всякие зверюшки.
Все куда-то превратились. Вымерли, наверно.
Муравоин кропотливый, гусельница-дева,
стрекозунья попрыгуля, бабочка-летута,
самолётный паукатор, мухаил-охрангел,
жук-ползук с морским отливом, тучный комарджоба,
мошка с бантиком ленивым, стрекотун легатый
и мечтательная с детства тётенька улётка.
Все зверюшки опустели, улетели, ускакали,
закопались, завинтились, шляпка не торчит.
Стало чисто, не кусаче, не жужжаче, не виваче,
Стала осень, просто осень, осень холосо!
Всё становится твёрдым,
нам не успеть отсюда родиться,
станем старцами,
нерождёнными близнецами,
лица в трещинах,
трещины в наших лицах, сусальным
золотом покроются руки.
Сиамские – потому что в разлуке.
Так убийца с убитым снова срастаются под землёю,
так приходит смерть сама за собою,
так смыкается одиночество в лиственную аркаду,
так сердца получают в дар безвыходную ограду,
так мы дотрагиваемся,
дотягиваемся
до счастья и до несчастья.
Мы внутри, мы снаружи —
некуда прекращаться.
При этом и направленность и цель чаще всего предстают неопределенными или отрицаемыми (а значит, в пресуппозиции, существующими).
Остановлюсь на нескольких примерах этого явления, не перечисленных выше.
В следующем фрагменте явно выражен предикат неизвестно:
Слова куда умереть можно понимать и в приземленном, и в возвышенном смысле. В приземленном – ‘в какую могилу положат?’, в возвышенном – ‘в каком пространстве предстоит оказаться после смерти?’ Слово неизвестно указывает на непознаваемость того, что находится за гранью жизни и в какой-то степени выражает надежду на инобытие. В конструкции с безличными предикативами так душно, и дико, и тесно вполне нормативный дательный падеж субъекта обнаруживает неопределенность субъекта названных состояний. Более того, слова что даже не знаешь кому, во-первых, могут быть отнесены не только к безличным предикативам, но и к глаголу умереть, и, во-вторых, они могут обозначать не только неопределенный выбор кандидатов на умирание, но и сомнение в идентичности субъекта «я».
У поэтов встречается и указание на то, куда человек умирает:
Даже не знаем, она болеет —
или просто легла и лежит, так ей нравится.
Кое-что было у нас с Наташей,
почти у всех, потому что Наташа была красавица:
не захочешь – а тронешь.
Почему-то всех нас бросила,
умерла из Москвы в Воронеж.
В таких случаях основным импульсом валентной деформации глагола является сочетание уехать (уйти) куда-то (ср. эвфемизм уйти – ‘умереть’).
В следующем контексте можно наблюдать актантный сдвиг, вызванный синтаксической инверсией:
Нормативным порядком слов была бы последовательность я так долго куда-то бежала и жила. У Нади Делаланд сочетание куда-то жила находится в составе зевгмы11011101
По формулировке Э. М. Береговской, «Зевгма – это экспрессивная синтаксическая конструкция, которая состоит из ядерного слова и зависящих от него однородных членов предложения, равноценных грамматически, но семантически разноплановых, вследствие чего в многозначном ядерном слове одновременно актуализируются минимум два разных значения или смысловых оттенка» (Береговская 2004: 63).
[Закрыть] – конструкции с семантически разнородными словами (экзистенциальным глаголом и глаголом движения), представленными как однородные члены предложения. Эта однородность, вероятно, диктуется представлением о том, что жить – значит, все время бежать куда-то. Возможен здесь и подтекст пушкинской цитаты жизни мышья беготня. Понятно, что сочетание куда-то жила порождено моделью куда-то бежала. В этом случае сема интенсивности, свойственная глаголу бежать, передается и глаголу жить. Однако существенна препозиция аномального сочетания по отношению к нормативному: производная авторская конструкция предшествует исходной общеязыковой. Авторский синтаксис становится иконичным: изобразительным элементом оказывается опережающая стремительность. Кроме того, здесь можно видеть иконическое воспроизведение эмоционального напряжения: глагол бежала проявляет в этом контексте энантиосемическую потенцию, допуская как прочтение ‘бежать навстречу любви‘, так и прочтение ‘бежать прочь от любви‘.
Особый интерес вызывает добавление векторной валентности глаголам стоять и лежать. Рассмотрим сначала актантный сдвиг при употреблении глагола стоять:
Библейская пыль золотая лежит, как жена молодая.
Куда-то стоит кипарис
над лентой, похожей на Стикс.
Где родина каждого дома? где красные крыши
Содома? Твой ангел висит,
невесом, над Стиксом, похожим на сон.
Советская соль золотая блестит, как волна
нежилая. Собою стоит кипарис
под ветром, похожим на Стикс.
При таком описании взгляд наблюдателя фиксируется не на статическом состоянии дерева, а направляется тем образом динамики, который диктуется языковыми метафорами кипарис устремлен вверх, кипарис тянется вверх.
Неопределенность направленности, выраженная местоимением куда-то, противоречит привычной картине мира: ясно, что кипарис направлен вверх, если он растет нормально. Картину, изображенную Поляковым, можно соотнести с таким тезисом В. Н. Топорова:
В пределах контекста, определяемого мотивом стояния как основным, именно стояние трактуется как знак готовности к инспирациям (извне ли или изнутри) и к отзыву на них, предполагающему высокую активность, инициативность (Топоров 1996: 43).
Эти качества (активность и инициативность) и обозначены в тексте Полякова. При нормативной сочетаемости глагол стоит в высказывании о дереве употребляется как десемантизированная связка и ни о каком куда-то не может быть речи, а у Полякова глагол выразительно семантизирован.
В этом же тексте примечательно и сочетание собою стоит кипарис. Может быть, это сочетание можно понимать как нестандартный эллипсис от идиомы сам собою – ‘этот кипарис стоит отдельно от других деревьев’ (или ‘независимо от человека)’. Заметим, что слова собою, обособленно, особняком – исторически однокоренные. В русском языке есть и другие выражения с этим местоимением, указывающие на автономность: стоит себе, стоит сам по себе. Может быть, выражение собою произведено в этом тексте от омонимичной идиомы сам собою – ‘по своим качествам’ – от такого выражения, как в песенной строке Ты, моряк, красивый сам собою.
Объяснить слова собою стоит кипарис можно с опорой на высказывание А. Б. Пеньковского:
Именно это значение – значение самоотчуждения или отчуждения другого – и несет местоименная частица себе. На самом деле она указывает на то, что субъект действия – по собственной воле или по доброй / недоброй воле другого (действуя в своих интересах или не преследуя никаких интересов, получая удовольствие или не получая его – все это зависит от меняющихся ситуаций и отражающих их контекстов!) – замыкает себя в своем действии, будучи полностью захвачен и поглощен им, отчуждает окружающий мир от себя или, замыкая действие в себе, себя отчуждает от внешнего мира, или же отчуждается миром и, оказываясь объектом отчуждения, замыкается в себе и в своем действии (Пеньковский 2004: 173).
Учитывая это, можно сказать, что в тексте Полякова с образом стоящего куда-то кипариса и сочетанием собою стоит (независимо от варианта его толкования) наблюдается противопоставление авторской картины мира обыденному представлению о дереве: кипарис стоит не для того, чтобы на него смотрел человек, у него есть своя цель стоять куда-то. В этом случае ненормативная векторная валентность глагола становится средством одушевления предмета. Производящей конструкцией может быть и выражение стоит себе (‘стоит, не обращая ни на кого внимания’).
Следующий пример демонстрирует смысловое преобразование глагола лежать:
Возможно, что здесь образ направленности вызван языковой метафорой устремлен мыслью. Но в тексте очевидна эротическая образность, и в таком случае порождающим элементом могут быть слова с семантикой полета, входящие в эротический дискурс и эксплицированные последней строкой фрагмента.
Слова на старческой постели относятся к постели старика, а не девушки. В таком случае вопросительное слово куда синонимично слову зачем (в смысле ‘что ее ждет’). Определение на старческой вполне отчетливо обозначает перспективу смерти, и если имеется в виду будущее старика, то любовное соединение здесь приравнивается к смерти не только архетипически, но и всей образной системой текста.
Языковым импульсом или фоном (т. е. фразеологической пресуппозицией) такого употребления глагола может быть нормативное сочетание куда лежит в вопросе куда она лежит головой? Нормативно и сочетание с формой прошедшего времени: Куда она легла?
Е. В. Рахилина убедительно показала, что семантика глаголов стоять и лежать связана не столько со зрительным восприятием вертикального или горизонтального положения объекта, сколько с представлением о его функциональности с точки зрения человека (Рахилина 2008: 293).
Текст Виталия Кальпиди с конструкцией куда она лежит, на первый взгляд, противоречит языковому представлению о нефункциональности лежания: глагол лежит здесь соотнесен с метафорой полета. Но по существу вывод Е. В. Рахилиной подтверждается и этим контекстом: вопрос куда? в значении зачем? может читаться как вопрос риторический, и тогда в стихотворении Кальпиди обнаруживается смысл ‘никакого куда быть не может, незачем ей там лежать’. Разумеется, авторская позиция в данном случае предполагает не осуждение, а сочувствие.
В стихах Олега Юрьева встретилось аномальное примыкание к глаголу активного действия петь, однако субъект этого действия – сновидения:
Аномальное обозначение адресованности действия или состояния
В большинстве контекстов аномальное употребление беспредложного дательного падежа существительных и местоимений является средством одушевления и олицетворения адресата:
В кресле шатучем, руки на ручки,
В пледе – как в отпуску,
Ежася от мороза,
От щиколоток до скул,
Как два дня до получки,
Вся я себе заноза.
Так балерина обидна пачке.
Содержимое оболочке.
И как воздух из недер шара,
Выпускает себя душаа.
кы-кё-кя-ке, как сказала галка —
только в том ли порядке, и так всегда
речи любого мгновенья жалко;
точками беглой мути стынет вода,
и отраженье ворон, и стволов, и веток
золотом невесомым обведено —
как не глядишь, а знаешь, кто против света
гордо сидит и снегу глядит в окно
иду по пояс морю
по мелколесью солнца и тумана
печёт и леденит, водица слабой соли
не дует, не течёт; стоит, как в чашке,
безветрие на солнечном просторе
де-факто тишина – гроза де-юре
барометры показывают бурю,
но бури нет; иду по пояс морю,
разблёскивая мелкий свет ладонью
вот так идёшь-идёшь по мелководью
вдруг бух – фарватер.
Тут нет любви, но есть её приметы:
примятая неправильно трава
и мятный запах вкусной сигареты,
подброшенный траве позавчера.
Рассмотрим последний пример. Нормативным сочетанием было бы брошенный в траву. Глагол подбросить в норме управляет дательным падежом адресата: подбросить кому-то. Значит, в этом контексте актантному сдвигу подверглась не грамматическая, а семантическая валентность глагола. Глагол подбросить содержит в своем значении компонент ‘со скрытой целью’, а так как здесь эта цель скрыта от травы, то причастие подброшенный усиливает эффект одушевления травы, который создается дательным падежом. В этом тексте деформирована семантическая валентность не только рецепиента, но и объекта: траве подбросили не сигарету, а ее запах. Мотив следа очень характерен для современной поэзии вообще и для Виталия Кальпиди в частности.
В художественной системе Кальпиди человек и природа сливаются, или, говоря словами А. К. Жолковского о Пастернаке, происходит «рассредоточение субъекта в окружающем» (Жолковский 2005: 500). Кальпиди обычно изображает это рассредоточение как любовь и смерть в их архетипической изоморфности.
Если в предыдущих примерах одушевляется адресат, то в следующих – субъект действия или состояния:
Тебе буксир с Невы сигналил басом,
тебе Ростральные колонны розовели,
тебе чинился Лейтенанта Шмидта,
тобой используемый в общем редко, мост.
Тебе кружили яхты левым галсом,
тебе сверкали влажные тоннели,
тебе Мечети голубела митра,
и Петропавловка вставала в полный рост.
скомканных слов звук разрываемой ткани когда
туман и в нем глубоко где-то там коровье ботало день-день-был
в ночь на первое декабря дребезжит нам цинковая вода
издалека далека где снег неизбежен как дембель
кликни моё urlо а то я усну
до весны и буду кричать во сне
а тебе останется только накликать снег
на двенадцать ещё живых городов
несмотря на всю твою осень мир к этому не готов
лучше пусть потихо-онечку тронут сквозняк нетопырьи крыла
и хоть что-нибудь вдребезги нам упадёт со стола
Мононегативные конструкции с формой никому устраняют безадресность, в норме обозначаемую этим местоимением, так как в высказываниях не отрицается глагольное действие:
август с виду совсем неопасен
а внутри у него кошмар предсмертных трав
баба с возу вспомнится вся аж покачнется подымет крик
а внутри у нее дикая степь расстилается никому
не хочешь платитьне надонайдется крэк
обойдемся вдруг обходились же как-то
В следующем тексте замена управления у кого-н. → кому-н. меняет представление о логическом субъекте действия. Субъект как будто понижается в ранге, тем самым выражается представление о зависимости поэта от условной музы:
Александр Месропян противопоставляет дательный падеж без предлога дательному с предлогом к:
Беспредложная форма тебе здесь выражает экзистенциальный смысл прекращения жизни в отличие от нормативной к тебе. Аналогичный экзистенциальный смысл выражен у того же автора в строке пока нам не настал декабрь:
В строке сорока-сорока ты мне урони перо сороке приписывается возможность воли к адресованному действию.
Беспредложный дательный падеж адресата аномален только для некоторых глаголов, например глаголов движения – в отличие от глаголов речи:
Замену дательного падежа с предлогом дательным беспредложным можно видеть в таком контексте:
Есть много слов, чтоб их сказать тебе,
не выдав сути. Все слова такие.
Возможно, разум вдруг меня покинул.
Возможно, просто вышел на обед
и щаз придет, вернется отдохнувшим.
Но – не еще, и звуки, опустев,
спускаются мне пылью на постель
и голову мне прячут под подушку.
Применительно к последнему контексту синтаксическая норма предполагает сочетания на мою постель или ко мне на постель. Но в данном случае важно, что получатель обозначен не как находящийся в постели, а как тот, кому предназначены звуки (метонимически – поэтическая способность, вдохновение).
В следующем, приведенном полностью, стихотворении Евгения Клюева можно видеть градацию аномальности – от вполне нормативного я спляшу ему до контекстуально обусловленных приказаниями я ему захохочу и я умру ему.
Если фокусник прикажет мне: пляши! —
я спляшу ему: как фокусник прикажет.
Если фокусник прикажет: не пляши! —
так не буду.
Если фокусник прикажет: хохочи! —
я ему захохочу: как он прикажет.
Если он прикажет мне: не хохочи! —
так не буду.
Если фокусник прикажет мне: умри! —
я умру ему: как фокусник прикажет.
Если фокусник прикажет: не умри! —
так не буду.
Если фокусник прикажет мне: люби! —
полюблю я балерину, балерину.
Если фокусник прикажет: не люби! —
полюблю я балерину, балерину.
В стихотворении Андрея Туркина грамматически аномальная рецепиентная валентность, возможно, опирается на диалектно-просторечное употребление дательного падежа с глаголом болеть: мне голова болит. Читая этот фрагмент, обратим внимание и на другие аномалии сочетаемости:
Ты нагнулась над речкой с тазами,
Я напротив траншею копал.
Мы с тобой обменялись глазами,
И намек между нами упал.
Ты сказала: «Солдат, я нагнулась,
Ты же смотришь так метко и колко,
Что сорочка из рук утонула,
Словно мне уколола иголка!»
В этом тексте изображена встреча солдата с деревенской девушкой. Диалектизм мне уколола является элементом прямой речи и, соответственно, речевого портрета этой девушки. Носителям литературного языка такая конструкция представляется контаминацией выражений меня уколола и мне больно.
Вероятна здесь и производность от глагола причинить (боль), управляющего дательным падежом рецепиента. Впрочем, сочетание причинить боль неестественно в живом языке, и очень возможно, что именно его стилистическая чужеродность порождает контаминацию, передавая валентность глагола причинить глаголу уколоть.
Заметим, что в этом тексте преобразована стандартная сочетаемость, которая описывала бы эту ситуацию в обиходном языке: девушка не укололась иголкой, а ее уколола иголка. При таком актантно-ролевом сдвиге происходит повышение коммуникативного ранга11331133
«…в отличие от роли, коммуникативный ранг характеризует участника с прагматической точки зрения – по отношению к фокусу внимания говорящего» (Падучева 1998: 93).
[Закрыть] участника иголка. Оно усиливается дативом мне, так как он предполагает указание на сознательное целенаправленное действие грамматического субъекта.
Возможно, повышение компонента иголка в ранге связано с метафорически-символическим содержанием образа. Появлению слова иголка в этом тексте предшествует реплика Ты же смотришь так метко и колко, следовательно, существительным иголка буквализируется языковая метафора. А поскольку речь идет об эротическом возбуждении, эта иголка воспринимается как бытовое воплощение стрелы Амура (такое восприятие усиливается наречием метко).
В тексте Туркина есть и другая аномалия управления: из рук утонула. Глагол утонуть в норме не содержит компонента «отправная точка» и не имеет соответствующей валентности, но получает ее от глагола выпасть, фразеологически связанного с сочетанием из рук. Как и во многих других текстах с деформированным управлением, здесь ощутима компрессия высказывания: ‘выпав из рук, утонула’.
В строчке Мы с тобой обменялись глазами очевидна аномалия семантической валентности при соблюдении нормативной грамматической сочетаемости: авторское сочетание метонимически произведено от выражения обменяться взглядами. При этом стертая образность глагола из общеязыкового клише оживляется логическим парадоксом.
В следующем тексте безличный предикатив тихо приобретает значение психического состояния подобно предикативам хорошо, плохо, весело, грустно:
Михаил Эпштейн так пишет о беспредложном дательном падеже:
Мы назовем этот падеж, который обозначает всеобщую адресность бытия, глубинным дательным, с тем чтобы отличить его от «нормативного» дательного падежа, который по действующим правилам стандартно управляется только определенными глаголами. «Говорить, возражать, советовать кому» – нормативный дательный; «шуметь, зеленеть, жить, умирать, плакать кому» – глубинный дательный. Он позволяет осознать и вербализовать тот аспект наших действий, который до сих пор не имел регулярного способа выражения в языке <…> Важно понять отличие беспредложной дательной конструкции от родительного падежа с предлогом «для». «Я пишу тебе» – «я пишу для тебя». «Для» – это предлог, указывающий цель действия, то лицо, в пользу которого действие совершается. Дательный падеж не связан с целеполаганием, он указывает не на средство и цель («пишу для тебя»), а на собеседника, адресата, партнера по бытию, того, кому я передаю, вручаю, сообщаю себя («пишу тебе») (Эпштейн 2016: 256–257).
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?