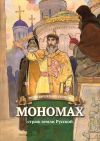Текст книги "Россия. Автобиография"

Автор книги: Марина Федотова
Жанр: История, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 52 (всего у книги 86 страниц) [доступный отрывок для чтения: 24 страниц]
Что же этому причиною? Точка, избранная для лагеря при Тарутине, заслонение Калужской дороги при Малоярославце, отстранение неприятельской армии от края, изобилующего съестными припасами, принуждение его идти по смоленскому разоренному пути, взятие нашей легкою конницею неприятельских обозов с пищею, окружение ею французских колонн от Малоярославца до Немана, не дозволившее ни одному солдату отлучаться от большой дороги для отыскания себе пищи и приюта.
В таком положении Наполеону необходимо было спешить к магазинам своим в Литве; но как спешить с войском, у которого нечем подкрепить себя после каждого перехода и которое, следственно, становится с каждым днем неспособнее к физическим усилиям?
К тому ж и вот где сказывается превосходство флангового марша Кутузова; чем продолжительнее были бы Наполеоновы привалы и стоянки, чем переходы были бы короче, словом, чем медленнее происходило бы движение до Литвы, тем Кутузов, следуя с своею армиею параллельно французской армии по краю изобильному и никем еще неприкосновенному, по которому вначале намеревался следовать Наполеон, более и более опережал бы его, угрожая бы заслонением единственного пути отступления – по Смоленской дороге.
Итак, беспрерывные переходы, которые, по словам иностранных писателей, были не менее голода причиною гибели французов, произошли от той же причины, от которой и голод, с прибавлением к ней еще флангового марша Кутузова, грозившего заслонить им путь отступления. Что касается до кочевий под открытым небом, то и они – следствие общей причины, произведшей и голод, и беспрерывные переходы: путь, по которому, против воли своей, долженствовала следовать французская армия, разоренный отчасти русскими войсками во время нашего отступления летом и окончательно опустошенный неприятелем, нас преследовавшим, не представлял ни избы, ни сарая для приюта; а беспрерывный надзор и наезды легкой конницы нашей и поспешность, необходимая для достижения края, более изобилующего съестными припасами, не позволяли французам ни отделять малые части войск за черту большой дороги для отыскания себе приюта, ни отстранять большой громады войск от прямого пути, чтоб не увеличить окружными путями расстояния, отделяющего армию от избранной ею меты.
Словом, подведя к одному знаменателю все три причины гибели французской армии, мы видим, что гибель произошла, как я выше сказал, из отстранения неприятельских сил Кутузовым от изобильного края, по которому хотели они следовать; от обращения их на путь опустошенный; от успешного действия легкой нашей конницы, отнявшей у ней обозы с пищею и не позволявшей ни одному солдату уклоняться с большой дороги для отыскания пищи и убежища; наконец, от флангового марша нашей армии, который угрожал Наполеону пресечением единственного пути отступления.
Но неужели можно ограничить гибель французской армии этими причинами? Если б было так, то ни одно ружье, ни одна пушка в русской армии не закоптилась бы порохом; ни одна сабля, ни одна пика не облились бы кровью неприятельской, – а мы помним кровопролитные битвы под Тарутиным 6 октября, под Малоярославцем 12 октября и под Красным 5 и 6 ноября; я не говорю уже о каждодневных сшибках неприятеля с отдельными отрядами и даже с корпусами нашими.
Соединив три приведенные причины со всеми этими битвами, мы можем подвести приблизительный итог урону французской армии, согласить наши исчисления с показаниями историков кампаний и насчет количества неприятельских сил, погибших во время отступления от Москвы до Березины, и насчет того числа, которое прибыло к берегам этой реки, и этим заключить рассуждение.
Вальтер Скотт полагает, что урон французской армии в сражениях при Малоярославце и при Вязьме простирался до двадцати пяти тысяч человек: это чрезмерно! Я считаю, что это число тогда только будет верно, когда мы к двум сражениям при Вязьме и Малоярославце присоединим сражение при Тарутине, сшибку Платова при Колоцком монастыре и другие частные битвы, случившиеся до Смоленска.
Потом, по официальным спискам пленных, которые взяты были под Красным, спискам, составленным при отправлении пленных в недра России, – следственно, в верности не подлежавших ни малейшему сомнению, – мы видим, что число их состояло в двадцать одной тысяче ста семидесяти нижних чинах и трехстах офицерах.
Наконец, полагая слишком восемнадцать тысяч человек, что весьма умеренно, взятых и убитых легкою конницею, взятых и убитых крестьянами, замерзших и погибших на полях сражений от Смоленска до Березины, – мы удостоверимся, что французская главная армия действительно подошла к Березине в числе сорока пяти тысяч человек и что из ста десяти тысяч, выступивших из Москвы, пропало шестьдесят пять тысяч человек, – но не от одной стужи, как стараются в том уверить нас неловкие приверженцы Наполеона или вечные хулители славы российского оружия, а посредством, что кажется, я достаточно доказал, глубоких соображений Кутузова, мужества и трудов войск наших и неусыпности и отваги легкой нашей конницы. Вот истинная причина гибели неприятельской армии, не что другое; все прочее есть выдумка, соображенная не без искусства, потому что ее изобретатели знали, что делают, смешивая две эпохи отступления, столь резко различествующие между собою. И подлинно, общее выражение: «армия Наполеоновская погибла от стужи и мороза» – это выражение, сливающее в одно и эпоху ее отступления от Москвы до Березины, и эпоху отступления ее от Березины до Немана, самим смешением двух эпох сокрывает истину, облекая ее неоспоримым фактом: стужею и морозом, в некотором отношении не чуждым истреблению французской армии. Внимание слушателей и читателей, легко привлекаясь к этому факту, ощутительнейшему и, следовательно, более постигаемому, чем факт отвлеченный, состоящий в соображениях и в разборе движений военных, прилепляется к нему всею силою убедительности, не требующей размышления. <...>
Когда подошла вторая эпоха (отступления. – Ред.), то есть когда все эти войска перешли за Березину и настала смертоносная стужа, тогда, как я сказал, армии, в смысле военном, уже не существовало, и ужасное явление природы губило уже не армию, способную маневрировать и сражаться, а одну сволочь, толпы людей, скитавшихся без начальства, без послушания, без устройства, даже без оружия; или губило армию, приведенную в такое положение не стужею и морозами, а причинами, которые здесь представлены.
И на все сказанное мною не опасаюсь возражений, – вызываю их; бросаю перчатку: подымай, кто хочет!
Русские в Париже, 1814 год
Константин Батюшков
Император Александр принял решение продолжить войну с Францией. В начале 1813 года была освобождена Польша, затем взят Берлин, Россия заключила союз против Франции с Англией, Пруссией и Швецией. В октябре того же года в Битве народов под Лейпцигом (князь Кутузов к тому времени скончался, и главнокомандующим русской армией вновь стал Барклай-де-Толли) Наполеон потерпел сокрушительное поражение. В следующем году, 18 марта, войска союзников вступили в Париж.
Поэт К. Н. Батюшков в ходе Французского похода был адъютантом генерала Н. Н. Раевского.
Из письма Н. И. Гнедичу
Juissi-sur-Seine,
в окрестностях Парижа,
27 марта 1814 года
С высоты Монтерля я увидел Париж, покрытый густым туманом, бесконечный ряд зданий, над которыми господствует Notre-Dame с высокими башнями. Признаюсь, сердце затрепетало от радости! Сколько воспоминаний! Здесь ворота Трона, влево Венсен, там высоты Монмартра, куда устремлено движение наших войск. Но ружейная пальба час от часу становилась сильнее и сильнее. Мы подвигались вперед с большим уроном через Баньолет к Бельвилю, предместью Парижа. Все высоты заняты артиллерией – еще минута, и Париж засыпан ядрами! Желать ли сего? Французы выслали офицера с переговорами, и пушки замолчали. Раненые русские офицеры проходили мимо нас и поздравляли с победой. «Слава Богу! Мы увидели Париж с шпагою в руках! Мы отмстили за Москву!» – повторяли солдаты, перевязывая раны свои.
На другой день поутру генерал поехал к государю в Bondy... Переговоры кончились, и государь, король прусский, Шварценберг, Барклай с многочисленною свитою поскакали в Париж. По обеим сторонам дороги стояла гвардия. Ура гремело со всех сторон. Чувство, с которым победители въезжали в Париж, неизъяснимо.
Наконец мы в Париже. Теперь вообрази себе море народа на улицах. Окна, заборы, кровли, деревья бульвара, – все, все покрыто людьми обоих полов. Все машет руками, кивает головой, все в конвульзии, все кричит: «Vive Alexandre, vivent les Russes! Vive Guillaume, vive l’ereur d’Autriche! Vive Louis, vive le roi, vive la paix!» («Да здравствует Александр, да здравствуют русские! Да здравствует [Фридрих] – Вильгельм, да здравствует император Австрии! Да здравствует Людовик, да здравствует король, да здравствует мир!») Кричит, нет, воет, ревет: «Montrez nous le beau, le magnanime Alexandre! Messieurs, le voila en habit vert avec le roi de Prusse. Vous etes bien obligeant, mon officier» («Покажите нам прекрасного, великодушного Александра! Господа, вон он в зеленом мундире рядом с прусским королем. Вы весьма любезны, господин офицер»), и держа меня за стремя, кричит: «Vive Alexandre, a bas le tyran! Ah, qu’ils sont beaux, ces Russes! Mais, monsieur, on vous prendrait pour un Francais» («Да здравствует Александр, долой тирана! Ах, как они красивы, эти русские! Но, сударь, вас можно принять за француза»). – «Много чести, милостивый государь. Я, право, этого не стою!» – «Mais c’est que vous n’avez pas d’accent» – и после того: «Vive Alexandre, vivent les Russes, les heros du Nord!» («Это потому, что вы говорите без акцента. Да здравствует Александр, да здравствуют русские, герои Севера!»)
Государь, среди волн народа, остановился у полей Елисейских. Мимо его прошли войска в совершенном устройстве. Народ был в восхищении, а мой казак, кивая головою, говорил мне: «Ваше благородие, они с ума сошли». – «Давно!» – отвечал я, помирая со смеху.
Но у меня голова закружилась от шуму. Я сошел с лошади, и народ обступил и меня, и лошадь. В числе народа были и порядочные люди, и прекрасные женщины, которые взапуски делали мне странные вопросы: отчего у меня белокурые волосы, отчего они длинны? «В Париже их носят короче. Артист Dulong вас обстрижет по моде». «И так хорошо, – говорили женщины. – Посмотри, у него кольцо на руке. Видно, и в России носят кольца. Мундир очень прост! C’est le bon genre! Какая длинная лошадь! Степная, верно, степная, cheval du desert! Посторонитесь, господа, артиллерия! Какие длинные пушки, длиннее наших. Ah, bon Dieu, quel Calmok!» И после того: «Vive le roi, la paix! Mais avouez, mon officier, que Paris est bien beau?» («Хороший вкус! Лошадь степей! Ах, боже мой, какой калмык! Да здравствует король, мир! Признайтесь, господин офицер, Париж ведь прекрасный город?») «Какие у него белые волосы!» – «От снегу», – сказал старик, пожимая плечами. Не знаю, от тепла или от снегу, подумал я, но вы, друзья мои, давно рассорились с здравым рассудком.
Заметь, что в толпе были лица ужасные, физиономии страшные, которые живо напоминают Маратов и Дантонов, в лохмотьях, в больших колпаках и шляпах, и возле них прекрасные дети, прелестнейшие женщины.
Мы поворотили влево к place Vandome, где толпа час от часу становилась сильнее. На этой площади поставлен монумент большой армии.
Славная Троянская колонна! Я ее увидел в первый раз и в какую минуту! Народ, окружив ее со всех сторон, кричал беспрестанно: «A bas le tyran!» («Долой тирана!») Один смельчак взлез наверх и надел веревку на ноги Наполеона, которого бронзовая статуя венчает столб. «Надень на шею тирану», – кричал народ. «Зачем вы это делаете?» – «Высоко залез!» – отвечали мне. «Хорошо, прекрасно! Теперь тяните вниз; мы его вдребезги разобьем, а барельефы останутся. Мы кровью их купили, кровью гренадер наших. Пусть ими любуются потомки наши!» Но в первый день не могли сломать медного Наполеона: мы поставили часового у колонны. На доске внизу я прочитал: «Napolio, Imp. Aug. monumentum» и проч. Суета сует! Суета, мой друг! Из рук его выпали и меч, и победа! И та самая чернь, и ветреная и неблагодарная, часто неблагодарная, накинула веревку на голову Napolio, Imp. Aug., и тот самый неистовый, который кричал несколько лет тому назад: «Задавите короля кишками попов», тот, самый неистовый, кричит теперь: «Русские, спасители наши, дайте нам Бурбонов! Низложите тирана! Что нам в победах? Торговлю, торговлю!»
О, чудесный народ парижский, народ, достойный сожаления и смеха! От шума у меня голова кружилась беспрестанно; что же будет в Пале-Рояль, где ожидает меня обед и товарищи? Мимо французского театра пробрался я к Пале-Рояль в средоточие шума, бегания, девок, новостей, роскоши, нищеты, разврата. Кто не видел Пале-Рояль, тот не может иметь о нем понятия. В лучшем кофейном доме или, вернее, ресторации, у славного Very мы ели устрицы и запивали их шампанским за здравие нашего государя, доброго царя нашего. Отдохнув немного, мы обошли лавки и кофейные дома, подземелья, шинки, жаровни каштанов и проч. Ночь меня застала посреди Пале-Рояль. Теперь новые явления: нимфы радости, которых бесстыдство превышает все. Не офицеры за ними бегали, а они за офицерами. Это продолжалось до полуночи при шуме народной толпы, при звуке рюмок в ближних кофейных домах и при звуке арф и скрыпок... Все кружилось, пока
«Свет в черепке погас, и близок стал сундук».
О, Пушкин, Пушкин![1]1
Имеется в виду В. Л. Пушкин, дядя А. С. Пушкина, цитируется поэма которого «Опасный сосед». – Примеч. ред.
[Закрыть] <...>На другой день поутру увидел снова Париж или ряды улиц, покрытых бесчисленным народом, но отчета себе ни в чем отдать не могу. Необыкновенная усталость после трудов военных, о которых вы, сидни, и понятия не имеете, тому причиною. Скажу тебе, что я видел Сену с ее широкими и по большей части безобразными мостами, видел Тюильри, Триумфальные врата, Лувр, Notre-Dame и множество улиц, и только, ибо всего-навсего я пробыл в Париже только 20 часов, из которых надобно вычесть ночь. Я видел Париж сквозь сон или во сне. Ибо не сон ли мы видели по совести? Не во сне ли и теперь слышим, что Наполеон отказался от короны, что он бежит, и пр. и пр. и пр.? Мудрено, мудрено жить на свете, милый друг! <...>
Я часто, как Фома неверный, щупаю голову и спрашиваю: боже мой, я ли это? Удивляюсь часто безделке и вскоре не удивлюсь важнейшему происшествию. Еще вчера мы встретили и проводили в Париж корпус Мармона и с артиллерией, и с кавалерией, и с орлами! Все ожидают мира. Дай бог! Мы все желаем того. Выстрелы надоели, а более всего плач и жалобы несчастных жителей, которые вовсе разорены по большим дорогам.
Завтра я отправляюсь в Париж, если получу деньги, и прибавлю несколько строк к письму. Всего более желаю увидеть театр и славного Тальма, который, как говорит Шатобриан, учил Наполеона, как сидеть на троне с приличною важностию императору великого народа. La grand nation! Le grand homme! Le grand siecle! (Великая нация! Великий человек! Великий век!) Все пустые слова, мой друг, которыми пугали нас наши гувернеры.
31 марта 1814 года Наполеон отрекся от престола и был сослан на остров Эльбу, а в мае того же года в Вене собрался конгресс победителей, призванный решать судьбы послевоенной Европы.
Портрет Александра I
Клемент фон Меттерних
Венский конгресс восстановил свергнутые Наполеоном династии. Россия присоединила к себе Польшу в статусе автономии, с конституцией и собственным парламентом (сеймом). Кроме того, был заключен Священный союз России, Австрии и Пруссии, гарантировавший Европе мир и незыблемость порядков.
Одним из инициаторов конгресса и самым ярым поборником восстановления прежних порядков был австрийский канцлер К. фон Меттерних, которого называли «творцом европейского застоя». Он оставил воспоминания об императоре Александре Павловиче.
Нарисовать образ императора Александра – задача трудная. Самое меткое мнение об этом государе принадлежит Наполеону. В одном из наших разговоров, бывших в 1810 году, он спросил меня, узнал ли я ближе императора. Я отвечал, что не имел никаких личных отношений к нему, исключая времени пребывания его в Берлине в 1805 году.
«Прекрасно, – продолжал Наполеон, – но ход событий может еще раз сблизить вас с этим государем; император Александр привлекательная личность, обладающая особенным даром очаровывать людей, приходящих в соприкосновение с ним. Будь я человеком, способным подчиняться непосредственным впечатлениям, я мог бы предаться ему всей душой. Рядом со столькими умственными дарованиями и с необыкновенной обворожительностью обращения, во всем его существе есть, однако, что-то неуловимое, чего даже я определить не сумею иначе, как сказав, что у него во всех отношениях чувствуется недостаток “чего-то”. И самое странное при этом то обстоятельство, что никогда нельзя заранее предвидеть, чего именно в данном случае и в данных условиях не хватит, а равно и то, что недохватывающий кусочек видоизменчив до бесконечности».
Предвидение, что ход событий приведет меня к непосредственным отношениям с императором Александром, оказалось настоящим пророчеством в устах Наполеона, хотя, конечно, он произнес его, не сознавая, что ему суждено такое скорое осуществление, как это случилось на самом деле. Три года спустя я вступил в непосредственные отношения к русскому императору. Эти отношения продолжались тридцать лет без перерыва, но при постоянном колебании расположения, начиная от полного доверия до более или менее явной холодности и даже до личных и открытых нападок. Все эти фазисы доставляли мне случай оценить справедливость мнения Наполеона об императоре Александре.
Но эти продолжительные и изменчивые отношения дали мне одинаково полную возможность отдать себе точный отчет в личности этого монарха.
В свою очередь я не сумею выразить лучше мое личное впечатление, как сказав, что характер Александра I представлял странную смесь мужественных качеств с женскими слабостями. Император Александр был несомненно умен, но ум его, тонкий и проницательный, был лишен глубины. Он также легко заблуждался вследствие решительной склонности к ложным теориям. Излюбленные идеи всегда одерживали верх в его мнении; он усвоивал их по внезапному вдохновению и отдавался им крайне горячо; вскоре они овладевали им на столько, что подчиняли его волю внушителям этих идей. Подобные идеи приобретали быстро в его глазах значение системы; при его впечатлительности и необычайной подвижности мысли, системы, которые он схватывал, не сплочивались между собою, а вытесняли одна другую. Увлекаясь новой, только что усвоенной системой, ему бессознательно удавалось переходить через постепенные промежуточные ступени к убеждениям диаметрально противоположным тому, чего он держался непосредственно перед тем, не сохраняя о них другого воспоминания, кроме обязательств, связывавших его с различными представителями прежних воззрений. Отсюда возникала тяжелая как для сердца, так и для ума государя сеть более или менее неразрешимых затруднений, опутывавших его; отсюда частое пристрастие к людям и предметам самого противоположного характера; отсюда же трудность понять его образ действия для каждого наблюдателя, не имевшаго случая открыть настоящих причин таких удивительных явлений.
Жизнь императора Александра прошла в увлечениях и разочарованиях; пристрастия его были быстры и горячи и – как ни странно это звучит – подлежали известного рода периодичности. Он был человеком своего слова, легко принимал на себя все обязательства, вытекающие из данного направления его мысли. Проницательно умел он избегать тех, кто мог вовлечь его в противоположное направление. Но так как его идеи, легко превращавшиеся в системы, постоянно подвергались изменению, то верность данному слову создавала для него затруднительные положения, одинаково тяжело ложившиеся на его совесть, как и вредно отзывавшиеся на государственных делах.
Весьма ошибочно многие из современников Александра видели в нем страшного честолюбца. В его характере не было достаточной силы для настоящего честолюбия и было довольно слабости, чтобы допустить тщеславие. Он обыкновенно действовал на основании убеждений, а если иногда и выказывал притязательность, то по большей части это касалось скорее мелких побед светского человека, чем серьезных целей владыки громадной империи...
С простыми вкусами, целомудренный по темпераменту и с наклонностями, которые я позволил бы себе назвать буржуазными, Александр был слишком доступен всяким коноводам для того, чтобы они не воспользовались им для своих целей.
Долголетнее изучение нравственных свойств этого монарха и его политической деятельности привели меня к открытию того, что я назвал уже выше периодичностью его воззрений. Периодичность эта приблизительно имела пятилетнее течение. Я не могу точнее передать результата моих наблюдений.
Император усвоивал себе какую-нибудь идею и немедленно следовал ее направлению. В продолжение двухлетнего срока идея эта находилась в состоянии роста и приобретала в его глазах значение системы. В течение третьего года он оставался верен избранной системе, привязывался к ней, слушал с истинным наслаждением сторонников ее и был недоступен какому бы то ни было соображению относительпо достоинства этого воззрения или опасных его последствий. На четвертый год начинала тревожить его уже оценка последствий. В пятый год наступала неопределенная смесь системы, близившейся к угасанию, с новой идеей, зарождавшейся в нем. Последняя идея нередко составляла диаметральную противоположность покидаемому воззрению. <...>
Во всем, что касалось частной жизни, Александр руководствовался чистыми и простыми чувствами, носившими печать изящного благородства. Науками он мало занимался, и я никогда не замечал в нем выдающейся склонности к какой-нибудь из отраслей знания. Из изящных искусств он любил только архитектуру. Его близорукость и значительная глухота мешали ему находить наслаждение в остальных изящных искусствах, пользоваться которыми позволяет человеку совершенное развитие двух чувств, в чем ему было отказано природой. Он любил кабинетную работу, когда она не выходила из пределов чисто политической сферы и деталей военного дела. У него было решительное отвращение к чисто административным вопросам и когда он занимался ими, то – впрочем, и не могло быть иначе – всегда делал это под влиянием политических теорий, влечение к которым было свойственно его уму. <...>
Во время нашего пребывания в Париже в 1814 году я имел с Александром частые споры о принципах, каких следует держаться Людовику XVIII. В то же время Александр крайне увлекался либеральными идеями, вследствие чего мы естественно должны были расходиться в воззрениях наших относительно того, какой образ действия наиболее способен упрочить внутренний мир во Франции под господством Бурбонов... <...>
Александр, усердно посещавший свет, особенно любил известные более интимные кружки, где я также часто бывал. Редко проходил день, чтобы мы не встретились с ним где-нибудь. Мы старались притвориться, будто не замечаем друг друга. Странность подобных отношений в глазах обычных посетителей венских салонов постепенно сгладилась привычкой. Члены русской императорской фамилии по-прежнему посещали праздники и собрания, происходившие в моем отеле. Только император на них больше не появлялся. Публика привыкла к мысли, что его императорское величество на меня гневается; но так как дела от этого не страдали, то даже беспокойное любопытство дипломатов не имело больше никакой пищи в этом столь странном положении. Очень часто мне намекали косвенным путем сделать шаг к сближению с его величеством. Но я считал лучшим предоставить времени восстановить естественный порядок вещей. <...>
Мне остается только упомянуть об одном обстоятельстве, случившемся в 1822 году, – обстоятельстве, которое более чем что-либо другое бросает свет на характер императора Александра.
Около шести недель после съезда в Вероне я отправился вечером к императору поговорить с ним о делах того дня. Я застал его в сильном возбуждении и не преминул спросить о причине. «Я нахожусь в странном положении, – сказал император, – я чувствую потребность объясниться с вами об одном обстоятельстве, которое считаю очень важным, и затрудняюсь, как это сделать». Я отвечал, что прекрасно понимаю, что какой-либо важный вопрос занимает его мысли, но я не вижу, каким образом, чувствуя потребность поговорить со мной об этом деле, может встретиться что-либо похожее на затруднение.
В том-то и дело, возразил император, что этот предмет не относится к области обыкновенной политики, он касается нас лично, и я питаю опасение, что вы не совсем понимаете мои мысли в этом отношении. После больших усилий император наконец обратился ко мне с следующими достопамятными словами: «Нас хотят разлучить и порвать узы, связывающие нас; я считаю эти узы священными, ибо они соединяют нас в общих интересах. Вы хотите мира вселенной, и я также не знаю иного честолюбия, как сохранить мир; враги европейского мира не заблуждаются на этот счет, они не заблуждаются также на счет силы сопротивления, которую их козни встречают в нашем единодушии: им хотелось бы во что бы то ни стало устранить это препятствие, и в убеждении, что открытым путем это им не удастся, они бросаются в окольные лазейки: меня осыпают упреками, зачем я отказался от своей независимости и позволяю вам руководить собою».
Я с горячностью отвечал императору, что все то, что он удостоил меня сообщить, – для меня не новость и что я не колеблюсь отвечать на его доверие признанием, которое только подкрепит справедливость сообщенного им факта. «Вас упрекают, ваше величество, в том, что вы вполне подчиняетесь моим советам; с другой стороны, меня также обвиняют в том, что я жертвую интересами своей страны моим отношениям к вашему величеству. Одно обвинение стоит другого. Совесть вашего величества так же чиста, как и моя. Мы служим одному и тому же делу, а это дело в одинаковой степени составляет достояние и России, и Австрии, и всего общества. Давно уже я сделался мишенью неблагонамеренных кружков и в искренном согласии между нашими дворами вижу единственный оплот, который можно еще противопоставить вторжению общаго беспорядка. С другой стороны, из крайней сдержанности моего личного поведения вы можете составить понятие о важности, которую я придаю сохранению этого интимного соглашения. Не желает ли ваше величество видеть какую-либо перемену в этом поведении?»
Этого я ожидал от вас, прервал меня император; если я чувствовал некоторое стеснение признаться вам в известных затруднениях моего положения, то это происходит не от того, чтобы я не был твердо намерен устоять против них; но я боялся, что вы начнете колебаться.
Затем мы перешли к подробностям о происках одного кружка, который имел в самой России и даже среди приближенных императора много сторонников.
В заключение нашего длинного разговора он взял с меня формальное обещание «не поддаваться никаким уговариваниям и оставаться верным искреннему союзу» с ним, и просил меня принять и с его стороны такое же формальное обещание в неизменности доверия. <...>
Беспристрастному историку нелегко будет составить правильное суждение о характере этого государя. Его взоры слишком часто будут наталкиваться на самые резкие противоречия, а его уму трудно будет остановиться на постоянной точке зрения, столь необходимой для того, кто чувствует призвание к благородной задаче писать историю.
Ум и сердце этого монарха отличались такими противоположными нравственными качествами, что известная сила характера, которою он обладал, была отнюдь не достаточна, чтобы держать в равновесии все его наклонности.
Каждый период его жизни обозначался промахами и заблуждениями настолько тяжкими, что они обращались для него самого и для общественного дела в источники слабости. Всегда поддаваясь увлечениям, всегда непостоянный в направлении своего ума, Александр не пользовался ни одной минутой действительного покоя. У него были неоценимые качества, его образ мыслей был благороден, его слово свято, – но наравне с этими качествами были большие недостатки. Если бы он родился в среде общества, его качества не выдвигались бы, но на престоле должно было случиться иначе. Если б он был властелином иной империи, а не России, то его ошибки, конечно, выступали бы не так ярко, но зато и его преимущества были бы менее замечены. Александр существенно нуждался в опоре, его ум и сердце требовали совета и направления. Всякому государю стоит немалого труда найти искренних, бескорыстных слуг, достаточно независимых и по характеру, и по положению, чтобы возвыситься до роли друга, а Александру это было труднее, чем кому-нибудь другому.
Царствование Александра – не надо этого забывать – совпало с эпохой, переполненной бесчисленными затруднениями для всех государей, и если этой участи подвергались все современники, то тем более подвергался им и Александр.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?