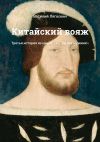Текст книги "Кровавый приговор"

Автор книги: Маурицио де Джованни
Жанр: Зарубежные детективы, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
18
Майоне быстро шагал за комиссаром по улице, которая вела из чрева квартала Санита к полицейскому управлению, и рассеянно поглядывал по сторонам. Он хорошо знал, на какую злобу способны симпатичные люди, населяющие центр города, и как быстро их доброта и сочувствие, широкие улыбки, поклоны превращаются в насилие, и руки начинают украдкой поднимать с мостовой камни, готовясь бросить их в ненавистных полицейских.
Защищая Ричарди, бригадир шел на расстоянии метра сзади него – достаточно далеко, чтобы не нарушать уединение, но достаточно близко, чтобы вовремя прикрыть его своим крепким телом.
Обычно во время пути Майоне смотрел на затылок комиссара и растрепанные пряди его волос и думал о том, какая нелепость эта привычка Ричарди ходить с непокрытой головой. Это значит пренебрегать чужим уважением и проявлять безразличие к ближним. В городе «людьми без шляпы» называли бедняков без имени и семьи, которые проводили ночи под крышами портиков, а днем очищали чужие кошельки.
Но, к своему удивлению, он не мог не заметить, что никто из смотревших на Ричарди, даже те, кто не знал комиссара, не глядел на молодого сыщика с насмешкой или состраданием, скорее – с испугом. В направленных на него взглядах было чувство, которое бригадир не смог бы точно определить – что-то среднее между отвращением и страхом. Майоне был простым человеком, он не умел распознавать оттенки чувств и лишь смутно догадывался, что это такое. Он любил комиссара и хотел бы, чтобы у Ричарди было спокойнее на душе, но был не в состоянии представить его себе счастливым.
Пока они все дальше уходили от очередного трупа и дышали свежим воздухом, которым веяло от леса Каподимонте, бригадиру Рафаэле Майоне никак не удавалось избавиться от мыслей о Филомене Руссо, женщине, у которой с сегодняшнего дня будут два разных профиля.
Он думал о приоткрытой двери, о странном молчании на маленькой пощади в Инжирном переулке, о безжалостных взглядах людей, собравшихся перед квартирой в нижнем этаже, об оскорблении, которое кто-то выплюнул в спину этой бедняжке. Он снова видел каплю крови, которая падает на пол, половину следа, отпечатавшуюся кровью на полу, женщину, которая, прислонившись к нему, шла с ним до больницы и держалась с достоинством и без страха.
Он думал об ужасном разрезе, который рассек ее лицо, – глубоком и ровном. Тот, кто нанес эту рану, не чувствовал ни волнения, ни стыда, ни угрызений совести. И вспоминал о слабом запахе жасмина, который остался на его форменной куртке вместе с пятном крови.
Этот запах был похож на тот аромат, который начинал пропитывать воздух. Скоро он вырвется на улицы и завершит победу весны над зимой.
Но главное – бригадир Рафаэле Майоне никак не мог избавиться от мыслей о совершенной красоте уцелевшего профиля, который мелькнул перед ним в темноте комнаты, и о спокойном взгляде, устремленном в пустоту.
В полицейском управлении, в кабинете Ричарди, тени начали удлиняться: была уже вторая половина дня. Майоне повернул выключатель свисавшей с потолка электрической лампочки и сел на место. На лампочке не было абажура: он разбился год назад, а новый так и не поставили.
– Я уже сто раз говорил вам, комиссар: велите надеть на нее абажур. Им там по хрену, что его нет, вот в чем дело. Ей-богу, спущусь вниз и возьму их за грудки.
– Тихо, тихо, успокойся. Он мне не очень нужен: я работаю при настольной лампе. Продолжим работу, нельзя терять время.
Между комиссаром и бригадиром стояла металлическая коробка, найденная под диваном. Она была открыта. На письменном столе были в беспорядке разбросаны долговые расписки, векселя, письма с обещаниями заплатить. При обнаружении эти документы были уложены по порядку согласно датам платежа и стянуты лентами, которые были завязаны изящными бантами. К каждому документу был прикреплен листок бумаги с цифрами – первоначальная ссуда и, если она была продлена, новый срок.
Майоне, высунув от напряжения кончик языка и наморщив лоб, усердно писал на листке столбцы чисел и выполнял арифметические действия.
– Вы поняли, какая она святая, а, комиссар? Такая, которая помогает ближним деньгами за три процента в месяц. Действительно святая. Точней, мученица.
– Не вижу причины для шуток. Раз у нее было столько… клиентов, ее мог убить кто угодно. Посмотри, их тут человек тридцать. Но я хочу понять другое: как получилось, что никто не взял деньги?
Оба полицейских повернулись к трем пачкам банкнотов, которые лежали на столе, одна поверх другой. Сумма была немалая, такую никто не рассчитывает обнаружить в бедном квартале, в лачуге, у старой невежественной женщины. И главное – они не ожидали, что обнаружат столько денег на месте такого жестокого преступления, что убийца оставит их там лежать. Майоне пожал плечами:
– Могло случиться, что он их не заметил – не увидел коробку: он же был в страхе и смятении, да еще и в ярости. Убил Кализе и убежал.
– Нет. Он ее видел: векселя и деньги испачканы кровью. Он что-то искал в коробке грязными руками. А потом забросил ее под диван. Что он искал? Нашел или нет? И если он забрал с собой то, что искал, как нам выйти на него? У меня ощущение, что никто из клиентов, которые записаны здесь, – он указал своей изящной рукой на кучу документов, – не был нашим «футболистом». Но для очистки совести продолжим разрабатывать их. Закончим перепись почитателей этой святой.
Математика потребовала от них такого долгого напряжения сил, что перед самым наступлением вечера Ричарди пожалел бригадира, у которого от отчетов заболела голова, и отпустил его. Он в одиночку закончил составлять список тех, кто был подавлен и потрясен незаслуженным ударом судьбы и мог безвременно оборвать жизнь их защитницы.
Оказавшись на улице, бригадир сделал глубокий вдох. Теперь воздух уже точно стал другим. Майоне почувствовал сосущую боль в желудке и вспомнил, что не обедал сегодня. Но он подумал также о Филомене Руссо и о ее ране.
Ужин может подождать еще немного, решил он и направился к больнице Пеллегрини.
Ричарди вышел из управления на два часа позже. С большой улицы, по которой он должен были идти, чтобы вернуться домой, уже исчезли дневные обитатели, и теперь ее населяли ночные люди. Его голова была опущена, руки в карманах. На запястьях было несколько чернильных пятен – следы долгих отчетов, которые приходится составлять в случае убийства.
Идя по улице под взглядами, которые следили за ним из темных подъездов или из проулков, он не обращал внимания на мелкую торговлю, которая на мгновение прерывалась, когда он проходил мимо своей легкой походкой. И на женщин с открытой грудью, которые при его появлении отступали в темноту поперечных переулков, чтобы потом предложить себя мужчинам, которые чувствовали биение весны в крови или просто тоску одиночества.
Он шел, нагнув голову и неся в уме новую загадку – страдание и боль, которые просили успокоения. Шагая в колеблющемся свете фонарей, висевших над центром улицы, он снова видел перед собой след крови на ковре, несчастную, завернутую в лохмотья, сломанную шею. И фигуру воскового цвета, которая уцелевшей половиной расколотой головы продолжала повторять старую поговорку.
Но он мог представить себе и то отчаяние, которое тайные темные дела жертвы преступления, должно быть, принесли десяткам семей. Ростовщичество – подлое занятие, думал Ричарди. И одно из самых печальных преступлений, потому что ростовщик берет доверие и обращает его против давшего. Оно высасывает труд, надежды, ожидания – высасывает будущее.
Он улыбнулся булыжникам мостовой. Какая ирония, что старуха сочетала эти два занятия: одной рукой она давала надежды, другой их отнимала. Одно занятие обеспечивало ей жизнь, другое принесло смерть. Кармела Кализе была такой же, как те загадочные грязные люди, которые сейчас окружали его в темных закоулках улицы Толедо. Она тоже скроила себе жизнь из чужого доверия.
Впрочем, две ее профессии не так уж сильно отличались одна от другой. Гадание на картах и ростовщичество высасывали доверие и надежды, высушивали душу. Но вопрос был тот же, что всегда: имела она право жить или нет? Ричарди знал ответ. И не сомневался.
Майоне вошел в женскую палату больницы. Он так спешил, поднимаясь по лестнице, что немного запыхался. Как всегда, палата, большая комната с очень высоким потолком, была полна людей даже в этот поздний час. Плакали дети; семьи в полном составе собрались вокруг постелей и причитали, не думая о больном, которому нужен покой. Ни врачей, ни медсестер нигде не было видно.
Сдвинув фуражку назад и вытирая лоб, бригадир огляделся, стараясь отыскать Филомену Руссо. Он нашел ее почти сразу, потому что она была одна, держалась скромно, но с достоинством и была одета в тот же черный наряд, что утром. Майоне вспомнил, что эта простая одежда была пропитана кровью, когда он увидел Филомену в первый раз, и мысленно услышал звук падающей в темноте капли.
Он пошел к ней по узкому проходу между двумя рядами кроватей, хорошо зная, что при его появлении рядом разговоры будут прекращаться и взгляды становиться враждебными.
– Добрый вечер, синьора. Как вы себя чувствуете?
Филомена повернулась очень медленно – на звук голоса, а не к человеку. На правой стороне лица у нее была повязка, в центре которой из-под бинтов проступала линия цвета крови – шрам.
Черные волосы слиплись от засохшей крови и пота, платье было грязным, лицо выражало усталость и боль. Но даже в этом состоянии она была гораздо красивее всех других женщин, которых Майоне видел за свою жизнь.
– Бригадир! Я должна вас поблагодарить. От всего сердца.
Этот голос! Майоне вспомнил, что доктор Модо восхищался тоном голоса Филомены. Сам Майоне думал, что такими должны быть голоса ангелов. Это был низкий нежный звук, дрожавший в воздухе. Он был похож на отголосок, который остается после колокольного звона. За одну минуту полицейский несколько раз мысленно перенесся из больницы на берег моря и обратно.
Когда эта долгая минута закончилась, он очнулся. И сказал лишь для того, чтобы не отвечать взглядом на взгляд единственного открытого глаза, черного как ночь:
– Идемте, синьора. Идите со мной, я отведу вас домой.
19
Поднимаясь по лестнице, Ричарди слышал, как орало радио у него дома. Звучала какая-то танцевальная музыка. «Няня, у тебя слабеет слух, – с нежностью подумал он. – Занудная и несдержанная, характер скверный, готовит отвратительно, но она – моя семья».
Ричарди открыл дверь ключом: он прекрасно понимал, что мог бы выбить ее головой, а Роза ничего бы не услышала. Потом прошел прямо в маленькую гостиную и резко повернул ручку большого радиоприемника с корпусом из светлого дерева. Сосчитал до трех и повернулся лицом к двери точно в тот момент, когда разгневанная няня появилась на пороге.
– Да что это такое? Скоро уже и радио нельзя будет слушать?
– Тебе нельзя. У нас тут такое случилось! В Национальном музее, а до него отсюда два километра, четыре мумии ожили и стали танцевать под музыку Чинико Анджелини. Директор музея пришел жаловаться к нам в управление.
– Отлично сказано! Какой вы стали умный! Это значит, что день был легкий, да? Вы там сидели и спокойненько читали бумаги. А я, несчастная старуха, при всех моих болячках должна бегать туда-сюда, чтобы вести хозяйство в этом доме.
– Отлично сказано! Вот и продолжай вести его, пока я пойду умоюсь.
– Только умывайтесь быстрей: я через десять минут накрою на стол. Время позднее, а вы еще не ели.
«Угроза и приговор, – подумал Ричарди. – Я уже знаю, что она мне навяжет сегодня. Вонь ее цветной капусты долетает до самой площади Данте».
Он прошел в свою комнату, снял пальто и пиджак, а потом не смог устоять перед искушением и подошел к окну. В нескольких метрах от него, на втором этаже, семья заканчивала ужин. Со своего места он видел лишь половину просторной кухни и только часть стола, за которым ели соседи напротив.
Но ему хватило бы и меньшего. Точно на линии его взгляда сидела за столом и ела Энрика. Она, как обычно, заняла такое место, где ее левая рука не мешала бы соседу. Вокруг нее сидели ее братья, родители и мужчина, который, как предположил Ричарди, был мужем ее сестры: комиссар видел, как тот держал сестру за руку.
Ричарди было знакомо все: посуда, стаканы, скатерть и салфетки, стулья – помогли год безмолвной верной любви и профессиональная привычка запоминать каждую подробность. И не важно было, что он не знает фамилию Энрики. Он удерживал себя даже от попыток ее узнать: в этот раз он не хотел ничего расследовать.
Ему нравилось быть таким, как сейчас, – нормальным человеком вне времени и пространства, нежным, сильным и спокойным. Это был единственный маяк в тумане его боли и маленький тихий порт, куда он возвращался каждый вечер. Когда работа задерживала его далеко от дома: расследование шло слишком долго или надо было закончить отчет, и он терял эти волшебные минуты, то начинал немного нервничать. И не мог успокоиться, пока не появлялась возможность снова подойти к окну.
Роза громко позвала его из кухни. Анджелини со своим оркестром прочертил в воздухе последний музыкальный завиток.
«До скорой встречи, моя деликатная любимая».
Майоне молчал. Сто скопившихся в душе вопросов давили ему грудь, но он не произнес ни слова.
Филомена шла сзади него, на расстоянии чуть меньше метра. Как бригадир ни старался, ему не удалось уговорить ее идти бок о бок. Она держалась сзади – отчасти потому, что не успевала за ним, отчасти потому, что ей было стыдно идти рядом с мужчиной в полицейской форме.
– Вам, наверное, было очень больно.
– Нет, не очень. Доктор все делал очень бережно и так медленно.
Они прошли еще немного. Оба молчали. Майоне смотрел себе под ноги. Филомена глядела немигающим взглядом прямо перед собой. Ни страха, ни высокомерия. Повязку она придерживала рукой.
– Вы понимаете, синьора, что я должен задать вам несколько вопросов?
– А зачем, бригадир? Я не подавала заявления и не хочу этого делать.
– Но… синьора, то, что с вами сделали, – преступление, а я полицейский. Я не могу делать вид, будто я этого не видел.
Филомена замедлила шаг, словно обдумывая слова Майоне:
– Вы проходили мимо случайно. Я вас не звала. Не думайте, что я вам не благодарна. Вы сделали для меня столько, сколько не сделал бы даже брат. Люди в нашем квартале… у меня мало друзей, как вы уже поняли. Я могла бы оставаться там и истекать кровью весь день.
– Да. Нет. Я ничего такого не сделал. Просто отвел вас в больницу, а теперь помогаю дойти до дома. И все же я хочу знать, что случилось.
Майоне остановился. Они были на углу площади Карита, в конусе слабого света уличного фонаря. Где-то лаяла собака.
– Может быть, сейчас вы этого не понимаете, но завтра сможете осознать. Рана, которую вам нанесли… Вы больше никогда не будете такой, как раньше. Вы это знаете? Что случилось? Кто это сделал?
Свет фонаря падал на раненую половину лица и красную от крови повязку. Другая половина лица была в тени, и бригадир не мог увидеть, что оно выражало. Но если бы это не было нелепо, он на мгновение был готов подумать, что Филомена улыбается.
Готово, подумал Тонино Иодиче, хозяин пиццерии. Он закончил подметать; на полу теперь не было ни крошки. Как будто никто здесь не ел, все как раньше. Они ушли к себе домой, к женам, к матерям. Они смеялись, пели, пили и пьянели от выпитого. И они платили справедливую цену. Кто-нибудь вернется. Кто знает, когда это случится и приведет ли он с собой еще кого-нибудь.
Если клиенты хорошо поели, они вернутся. А потом придут еще и еще.
«Тогда нам начнет немного везти, моя жена будет смотреть на меня с любовью, а мои дети с уважением, – думал Тонино. – Бог дал мне время. Если бы старуха осталась жива, у меня бы не было времени. Я должен был бы закрыть заведение, и тогда – ни свободы, ни детей, ни жены. Но она мертва. Сколько крови, Пресвятая Дева! Сколько крови!
Я не помню лестницу, не помню улицу. Бог не захотел, чтобы меня кто-то увидел. Мне жаль, очень жаль, что она умерла. Но теперь у меня есть время. Она умерла в крови, и у меня есть время. Я живу дальше и жду.
Жду, когда они придут меня забрать».
Ричарди вернулся на прежнее место и смотрел в окно. Энрика уже вымела все крошки до последней. Теперь кухня была такой же, как раньше, как будто никто там не ел.
Он смотрел на Энрику, пока она поворачивала голову, склоняла ее набок и вытирала ладони о свой фартук.
Вот оно: Энрика одобрительно кивает, вздыхает и берет пяльцы. Зажигает лампу рядом с креслом; от нее до окна всего один шаг. Начинает вышивать.
Ричарди задерживает дыхание. Медленно закрывает и снова открывает глаза. Его руки сложены, он дышит медленно. Энрика вонзает иглу в ткань.
«Никто в мире не будет любить тебя так, как люблю я. Я, который не говорит с тобой. Ты меня не видишь, но я охраняю тебя. Так делает мужчина, который любит молча, как я».
На лестнице управления призрак убитого полицейского зовет жену и говорит «как больно». В темной квартире на третьем этаже, в квартале Санита, фигура убитой старухи повторяет свою поговорку.
Ричарди смотрит на Энрику, которая вышивает.
Мертвые кажутся живыми, а живые мертвыми.
20
Лючия Майоне любила спать с открытыми ставнями и задернутыми занавесками. Это была одна из тех привычек, которые она мысленно называла «появившимися после»: Лючия хотела каждую секунду видеть небо.
«После» пропали ее улыбка, желание смеяться и любовь к морю. Она делила свою жизнь на «до» и «после» смерти сына.
Она и теперь слышала голос Луки, звучавший на лестнице, когда он поднимался домой, и видела Луку в лицах других детей. Умерший сын молча входил в ее мысли, начинал смеяться и переставал, лишь когда она больше не могла этого вынести. Она дала свет ему, а он погасил ее свет.
Анджело Гарцо, заместитель начальника управления, уже снял пальто с вешалки, когда в двери появился курьер Понте. Увидев, что начальник торопится уйти, курьер тут же нерешительно остановился на пороге: возвращаться обратно было поздно, но Понте знал, как легко может разгневаться заместитель, если кто-то задерживает его служебными вопросами, когда он собирается уходить.
Так они стояли и смотрели друг на друга – Гарцо с перекинутым через руку пальто и Понте, застывший в полупоклоне. Первым очнулся от оцепенения заместитель.
– Говори, черт тебя возьми! Чего ты хочешь? Не видишь, что я ухожу?
Понте покраснел, закончил поклон и ответил:
– Нет, доктор. Извините меня, но убита женщина в квартале Санита. Вот отчет об этом деле; мне его оставил комиссар Ричарди, который начал расследование. Вы, разумеется, можете посмотреть его завтра, доктор.
Гарцо сердито фыркнул и вырвал из рук курьера папку, которую тот принес.
– Представь себе: опять Ричарди! Если происходит какая-то пакость, в этом обязательно замешан Ричарди. Ладно, посмотрим: может быть, к убийству имеет отношение какая-то важная особа; тогда вечером в театре я буду выглядеть полным идиотом, если ничего не буду знать.
Он быстро пробежал взглядом по строкам и с явным облегчением пожал плечами.
– Ничего серьезного. Какую-то нищенку забили насмерть ногами. Ты прав, Понте: ничего такого, что не могло бы подождать до завтра. Если что-нибудь произойдет, я в театре. Спокойной ночи.
В партере было не так уж много зрителей: давали комедию, которая шла на сцене уже давно, а в городе были и другие развлечения. Мариза Каччотоли ди Роккамонфина вздохнула: она предпочла бы посмотреть что-нибудь другое. Она взглянула на подругу, сидевшую в ложе рядом с ней, и спросила:
– Сколько же раз ты еще будешь смотреть этот спектакль? Мы уже могли бы заменить суфлера: обе знаем наизусть все реплики. О нас уже все говорят. Вчера в «Гамбринусе» Алессандра ди Бартоло сказала мне: «Ты интересуешься театром, можешь посоветовать мне что-нибудь интересное? Мне сказали, что ты и Эмма ничего не упускаете». Подумай: ничего не упускаете! Что она имела в виду?
Женщина, к которой она обращалась, была молода и изящна. Черные волосы, коротко остриженные по последней моде, белоснежная кожа и чуть выступающий подбородок – признак решительности и сильной воли.
Она повернулась к Маризе и несколько мгновений смотрела на нее, но при этом продолжала следить за происходившим на сцене.
– Послушай меня. Если ты больше не хочешь ходить со мной, скажи об этом открыто. Я найду кого-нибудь другого. Знаешь, не все рады видеть тебя в свете вместе со мной. И скажи кое-что этой скучной дуре Алессандре и женщинам, которые собираются у нее якобы играть в канасту[4]4
Канаста – карточная игра.
[Закрыть], а на самом деле – поливать людей грязью. Скажи им: если хотят что-то узнать обо мне, пусть скажут прямо в лицо.
Эта яростная атака заставила Маризу отступить.
– Эмма, мы подруги и всегда были подругами. До нас подругами были наши бедные матери, а если бы у нас были дети, они бы тоже дружили. Но именно потому я должна тебе сказать: ты становишься смешной. Пойми, я не говорю тебе «не развлекайся»: хороша бы я была – ты ведь знаешь, на что способна я сама. Но тебе было бы полезно вести себя немного сдержанней.
– Сдержанней? Извини, а почему? Что плохого я делаю? Смотрю комедию, которую уже видела, – ну и что? Где тут причина, чтобы эти гадюки оплевали меня своим ядом?
– Во-первых, ты смотришь эту комедию два или три вечера каждую неделю с тех пор, как она идет на сцене, и по меньшей мере один из трех раз – вместе с подписчицей, которая становится еще глупей, чем есть, оттого, что прикрывает тебя. Во-вторых, ты больше ночей проводишь вне дома, чем дома. Не отрицай этого: муж Луизы Кассини два раза встречал тебя в Санта-Лючии в восемь часов утра. Он шел на работу, а ты возвращалась домой. – Она протянула руку и сжала в ладони руку подруги. – Я не шучу, Эмма, я действительно беспокоюсь за тебя. Ты всегда была сильной женщиной, примером для подражания. У тебя влиятельный муж, и он в тебя влюблен. Он выше тебя, согласна, ну и что с того? Разве ты этого не знала, когда шла за него? Никто не запрещает тебе… развлекаться. Но делай это не так открыто! И возвращайся домой. Не разрушай положение, из-за которого тебе завидует множество людей.
В темноте ложи глаза Эммы Серры ди Арпаджо наполнились слезами.
– Ты не понимаешь, Мариза. Уже поздно. Слишком поздно возвращаться.
Раздались первые звуки оркестра, и поднялся занавес.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?