Текст книги "Черная тарелка"
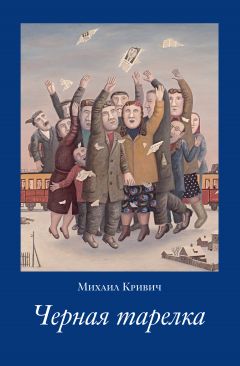
Автор книги: Михаил Кривич
Жанр: Социальная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц)
Спустя два года после исчезновения отца в доме появился отчим, а еще через год родился Ленькин братишка Семен.
Квартира по-прежнему притягивала одержимых коммунистической идеей. Отчим тоже оказался таким, хотя и был сыном расстрелянного врага народа, за что до войны его выгнали с первого курса консерватории. Он оттрубил всю войну солдатом, был ранен, контужен. Вернулся домой и стал шоферить. День за баранкой, день дома. И если на его выходной не выпадало партсобрания, на улицу не выходил: валялся с книгой на диване и пил водку. Пил водку и пел.
Его голос разносился по всей квартире.
«Три танкиста, три веселых друга – экипаж машины боевой!» – это был своего рода сигнал побудки: Моисей Гедальевич почему-то запевал про танкистов поутру, когда был еще трезв как стеклышко, а вставал он раньше всех в квартире.
До вселения отчима пение в коммуналке принято не было, приглушенный голос патефонной Шульженки из Фридиной комнаты и пьяное мычание милиционера Коли не в счет. Но вот странное дело: квартирное сообщество не только смирилось с вокалом спозаранку, но и приняло его весьма благожелательно. Одна только Фрида, выйдя на кухню, чтобы поставить чайник, попыталась сделать замечание Моисею Гедальевичу. Это случилось часов в девять утра, когда тот уже позавтракал и засосал свой первый утренний стакан водки, после которого репертуар неизменно менялся. «Куда, куда, куда вы удалились…» – нежно пропел он и, развернув Фриду, звонко шлепнул ее мозолистой шоферской пятерней по толстому заду. Фрида взвизгнула и пулей вылетела из кухни, а Моисей Гедальевич удовлетворенно хмыкнул и с оборванной полуфразы продолжил арию: «…весны моей златые дни».
У него был великолепный тенор – сильный, свободный, удивительно приятного тембра. Впрочем, во всех этих тонкостях девятилетний Ленька тогда еще мало разбирался. Его поражало другое: только что из черной пасти тарелки-репродуктора, которая висела над обеденным столом, неслось пение таинственного небожителя, чье имя – Сергей Яковлевич Лемешев – почтительно, даже слегка подобострастно, произносил другой небожитель – который объявлял название песни или арии, и вот сразу вслед за этим донельзя земной, пахнущий водкой, бензином и табаком отчим, по-домашнему одетый, подтяжки поверх голубой нательной рубахи, легко, словно не пел, а разговаривал с матерью, заводил: «Не счесть алмазов пламенных в пещерах…» И звучала песня индийского гостя ничуть не хуже, чем у небожителя, а может, даже лучше, потому что отчим мог повернуться к застывшему Леньке и шутливо, не больно щелкнуть его по носу, а сам пел словно выдыхал: «Не счесть жемчужин в море полуденном…» Он ходил от стола к серванту, чтобы плеснуть себе водочки из графина, убирал грязную посуду, стряхивал с клеенки хлебные крошки и пел, пел, пел.
От того что пел он не на одном месте, а перемещаясь по комнатенке, Леньке казалось, что звук приплывает к нему с разных сторон, то сблизи, то издалека. Только много лет спустя, вставши на ноги и раскрутившись, Ленька купит себе приличную аппаратуру и поймет, что в начале пятидесятых, когда единственной аудиоаппаратурой была черная бумажная тарелка на стене, он впервые столкнулся с тем, что нынче называют стереоэффектом. А тогда он просто был уверен, что отчим-певец заткнет за пояс всех этих Лемешевых с Козловскими. Впрочем, кто знает, может быть, так бы оно и случилось, когда бы довелось выйти Моисею Гедальевичу на сцену Большого в черном фраке или в пышном одеянии индийского гостя.
А пока он расхаживал по комнате в подтяжках, и не один только Ленька был заворожен его голосом. Замолкал в своей колыбельке обжора-крикун-зассанец Сенька. Одними глазами улыбался парализованный дед Исер Рувимович Казанов. Тетя Хеся в своем темном чулане отрывалась от срочного перевода и прислушивалась, а баба Нюра цыкала на свою чумазую мелюзгу: «Заткнитесь же, ироды! Из-за вашего гама слов не разберу!»
Однако главным поклонником – сегодня сказали бы «фаном» – отчима оставался Ленька. Он знал наизусть его оперный репертуар и однажды не устоял перед соблазном попробовать свои силы в вокале. Естественно, это произошло в уборной.
«Он поет по утрам в клозете» – помните? Боже, сколько классических арий и песен советских композиторов спето в коммунальных сортирах, сколько ярких музыкальных (и литературных, кстати) произведений всех мыслимых жанров рождено в тех тесных, мало приспособленных для творчества пространствах! Этот феномен советской культуры ждет своего объяснения и научного, в духе исторического материализма, истолкования, одно бесспорно: не было у нас в стране места музыкальнее коммунального сортира.
Так вот, поначалу Ленька, сидя на толчке, просто мурлыкал себе под нос: «Я люблю вас, Ольга, я люблю вас…» И сам не заметил, как ни с того ни с сего вдруг запел во весь голос, словно кто-то быстро крутанул ручку громкости подмигивающего красными и зелеными огоньками деревянного ящика, что с недавних пор появился во Фридиной комнате: «Как одна безумная душа поэта еще любить осуждена…»
Покорясь оперной стихии, Ленька допел арию до конца, дотянул последнюю ноту и лишь после этого заметил, как трясется перед его носом хлипкая сортирная дверь, и услышал голос отчима:
– Ну-ка отпирай, стервец!
Перепуганный Ленька поспешно подтянул штаны и откинул дверной крючок.
– Ну и альтище у тебя, малый! – Отчим стоял на пороге и с восторгом глядел на Леньку.
Поощренный отчимом Ленька запел. Запел от всей души, во всю глотку. Теперь его сильный альт разносился не только по коммунальной квартире. Он выделялся и в нестройном хоре одноклассников на уроках пения.
К великому Ленькиному сожалению, школьная учительница пения Калерия Прокофьевна по прозвищу Кила, старая сморщенная грымза с красным вечно текущим гриппозным носом, оперу не жаловала. Репертуар классного хорового пения, утвержденный то ли в роно, то ли в гороно, то ли в самом минпросе, состоял из революционных и военных песен, а также песен советских композиторов, которые что ни день неслись из черных тарелок-репродукторов.
На столе у Килы рядом с классным журналом лежала стопка затрепанных песенников. После переклички она брала наугад один из них, недолго листала и выбирала песню урока в зависимости от своего сегодняшнего настроения, которое, в свою очередь, зависело от погоды. В дни пасмурные, ветреные, дождливые шли у нее песни революционные, патетические, военные. Погрузив длинный опухший нос в большой клетчатый платок, она громогласно отсмаркивалась, садилась за стоявшее у классной доски пианино и с первым торжественным ударом по клавишам хрипло и на удивление немузыкально заводила «Взвейтесь кострами синие ночи», или «Вышли мы все из народа», или «Вставай, страна огромная». Когда же за окном сияло солнышко, Кила отдавала предпочтение песням задорным, игривым – скажем, про пионерскую картошку или насчет того, как «на солнечной поляночке, дугою выгнув бровь, парнишка на тальяночке играет про любовь».
Пацанье в Ленькином классе собралось хулиганистое и не шибко музыкальное, выстроенный Килой у доски хор подпевал безразлично и нестройно, многие просто беззвучно разевали рты, гарантируя себе твердую четверку по пению. Исключение составляли вокалисты-отличники Сережа-Соломончик и сам Ленька, всегда певшие старательно и с душой. Впрочем, на то они и отличники, хоть по пению, но отличники.
В тот день моросил противный осенний дождь, голые ветки колотили по стеклам, и с носу текло не только у Килы, но и у доброй половины класса, поэтому выбор «Варяга» был вполне уместен.
Кила бодренько прохрипела первый куплет, потом класс с ее подсказкой дважды продекламировал слова, чтобы хорошенько их запомнить и не сбиться при исполнении. Дабы закрепить пройденный материал, Кила еще раз пропела «последний парад наступает».
Она с немалым удовольствием исполнила бы этот фрагмент еще и еще раз, как в те годы практиковалось при разучивании песен по радио: «а теперь послушаем куплет в сопровождении гобоя», – но тогда никакого урока не хватит; она снова проиграла вступление и махнула рукой, приглашая хор следовать за нею.
Наверх вы, товарищи, все по местам!
Последний парад наступает…
Ленька любил эту песню, ее торжественная мелодия, ее мужественные слова вызывали у него восторг – аж слезы выступили на глазах. И он громче двух десятков одноклассников вдохновенно тянул:
Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не жела-а-а-ет.
– Хорошо, – удовлетворенно заметила Кила. – А теперь еще раз. И погромче, а то будто сегодня не кушали, еле рты разеваете. А ты, Казанов, и ты, Гиршпун, вы чуть потише, дайте и товарищам спеть. И-и-и-начали!
Нельзя не признать педагогичности замечания пожилой учительницы. Хоровое пение как нельзя лучше воспитывает чувство коллективизма – одну из важнейших черт советского человека, пусть и не достигшего еще пионерского возраста. Конечно, в любом хоре нужны солисты, нужны выдающиеся голоса, но они не должны выпячиваться, противопоставлять себя товарищам. Ленька, разумеется, тоже понимал справедливость упрека Калерии Прокофьевны, только было немного обидно петь вполголоса, не на полную катушку, свою любимую, такую героическую песню. С другой стороны, есть особая радость и в том, чтобы слиться с другими голосами, ощутить себя винтиком в слаженном механизме хора. И он бы слился, и ощутил себя винтиком, когда бы не проказник Мишка Мухортов, который сам не пел и мешал другим – кривлялся, передразнивая Килу, да еще умудрялся ритмично попукивать в такт музыке. Знали бы давящиеся от смеха одноклассники, что этот редкостный Мишкин дар – особое чувство ритма и способность воспроизводить его самым причудливым способом – вознесет его со временем на вершину успеха и известности, сделает первым ударным инструментом Москвы, а может, и всей страны.
С грехом пополам отбарабанили первый куплет, и Кила захрипела второй, самый патетический, от которого у Леньки всегда пробегали по спине мурашки восторга.
В предсмертных мученьях трепещут тела.
Гром пушек, шипенье снарядов…
Дважды повторили слова куплета, причем проказник Мишка Мухортов оба раза невинно оговорился: «трепещет Кила», вызвав раздраженную тираду учителки:
– Что за кила такая, Мухортов? Тела! Тела погибших героев-моряков! А никакая не кила! Это рыба, что ли, такая? – На лице Калерии Прокофьевны появилась гримаса отвращения. – Тебе, Мухортов, понятно?
– Понятно, Клеря Профьевна, – смиренно отозвался Мишка.
– Вот и хорошо. А теперь все вместе. И-и-и-начали!
И затренькало разбитое пианино. И охватил Леньку патриотический восторг с мурашками по спине. И вылетело из Ленькиной головы, что ему и дружку его закадычному Сережке Гиршпуну, первым певцам класса, велено не высовываться, а петь вполголоса. И набрал в мальчишеские легкие воздуха под самую завязку. И отмахнулся как от навязчивой мухи от Мишки Мухортова, который что-то нашептывал ему на ухо. И затянул сильнее всех, громче всех: «В предсмертных мученьях трепещет Кила…» И осекся, осознав свою непростительную, трагическую ошибку. И тут же замолк весь хор, а в зловещей тишине прозвучал непристойный звук, который издал Мишка, имитируя «гром пушек, шипенье снарядов».
– Казанов! Да как ты смеешь! – Кила зашлась в визгливом крике. – О наших русских героях… Ничего святого… Вон из класса! И без… Без родителей не появляйся! Вон!
– Калерия Прокофьевна, я не нарошно… – промямлил Ленька. – Я больше не…
– В-о-о-о-н!
И Ленька медленно и уныло поплелся вон. Изгнанник был уже у самой двери, когда перед его носом она внезапно отворилась и в класс вплыла седая завитая дама в накинутой на плечи яркой шали, за ней следовал директор.
Немая сцена.
Это конец, понял Ленька. И не знал он, не ведал, что это был вовсе никакой не конец, а, напротив, начало – начало его блистательной карьеры на сцене Государственного академического Большого театра оперы и балета.
– Здравствуйте, Калерия Прокофьевна, здравствуйте, дети! – бодрым педагогическим голосом поприветствовал аудиторию директор. Седая дама лучезарно улыбнулась хору.
Хор, смешав свои ряды, ответил нестройным «здрасте».
– А кто это у нас сейчас так замечательно пел? – Дама сложила бантиком ярко накрашенные губы.
Кила крутанулась на своем вращающемся табурете, повернувшись лицом к нежданным-незванным гостям, и в полной растерянности уставилась на директора.
– Калерия Прокофьевна, наша дорогая гостья из Большого театра интересуется вашими солистами, – сказал директор, причем имя-отчество Килы он произнес сухо и строго, по-начальственному, а «дорогую гостью» густо полил медом.
Кила потихоньку приходила в себя. Она поднялась с табурета, шмыгнула носом, оправила мятую юбку и совсем по-сержантски отрапортовала:
– Третий «Г» разучивает русскую народную песню «Крейсер “Варяг”». Солисты Гиршпун и Казанов.
– Ну-ка покажите своих солистов, милочка, покажите, – пропела дама и, потряхивая седыми кудряшками, подошла к пианино.
– Казаков и Гришкин, подойдите, – приказал директор.
– Казанов и Гиршпун, – поправила Кила.
– Я и говорю, Казанов и Гриш… Гиршпун. Идите сюда.
Сережка вышел из строя и подошел к пианино. Ленька продолжал топтаться у двери.
– Он в туалет попросился. По маленькому, – выкрикнул из толпы хористов неугомонный Мишка Мухортов.
Раздался недружный смех.
– Успеешь, Казанов, в туалет, – сказал директор. – Иди-ка сюда. Что ты застыл?
Ленька подошел. Теперь они стояли рядом, переминаясь с ноги на ногу, потому что и впрямь обоим от волнения жутко захотелось в туалет, – плотно сбитый носатый Сережа-Соломончик и тонкий черноволосый Ленька.
Седая дама подошла к ним вплотную, обдав запахом духов. «Красная Москва» – узнал Ленька.
– Какие славные мальчики! – Взъерошила рыжие кудри Сережки, потрепала Леньку по щеке. – Надеюсь, вы хорошо учитесь.
Мальчишки промолчали.
– Они у нас круглые отличники, – медовым голосом сказал директор.
Мишка Мухортов даже присвистнул от такого вранья.
– Отличники? Ну и отлично! Хотите петь в Большом театре?
Спрашивает! Кто же от такого откажется?
Тут прозвенел звонок. С позволения директора Кила распустила хористов, и они высыпали из класса. А Сережке и Леньке велели остаться, и дама деловито объяснила, когда и куда прийти на прослушивание.
Через неделю через служебный вход, что на Петровке, напротив ЦУМа, они первый раз в жизни вошли в Большой. Сережку привела Фрида, Леньку – мать с отчимом. В театре собралось под сотню таких же, как они, пацанят. Долго кого-то ждали. Потом пятерками стали запускать в репетиционный зал. Без родителей. Сказали: спой что хочешь. Сережка сбацал «На солнечной поляночке». Его похвалили. А Ленька, когда пришел его черед, затянул «Варяга», от волнения ляпнул про Килу, сбился и замолчал. Подумал – отпелся. А участливая седая дама успокоила: не волнуйся, мальчик, спой что-нибудь еще. И Ленька в полном беспамятстве выдал им арию Ленского. Все смеялись. А на следующий день в театре вывесили списки. Леньку взяли, а Сережку нет. В общем, как у Высоцкого в песне про Мишку Шифмана: «Там ему сказали нет, ну а мне – пожалуйста»…
Сережка страшно переживал, плакал и затаил обиду, причем не на театр, а на своего удачливого дружка.
Так Ленька очутился в детском хоре Большого и пропел там добрых пять лет, пока альт весь не вышел.
Началась взрослая жизнь. Это в школу можно было опоздать, даже прогулять денек-другой. Это у Килы запросто можно было просачковать весь урок, беззвучно разевая рот. Ну наорет, ну из класса выгонит. Это в школе можно было носиться по коридорам, размахивая портфелем, можно было разогнаться и проехаться, как на ледяной дорожке, по натертому паркету, рискуя сбить учительницу, или завуча, или самого директора. Беда не велика – ну в дневник что-то там запишут, ну четверик по поведению влепят, ну мать вызовут… Говна пирога!
Здесь была работа, и мысль об опоздании, а тем паче о прогуле просто не приходила в голову ни хористам, пацанам и девчонкам, ни хормейстеру Александру Ивановичу, невысокому сухощавому мужчине лет сорока, всегда безукоризненно одетому, гладко выбритому и причесанному на косой пробор. Здесь вообще все чисто и красиво одевались, не ходили расхристанными, непричесанными и небритыми.
Все уже были на местах, когда Александр Иванович входил в репетиционный зал, на ходу здоровался с хором и, аккуратно подтянув тщательно отглаженные брюки, садился за сверкающий черным лаком «Стейнвей», чье отличие от обшарпанного пианино, на котором бренчала Кила, понимал даже неискушенный в музыкальных инструментах Ленька.
Никаких перекличек. Не теряя ни минуты драгоценного репетиционного времени, хормейстер опускал руки на клавиши, мелькали белые манжеты, и раздавался первый аккорд вступления. И хор слаженно подхватывал: «Здравствуй, здравствуй, юродивый Иваныч!»
Ах, как хорошо пелось Леньке на репетициях! И как сладостно было, напялив рубаху-косоворотку, подпоясавшись кушаком, накинув кафтанчик, обувшись в лапоточки, намазав физиономию морилкой, наконец нахлобучив колпачок, стоять со всем хором на огромной сцене, в декорациях, глядеть в темный зал и взволнованно ждать под музыку появления юродивого Иваныча, чтобы чистым высоким голосом пропеть ему «здравствуй, здравствуй» и попросить скинуть колпачок, который так тяжел.
А юродивый был никакой не Иваныч, а сам Иван Семенович Козловский, чье имя он, Ленька, столько раз слышал из черной тарелки. И вот он рядом, тоже загримированный, в лохмотьях, до него можно дотянуться рукой, прежде чем он затянет, зажалуется, заскулит своим неземным тенором про отнятую мальчишками, может, самим Ленькой, копеечку. А назавтра встретишь его в коридоре, уже не согбенного, а высокого и статного, уже не в лохмотьях, а в светло-сером костюме, который на нем как влитой, и темно-красном галстуке, и надо, непременно надо остановиться, опустить голову в поклоне и вежливо сказать: «Здрастьте, Иван Семенович». Надо – не потому что так учили, а потому что приятно получить вежливый ответ: «Здравствуй, мальчик», обращенный не к кому-нибудь, а лично к нему, Леньке. И дяденька Лемешев тоже непременно ответит на приветствие, конечно, не так, как Иван Семенович, – Сергей Яковлевич едва кивнет: он красивый, но худой и строгий. Пусть строгий, но уж точно никакой не небожитель: Ленька своими глазами видел, как он пьет чай в буфете. А те разодетые бабы, которые толпятся у служебного входа с букетами и ждут, когда Сергей Яковлевич выйдет и сядет в машину, никогда такого не увидят.
Еще приятно было здороваться с простыми и приветливыми тетей Галей Улановой и тетей Ирой Архиповой. Последняя многих мальчишек, в том числе и Леньку, знала по имени, да и тетей ее можно было назвать с большой натяжкой – с виду не старше Сережкиной сестры Машки, которая замужем за милиционером Колей. Да и не в возрасте дело, а в простоте и доступности; могла перед выходом на сцену, бледная от волнения, забежать к ребятам-хористам в гримерную: благословите, мальчишки… А вот с балериной Лепешинской здороваться не хотелось – она никогда не отвечала. Но не поздороваешься, непременно настучит Александру Ивановичу, а тот устроит тебе выволочку. Нет, лучше в театре со всеми взрослыми здороваться: иногда впопыхах не разберешь, что за грузный мужчина идет навстречу – рабочий сцены или великий бас Максим Дормидонтович Михайлов.
Может, и тяготила немного Леньку театральная дисциплина, но как приятно было прийти домой и встретить в коридоре сопливую Любку.
– А я тебя вчера видела по телевизору! – Она смотрела на него с таким восторгом, словно он не он, а сам Лемешев. К тому времени кавээны с линзами стояли уже едва ли не во всех комнатах коммуналки. Не обзавелась теликом по бедности лишь огромная Любкина семейка, но, когда показывали из Большого, девчонка обязательно протыривалась к кому-нибудь из соседей. – Лень, а Лень, а зачем Хосе ее убил?
– Отвяжись, Любка, некогда мне. У нас сегодня получка. Надо мамке деньги отдать, – отвечал Ленька и, сунув девчонке в руку «мишку», потопал к себе.
У Леньки теперь была настоящая трудовая книжка, и он получал настоящую зарплату, сначала триста пятьдесят, а потом аж четыреста пятьдесят рублей – это в дореформенных, до реформы шестидесятого года, рублях. Вроде не ахти какие деньги, а на самом деле больше половины материнской учительской зарплаты или добрая треть шоферского заработка отчима, включая то, что тому удавалось подкалымить.
Приятно было, ничего не заначивая, принести домой всю, до копейки, получку и видеть радость матери, приятно было знать, что деньги на мороженое и газировку, которые выдавал отчим, честно заработаны, приятно было купить братишке на первомайской демонстрации, что плыла по Чехова к Пушкинской – гудела, пела, пила портвешок в подворотнях, размахивала красными флагами и портретами лысого мордастого Никиты, – купить, на свои, заработанные, Сеньке свистелку «уди-уди», или надутый шарик, который в руках трехлетнего увальня тут же лопался, вызывая дикий рев, или мячик-попрыгунчик на тонкой, как нитка, упругой резинке.
Нет, не даром Ленька ел родительский хлеб и получал народные деньги. Пел в «Борисе» и «Кармен» – потом растолковал все-таки дурочке Любке, за что Хосе убил свою подружку, – спел в «Сказке о царе Салтане», репетировал «Лоэнгрина».
Жаль только, что от двора отошел – не было времени с мальчишками собак гонять, да с Сережкой Гиршпу-ном, дружком закадычным, вне школы виделся все реже и реже. По правде говоря, с той поры, как попал Ленька в Большой, Сережка сам стал его сторониться, отсел на другую парту, к Мишке Мухортову, и был случай, не выручил в драке, сбежал.
Но времени во всем этом копаться у Леньки не было. Потому что приехал из Италии великий Марио дель Монако и все в театре встали на уши. Он пел партию Хосе с Архиповой, вот тогда она и прибегала за благословением мальчишек. А потом он должен был петь в «Паяцах».
Для сцены, где поется знаменитое «Смейся, паяц, над разбитой любовью…» требовался мальчик из миманса. И вот дель Монако, невысокий, поджарый, как всякий итальянец чернявый и как всякий великий жутко элегантный, самолично пожаловал на репетицию хора, прошелся легкой походкой вдоль замершего строя и ткнул пальцем в Леньку – вот этот. Ленька обмер.
А потом был черный беззвучный зал, и на сцене двое – трагичный Марио дель Монако с белым напудренным лицом и он, Ленька, грызущий бутафорский апельсин.
– Rid-i-i-i, pagli-a-а – cci-o-o-o… – зазвучал неземной тенор великого итальянца.
Ленька разинул рот и выронил апельсин. Оранжевый шар с грохотом, как показалось Леньке, упал на дощатый пол и покатился к рампе. Но никто этого не заметил, потому что пел Марио дель Монако.
И грянули аплодисменты, и посыпались на сцену цветы, и раз за разом выходили, взявшись за руки, раскланиваться двое – итальянский тенор Марио дель Монако и московский пацанчик Ленька Казанов.
В шестидесятом году Ленька и Сеня, которого старший брат пристроил в Большой статистом, гордо покинули сцену, не оставив сколько-нибудь заметного следа в российской оперной культуре. Сохранились лишь записи в трудовых книжках братьев да фото хорошенького десятилетнего Ленчика в костюмчике из «Пиковой дамы»: высокие белые чулки, камзольчик, из рукавов которого выглядывают кружевные манжеты, в левой руке ружьецо в положении «на плечо». Сейчас раскроет рот и запоет:
Выправкой своей гордимся —
Чем же не солдаты мы?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































