Текст книги "Reincarnation банк"
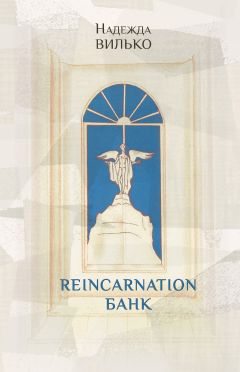
Автор книги: Надежда Вилько
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
– Хочешь, и тебя буду учить? – говорит Натан Александрович. – Ты ведь у меня тоже сущее дитя.
– Мне неловко с ними, – возражает она, – я уже выросла: видите, они от меня прячутся. Я только посмотрю на Вас и уйду. Я давно уже хотела на Вас посмотреть.
– Куда же ты уйдешь?
– Вы еще не готовы? Нам пора, я думаю, Вы проголодались…
«Нет, еще не пора». – но она уже открыла глаза и недовольно смотрела на стоящую перед ней Ноэми.
– Вы заснули? – с любопытством спрашивала Ноэми. – Я звонила по телефону и в дверь стучала, стучала…
Таня хотела спросить, какого черта Ноэми принесла ей этот усыпляющий наркотик, но спросила:
– Сколько времени длится действие этого чертова усыпляющего наркотика?
– Это очень индивидуально, – ослепительно улыбнулась Ноэми. Она больше не уговаривала отправиться с ней обедать и ни о чем не спрашивала, и за это Таня была ей благодарна.
Оставшись одна, она подозрительно посмотрела на лежащую на столе книгу, захлопнула ее и переоделась в черное платье. Вырез на спине оказался не очень низким, пластыря не было видно, но борясь с наплывающей сонливостью, она стала нетерпеливо и грубо отдирать его. Делать это, не сняв платье, было очень неудобно, и она ругала себя, одновременно радуясь, что боль помогает ей проснуться. Когда пришел Антонио Альберти, она уже окончательно проснулась.
Он был в сером, очень идущем ему костюме, без галстука, ворот рубашки покрывал узкие лацканы пиджака и слепил белизной.
«У него изумительно красивая посадка головы и шея… – почти неприязненно отметила Таня. – Наверно, был какой-нибудь дон Жуан…»
– Добрый день, – сказал Антонио Альберти.
«…как этот, Говард Дюз, который покупал», – додумала она и ответила:
– Добрый вечер. – Она не улыбнулась и не постаралась смягчить свой холодный, как сама чувствовала, взгляд. Странным было то, что ведя себя подобным образом, она не испытывала неловкости, будто именно так и надо было встречать хозяина, в гости к которому напросилась.
Только когда он сказал: – Может быть, я не вовремя? – она опомнилась, но вместо того, чтобы предложить сесть ему, встала сама. Она мотнула головой, когда он спросил: – Вы не очень голодны? – кивнула, когда он предложил пообедать в обществе Натана Гердта через полтора-два часа, и молча вышла в открытую им дверь, не расслышав, куда они идут, и не переспрашивая.
* * *
Только одна картина висела в гостиной Антонио Альберти: футуристическое изображение какого-то города с покосившимися фонарями и кривыми улицами. Яркий искусственный свет выхватывал белое пространство высоких стен. Посреди комнаты на столе стояла клетка с двумя белыми хохластыми попугаями, рядом с ней блюдо с очищенными орехами и темная бутылка какого-то коньяка, на которую Таня посмотрела с опаской. Пустая белая комната подействовала на нее ободряюще, не обращая внимания на поднявших трескотню птиц, она глядела на картину города с покосившимися фонарями и кривыми улицами.
– У меня ничего здесь нет, кроме этих орехов, – сказал Альберти, когда она отказалась от коньяка. Он стоял, держа в руках два пустых голубых бокала, и вид у него был виноватый.
– Ну налейте чуть-чуть, – улыбнулась Таня. – Я боюсь опьянеть – Вам придется рассказывать мне что-нибудь интересное, чтобы я не опьянела.
Попугаи продолжали трещать, и Альберти ловко подбросил им сквозь прутья клетки несколько орехов. В безжалостном верхнем свете были видны все до единой морщинки на его лице и след ожога над бровью ярко блестел.
«Сколько ему может быть лет?» – теряясь от странных метаморфоз его лица, подумала Таня. Она перевела взгляд на картину с покосившимися фонарями и глядела на нее до тех пор, пока птицы не утихомирились и молчание не стало заметным. Тогда она сказала: – Вы живете в такой скромной комнате, а гостей селите в дворцовых покоях.
– Эта комната действует на меня успокаивающе, – ответил Альберти. – Ностальгия по простоте. Для приемов у меня есть кабинет, а здесь никого не бывает, кроме Рози.
– Они не говорящие? – спросила Таня, кивнув на клетку с птицами. Попугаи были заняты орехами, один из них все время норовил оттеснить другого и у обоих воинственно топорщились перья на головах. – Они могут сказать: «Гррусть, гррусть, утрро…»?
Альберти улыбнулся: – Не знаю, до сих пор они молчали.
Опять, как вчера у ограды, она почувствовала жгучее любопытство. Ее никто не собирался прогонять, но мысль о том, что она вольна уйти, не сидеть теперь в этой белой комнате с пугающим своей внезапной значимостью для нее человеком, была тоскливой.
«Саша бы сказал, что я боюсь собственного синдрома ухода», – подумала она, потом вспомнила, что в книге с монограммой «RSJ» записала не свой адрес, а первый попавшийся, выдуманный, и рассердившись на Сашу за все сразу: за «синдром» и «боязнь синдрома», пробормотала по-русски: – Психоаналитики доморощенные…
Получилось очень похоже на змеиное шипенье, так что присмиревшие было птицы опять загалдели, и Антонио Альберти опять подбросил им орехов.
– Что означает «RSJ» на вашей книге для гостей? – смеясь спросила Таня.
– Radge-Suma Junior.
– Основатель банка? – вспомнила она табличку у ворот.
– Идею этого банка, – уклончиво ответил Антонио Альберти, – подал мне бомбейский нищий.
– Значит, Радж-Сумы Младшего не было? – продолжала допытываться она, почему-то развеселившись. – Или так звали нищего?
– Нет и нет. Нищий рассказал мне историю Радж-Сумы. Я тогда очень скучал, и история меня очаровала.
– А меня она тоже очарует?
– Вы хотите сказать, что Вы скучаете? – улыбнулся Альберти.
– Прадед Радж-Сумы, – продолжал он, дождавшись, пока она покачает головой, – овдовев, забросил детей и занялся очень странным для брахмана делом: ростовщичеством. Причем в обеспечение этот достойный человек брал только драгоценности. Перед смертью он так хорошо их припрятал, что два поколения его потомков искали безуспешно. Радж-Сума Младший – а Старшим называли его прадеда-ростовщика – отыскал драгоценности. Отыскав их, он повел себя странно: продолжал ходить все в той же старой заношенной одежде и жить все в той же заброшенной английской казарме, но завел себе свору огромных свирепых собак, чтобы сторожили сокровище. Сам он стал проводить целые дни на многолюдных улицах и базарах, присматриваясь ко всем встречным, и если кого-нибудь из толпы выбирал, то вел счастливчика к себе, одаривал его чем-нибудь из своих сокровищ, причем всегда с одними и теми же словами, точнее словом: «возвращаю». Вскоре стали говорить, что Радж-Сума святой, что он отдает вещи их владельцам, пребывающим в других инкарнациях. К нему стали ходить за советами, но советов он не давал никому. Он отвечал приходящим одно и то же, что где-то над тьмой, в которой он живет, должен быть свет, и это все, что он знает. Перед смертью он роздал остатки сокровищ нищим. Вот посмотрите, – Альберти вытянул из-под ворота рубашки тонкий черный шнурок; на конце шнурка покачивалась маленькая темная ящерица с обломанным хвостом. Таня остановила ее ладонью и всмотрелась. Ящерица была вырезана из темно-зеленого камня, один из крохотных красных камешков-глаз уцелел. – Бомбейский нищий, – сказал Альберти, – утверждал, что это наследство Радж-Сумы, доставшееся ему от другого нищего.
– А дальше? – спросила Таня.
– А дальше я дал нищему два фунта за рассказ и ушел. Если бы у меня было больше, я бы дал ему больше, но все остальное я отдал ему же за эту безделушку.
Таня продолжала вопросительно смотреть на него.
– Я был рад заплатить за идею хорошей шутки.
– Хороша шутка! – с улыбкой заметила Таня.
Старые знакомые

IV
Она попросила его приглушить свет. Ей хотелось снова видеть его лицо молодым, но этого она, конечно, не сказала.
«Сколько ему может быть лет?» – думала она, глядя в его помолодевшее лицо и спросила:
– Вы давно знакомы с Натаном Гердтом?
– Мы с ним старые знакомые. Мы познакомились еще в пятидесятые годы, в клинике. У него была какая-то странная форма бессонницы. – Антонио Альберти прикурил, задумался и вдруг улыбнулся:
– Вы заговорили именно о том, о чем я сам собирался Вам рассказать.
Таня вопросительно смотрела на него.
– Не думайте, что я был болен, у меня ничего не было. Чтобы проникнуть в клинику, мне пришлось симулировать редкое нервное заболевание.
– Проникнуть… зачем?
…Только бы не уплыть во времени – это всегда приносило несчастье – до мощеных светлым камнем улиц Герники, до здания оперы, самого высокого после церкви святой Варвары здания в городе с покосившимися фонарями, до грота на восточной окраине, где к июлю ручей усыхал до тонкой бесшумной струйки и, не переставая, трещали цикады в зарослях колючего шиповника…
– Мне нужно было попасть туда, чтобы разгадать одну загадку. Из этой клиники исчезла девушка – ей было семнадцать лет, и она не могла сбежать из клиники, потому что приблизительно за год до того, как она туда попала, у нее отнялись ноги, а без ног, на инвалидном кресле, куда же убежишь? Ее звали Иветта…
…Она и не сбежала: кресло стояло в ванной комнате, новенькое, блестящее, с обитыми коричневой кожей сиденьем и подлокотниками.
– Я никогда не видел ее, я узнал о ее существовании после того, как встретился с ее матерью. Это случилось, когда она уже пропала из клиники. Рози – она обожает птиц – тогда подарила клинике двух краснохвостых коршунов. Не могу сказать, чтобы я любил хищных птиц, хотя отношусь к ним с почтением.
* * *
– Вы так долго стоите здесь, Вам нравятся хищные птицы? – и представился, – Тонио Альберти.
Они стояли у клетки с коршунами в холле клиники. Было утро, и пространство за высокими окнами ослепительно белело от почти сплошной завесы крупного медленного снега.
– Рад знакомству, Вы, конечно, авиатор, который здесь недавно? А я – Гердт, Натан Гердт, музыкант.
Тонио понравилось его лицо с мелкими приятными чертами, с светло-серыми глазами, глядевшими доброжелательно и беспокойно.
– К хищным птицам я отношусь с почтением, – сказал Гердт. – Как Вы полагаете, им здесь очень плохо? Они ведь больше не разлетаются?
– Это зависит от того, сколько времени они просидят в клетке, если больше года, то, скорее всего, «не разлетаются».
– Значит, у них еще есть надежда, – улыбнулся Натан Гердт. – Хорошо бы сейчас выпить чашечку настоящего крепкого кофе, но увы, мне нельзя. Я лечусь от бессонницы, а Вы?
– А я пока без диагноза. Может быть, Вы не откажетесь прогуляться, я здесь еще ничего не знаю?
Гердт с сомнением посмотрел за окно. – Только недалеко, – сказал он, – снег.
Они шли вниз по дороге, медленным серпантином опоясывающей возвышенность, на которой стояло двухэтажное здание клиники. Теперь, сквозь завесу частого крупного снега, оно казалось кружевным.
– Здесь очень красиво, – сказал музыкант. – Особенно в ясные дни: красок немного, но они очень яркие, и границы между ними чистые и резкие.
– Это потому, что в горах. Когда я был на Тибете, меня поразило то же самое – отсутствие полутонов.
– Вы были на Тибете?
– Вскоре после окончания войны я испытывал там вертолеты и… заболел.
На самом деле именно там болезнь оставила Тонио, а началась она примерно за полгода до испытаний. Сначала он приписывал ее едва заметные симптомы переутомлению, они то появлялись, то исчезали, казались безобидными. Смешно было обращать внимание на внезапно выпавший из руки карандаш или вилку. А именно так болезнь начиналась: карандаш лежал на бумаге, а Тонио с недоумением смотрел на сведенные горстью пальцы; их поверхность как будто все еще соприкасалась с гладким граненым деревом, каждая нервная клетка чувствовала это соприкосновение – он держал в руке выпавший из нее карандаш. Но вскоре прикасаться к чему-нибудь, держать что-нибудь, или даже просто стоять прямо стало требовать полной концентрации внимания, стоило чуть-чуть отвлечься, и тело теряло предмет, с которым соприкасалось, – послевкусие предмета было таким же сильным, как вкус, – и тело не замечало перемены ничем, кроме зрения. Как ни странно, легче всего было в воздухе: опасность и цепкая привычка владеть собой и слушать пространство служили защитой от странного «сдвига фаз» – так назвал Тонио свою болезнь. И постепенно он стал жить в постоянном напряжении полета. Только во сне он переставал воевать с непослушным миром материальных тел, но в снах приходила Мария, и в снах прилетала похожая на грифа птица. Клочья серой ветоши обрамляли ее оперенье. «Ты видишь, – говорила Мария, – зачем ты учил ее летать?» «Это не я, я не знал ее», – отвечал он, но голоса не было слышно, голос опаздывал. Мария уходила, улыбаясь, растворялась в пелене слез, а где-то внизу, в тусклой глубине, смыкалось гигантское кольцо огня. Он знал, что как только кольцо замкнется, пространство, охваченное им, превратится в огонь, и невозможно будет остановить его страшное центростремительное движение. «Это не я!» – наконец удавалось крикнуть ему, но было уже поздно, сон кончался, легкая утренняя тень оконной рамы на стене подрагивала, дребезжало стекло, нарастал привычный, ввинчивающийся в небо гул мотора, начиналось непрерывное напряжение испытательного полета, то есть – день.
– Говорят, Вы приехали из Америки?
Тонио кивнул.
– Наша семья тоже эмигрировала в Штаты перед войной. А родом я из Гамбурга. Вы, случайно, там не бывали?
– Нет, – сказал Тонио. – А в Америку я попал уже во время войны, после того как закончил летную школу во Франции. Я не летал на Гамбург, если это то, что Вы имели в виду спросить… Я летал на Дрезден, а на Гамбург – нет.
Они помолчали.
– Вы, наверно, слышали о Гернике? – спросил Тонио.
– Кто же не слышал о первой жертве вашей авиации!
– Скорее вашей, – холодно заметил Альберти.
– Никогда не имел никакого отношения к авиации, – возразил Гердт.
Весь путь по серпантину вверх они неловко молчали. Только у самого входа, стряхивая снег, Гердт неожиданно улыбнулся:
– Простите меня. Я сегодня почти не спал, как, впрочем, и почти всегда. На самом деле я придерживаюсь той точки зрения, что наше прошлое отвечает за нас больше, чем мы за него. То есть, я выразился как-то несвязно…
Они вежливо раскланялись в холле на том же месте – у клетки с коршунами, где познакомились полчаса назад.
Поиски нескольких следующих дней ни к чему не привели, выяснилось только, что скандал удалось замять; пациенты, с которыми Тонио сумел поговорить, слышали, что Иветта Полянская сговорилась со своим другом, и он тайком увез ее куда-то не то в Калифорнию, не то в Мексику. Кое-кто из обслуживающего персонала несомненно знал, что это ложь, но, очевидно, получил инструкции поддерживать ее.
Разговаривать надо было очень осторожно, действовать тоже. Комнаты, в которых жила Иветта, пока никто не занимал. Тонио проник туда в один из двух дней, положенных для уборки незанятых помещений, когда горничная куда-то вышла. Ровно ничего в двух небольших смежных комнатах он не обнаружил: помещение было безликим, как пустой гостиничный номер. В ванной комнате все еще стояло инвалидное кресло, новенькое и блестящее, с обитыми коричневой кожей сидением и подлокотниками.
После обеда Тонио спустился в библиотеку. Время было еще не позднее, но обитатели клиники рано укладывались спать. Единственным, кого он там застал, был Натан Гердт, листавший у полки какую-то книгу. Он радостно приветствовал Альберти. – Добрый вечер! Уж не начинаете ли и Вы страдать бессонницей?
Книга, которую листал Гердт, оказалась сборником переводов японской поэзии пятнадцатого века. Они разговорились о поэзии, потом заговорили о музыке.
– А почему бы нам не скоротать как-нибудь вечер вдвоем? У меня есть небольшая библиотека и мне было бы очень приятно иметь Вас в качестве гостя и собеседника. – И он посетовал на то, что Европа забывает старые добрые традиции гостеприимства и быстро усваивает привычки заокеанских англосаксов, которые он, Гердт, никогда не приветствовал. Тонио с улыбкой заметил, что «старые добрые традиции» надо поддерживать и что он с удовольствием принимает приглашение. Получив обещание Тонио посетить его завтра, Натан Гердт подробно объяснил, где находятся его комнаты, и, распрощавшись, ушел, как он выразился, «глотать свои пилюли». Но, очевидно, он не понадеялся на свои объяснения, потому что на следующий день ровно в половине седьмого, то есть за полчаса до назначенного для визита времени, сам зашел за Тонио. Деликатно усевшись на краешек предложенного кресла, он с любопытством огляделся и сразу заинтересовался гобеленом. – Сработано не в Германии и работа, кажется, современная?
– Да, это сделано в Голландии по эскизам моего брата, уже после войны.
– У Вас есть брат? Он жив?
– Его угнали в Германию, – сказал Тонио, – он бросился на офицера, который застрелил одного его… немого друга. Тогда они еще не понастроили лагерей, и брат работал на какой-то ферме. Оттуда моя сестра получила от него письмо в самом начале войны. Потом он пропал без вести.
Гердт засыпал его вопросами: почему с эскизов сделан именно гобелен, сделаны ли сами эскизы с натуры, как переводится надпись в углу… – Я могу разобрать только, что это по-испански, – пояснил он, – Я не знаю испанского.
– С натуры, – сказал Тонио. – Натурой была оперная певица Мария-Геда.
Гердт продолжал внимательно слушать, и Тонио продолжил во избежание дальнейших расспросов:
– Родом она была из Польши, подавала большие надежды, погибла во время бомбардировки Герники и, насколько мне известно, не любила вышивать.
Гердт встал и подошел к гобелену. – Вышивальщица, которая не любила вышивать, – улыбнулся он. – А текст в углу?
– Фантазия брата, – сказал Альберти. – Переводится: «Нет меня. Нет у меня желаний». А почему гобелен – не знаю… Я люблю гобелены.
Ряды серебряных колокольчиков, подвешенных на натянутых между деревянными планками шнурах, походили на неровную лесенку.
– Как Вы на них играете? – Тонио потрогал колокольца. – Я еще могу понять, как можно заставить их звучать, но как заставить их вовремя умолкнуть…
Гердт занимал помещение на первом этаже угловой башни. В темноте, когда они вошли, Тонио заметил ослепительно светивший в окно голубой фонарь, и одинокий фонарь в окне как-то связался в его воображении с бессонницей.
– Здесь очень удобно, – говорил Гердт, – в башне никого, кроме меня, нет. Раньше на втором этаже жил один глухой фабрикант мыла из Австрии, теперь он уехал, и я один – могу музицировать хоть до утра. Хотя я и раньше мог, он, как я сказал, был глухим, но все-таки было как-то неудобно… Знаете, как будто наживаться на чужом несчастье. Теперь гораздо спокойнее. Одно плохо – бессонница. Знаете, после смерти жены я придумал себе очень простой способ радоваться каждый день. Весь день я не глядел на часы, а потом погляжу, а оказывается уже половина седьмого, а если повезет, то и семь, и день кончился. Блаженный Августин говорил, что терпящий получает в награду добродетель терпения, я же получил бессонницу, так что радоваться наступлению вечера уже не приходилось. Добродетелью бессонницу никак не назовешь: бродишь по комнатам, как привидение, листаешь книги, переставляешь предметы, чтобы хоть тени на стенах изменились, и думаешь, думаешь. Вы женаты?
– Был, – ответил Тонио. – Недолго, сразу после войны.
…Он видел Франсуазу Роже перед самой войной подростком и не очень представлял, каким образом может позаботиться о ее будущем. Но об этом просил его Франсуа, пока еще был в сознании по дороге от базы к госпиталю, до которого Тонио не довез его живым. Франсуазу Роже Тонио разыскал неожиданно легко; через две недели проволочек в префектуре выдали ее новый адрес.
Франсуаза оказалась довольно пышной блондинкой, совсем не похожей на девочку-подростка, которую он видел перед войной. На своего брата она была похожа только молчаливостью и манерой не отрываясь и почти не моргая серьезно глядеть в глаза собеседнику. Но глаза у нее были другие… От ее взгляда и молчания Тонио чувствовал себя неловко, выпил лишнего. Франсуаза тоже пила, и ее светлые с зеленью глаза ярко блестели.
В темноте, когда он уже засыпал, она пришла, села на его постель и, приложив к его щеке горячую ладонь, сказала, что помнит их первую встречу и все эти годы думала о нем. Тонио вспомнил растерянное лицо Марии, когда он сказал ей, что уезжает, – это был тот единственный раз, когда оно показалось ему некрасивым, – и притянул Франсуазу Роже к себе. Утром она принесла ему в постель кофе и отдернула шторы. Тонио глядел на ее незнакомое хорошенькое личико и упорно вызывал в памяти растерянное лицо Марии, когда он сказал ей, что уезжает. Днем он расписался с Франсуазой Роже в префектуре, той самой, где ему выдали накануне ее новый адрес, выполнив таким образом под напутственную речь неулыбчивого пожилого чиновника волю своего друга позаботиться о ней. Но Тонио так и не разучился всякий раз перед тем, как заняться с ней любовью, представлять себе растерянное лицо Марии-Геды.
Из лета, прожитого с ней в небольшой квартирке у Венсенского леса, остались в памяти длинные тоскливые вечера у окна, у которого он все как будто чего-то ждал, и назойливая мелодия механической шарманки мороженщика по утрам. Дни стерлись из памяти, будто их не было. Франсуаза стала пить. Она садилась в угол гостиной и молча глядела на Тонио. Раздраженный, он спрашивал ее о чем-нибудь, но она всегда произносила в ответ одну и ту же фразу: «Ты меня нисколько не любишь», – и он перестал спрашивать. Осенью он стал уходить из дома, бродить по городу, подолгу сидеть с друзьями в кафе – у него завелись друзья. Один из них, Леон, немецкий еврей, прошедший через два концентрационных лагеря, был ярым сторонником психоанализа, и Тонио неожиданно увлекся Фрей-дом, как когда-то увлекся братьями Райт. Париж не утихал ни днем, ни ночью, но ночи Тонио все же проводил дома, вспоминая час дороги на трясучем грузовике от базы к госпиталю, до которого он не довез Роже живым, – пока однажды кто-то не познакомил его с маленькой Лу, очаровательной, веселой и ветреной. С ней он разучился представлять себе растерянное лицо Марии и был ей за это благодарен. Он был не единственным ее мужчиной, и прекрасно знал об этом, но не ревновал и так равнодушно не мешал ей лгать, что в конце концов даже она обиделась и произнесла ритуальную фразу Франсуазы Роже: «Ты меня нисколько не любишь».
Той же осенью он получил письмо от Рози. Оно пришло в редакцию журнала, напечатавшего пару его статей по психологии групп. Из письма он узнал о смерти Марии, кроме того, там были записки пропавшего без вести Мигеля и извещение о причитающейся ему доле наследства: через год после его отъезда из Герники Рози выиграла процесс.
Весть о смерти Марии, дошедшая с опозданием почти в восемь лет, была невесомой, вернее, она как будто сделала невесомыми все те годы, на которые запоздала. Когда вечером он, против обыкновения, один сидел в кафе у окна и перечитывал записки Мигеля, не имея сил вернуться в дом, где ждала Франсуаза, эти самые годы сумасшедшей тяжестью вновь навалились на него и что-то в их страшной, давящей массе было беспощадно лишним. «Как бы я жил, зная еще тогда? Как?» – спрашивал себя Тонио, глядя невидящими глазами на прохожих за окном.
Он уехал из Парижа, оставив Франсуазе после развода половину полученных от сестры денег и выполнив таким образом волю своего друга позаботиться о ней…
– Я обещал Вам Ляо Чжая. – Книжная полка стояла на полу и Гердт, наклонившись, пробормотал, что надо бы повесить ее на место. – Я спустил эту полку на пол для одной юной читательницы. Она тоже читала Ляо Чжая. – Гердт извлек книгу в темном переплете. – Она быстро читала, Ляо Чжая она проглотила за день.
Тонио был уверен, что музыкант говорит об Иветте Полянской. Он листал книгу, борясь с искушением все рассказать своему новому знакомому.
– До нее мой интерес к востоку был чисто головным любопытством, – продолжал Гердт. – Но ее эта книга потрясла, она выстроила себе целую теорию…
Тонио сделал над собой усилие. – Япония всегда была для меня полной загадкой, – сказал он.
Позже Гердт играл ему на своих колокольцах. Короткую металлическую палочку он извлек из кармана движением фокусника. Рассыпался серебряный дрожащий ряд звуков, застыл… и началась точная, осторожная пантомима. Она отвлекала от музыки, и Тонио закрыл глаза, уходя от гипноза мелькавших во все усложняющемся ритме рук Гердта. Тогда возник и усилился гипноз легких, как подхваченный ветром снег, звуков. Кружась и постепенно заполняя собой пространство, они поднимались все выше, выше, пока в почти какофоническом смешении не начали таять один за другим.
– Это называлось «цветение персиковых деревьев», – сказал Гердт. Глаза у него блестели. Тонио помнил этот блеск – так блестят глаза человеческого существа, которому дана власть. В юности он обожал и ненавидел этот блеск. Теперь он помнил о Марии другое. Он сказал: – В руках у музыки царская власть, – и Гердт улыбнулся.
Они проговорили допоздна. – Прогресс, прогресс! – горячился Гердт. – Никакого прогресса в музыке быть не может. Точно так же, как с сотворения мира нет «прогресса» в делании детей. Да, в музыке, как в любом виде искусства, меняется форма, но меня огорчает потеря старой не меньше, чем радует появление новой. Давайте выпьем, – вдруг предложил он, – за неосуществимые желания!
– Что вдруг? – засмеялся Тонио.
– Вы замечали в музыке барокко и классического периода, часто даже и у романтиков… концовки? Нечто вроде: та-та та-та-таа па па-паа таа… – и так чуть не пять минут! Я думаю, что композиторами владело желание приделать хвост к бесконечности.
Тонио опять рассмеялся. – Я думаю, что ими могло владеть вполне осуществимое желание аплодисментов: надо же было как-то дать знать слушателям, что можно аплодировать.
Дойдя до темного коридора, соединявшего угловую башню с основным корпусом, Тонио хватился зажигалки и, постояв в раздумье с зажатой в зубах сигаретой, все же решил вернуться. Он застал Гердта в пальто, меховой шапке, с намотанным вокруг поднятого воротника шарфом.
– Вы собирались на прогулку? – удивился Тонио.
– Бессонница, – Гердт был смущен. – Знаете, Вы, пожалуй, правы, – тут же добавил он, – поздно. Я лучше в другой раз. – И принялся торопливо разматывать шарф.
Много лет спустя Антонио Альберти и Натан Гердт неожиданно встретились в Императорском театре, в Токио. Альберти обрадовался встрече, но ночью ему опять снились куклы с застывшими фарфоровыми улыбками.
Тот вечер в клинике, когда Тонио увидел кукол на ночном столике Гердта, прошел за прослушиванием двух превосходных записей Чикагского симфонического оркестра. Обжигающий и чистый, как прозрачное спиртовое пламя, ведущий голос принадлежал скрипке Гердта. В тот вечер, уже собираясь уходить, Тонио увидел на ночном столике под лампой двух маленьких кукол с фарфоровыми лицами и ватными волосами. Куклы лежали, наполовину прикрытые блестящим красным лоскутком материи, у одной были черные волосы, у другой – желтые.
Натан Гердт смущенно улыбнулся. – Иногда я делаю нелепые вещи, – Он извлек кукол из-под лоскутка осторожно, как спящих младенцев. – Какой-то оборванец на улице продавал целый мешок таких, один цент за две штуки. Я долго выбирал, хотя они все были одинаковые и, к тому же, было уже темно. Часть из них лежала прямо на асфальте, другие в мешке, и я никак не мог выбрать. Я не купил их всех только потому, что мне было их так смертельно жаль, что я даже испугался этого чувства. Конечно, это сразу прошло, но, знаете, иногда, когда я смотрю на эти грубые человеческие подобия, мне кажется, что Бог любит нас…
С этого разговора у Тонио появилась неотвязная тоскливая уверенность, что музыканту известно, что случилось с Иветтой Полянской. Выйдя от Гердта, он не сразу вернулся к себе. Он остановился в темном коридоре между башней и центральным холлом, оттуда ему была видна дверь Гердта. Ему почему-то хотелось увидеть отправится ли Гердт на ночную прогулку. Как раз перед тем, как дверь Гердта открылась, Тонио загадал: если отправится, то ему известно, что стало с Иветтой Полянской.
Ночью он перевел на английский записки Мигеля. Сна не было, и в комнате, слабо освещенной ночником, он ложился, вставал, курил и ложился опять…
В середине июля похоронили отца. – Истинный аристократ, – шептал, крестясь и оглядываясь, толстый Лукас Морено.
– Таких уже не будет, – вторила его супруга, – они всех уничтожат, всех щедрых, любезных, веселых кавалеров.
– Синьор Тонио и его брат, и его сестрица всегда будут желанными гостями у нас. Какие деньги?! И не думайте обижать меня! Счастлив был угостить Вас скромным ужином и всегда буду счастлив услужить Вам и сеньорите. Не прикажете ли подать «Риоху»?
Денег действительно не было: бумаги отца оказались в крайнем беспорядке, ими занималась Рози. Щедрые владельцы «Флоридитты» очень выручали неограниченным кредитом. Беспокоил Мигель: ехать учиться в Париж он раздумал, хотя маэстро Мануэль говорил, что, хоть он и готов учить Мигеля бесплатно, очень скоро ему нечему будет учить юношу, что его талант несомненно требует парижской шлифовки. А Мигель целые дни сидел в мастерской и занимался неизвестно чем – работ своих во всяком случае никому не показывал.
Тонио не любил заходить в мастерскую брата и заходил туда редко. Там, поднявшись по деревянной наружной лестнице дома в тесном, как коридор, переулке, он неизменно заставал глухонемого подростка, бледного, светловолосого и худого. Когда аптека, где подросток прислуживал, моя полы, разнося заказы и ночуя на маленьком кожаном диванчике в тесной, пропахшей лекарствами комнате, закрылась, Мигель нашел его сидящим перед оставленным помещением на солнцепеке с непокрытой головой, с блокнотом на коленях и чернильным карандашом в руке. В блокноте было нарисовано дерево с синими листьями, серыми круглыми плодами и белыми, незакрашенными, похожими на лилии цветами. Оглядевшись и не увидев в переулке ни одного дерева, Мигель привел подростка к себе в мастерскую; так возникла эта странная дружба. Глухонемой остался жить при мастерской, как жил когда-то при аптеке. Он понимал речь по губам, но Мигеля он научился понимать без слов, кроме того, он научился растирать краски и грунтовать холсты. Но самого его краски не привлекали; он пользовался карандашом или углем. Скорчившись в углу мастерской, он рисовал странных животных, странных птиц и странные растения, и Мигель говорил: «он видит сны». Почему-то Тонио объяснял нежелание брата ехать в Париж именно присутствием глухонемого и не любил бывать в мастерской и неизменно видеть светловолосого подростка с серьезными серыми глазами, глядящими из таинственного мира тишины. Однажды, не застав Мигеля, он стал рассматривать стопку набросков и обнаружил на большинстве торопливо просмотренных им рисунков Марию. Он на мгновение испугался: он подумал, что и сам не возвращается в Сорбонну, хотя приехал только проводить отца. Он тоже ничего не делает; смешно называть делом грошовые переводы для местного журнала.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































