Текст книги "Reincarnation банк"
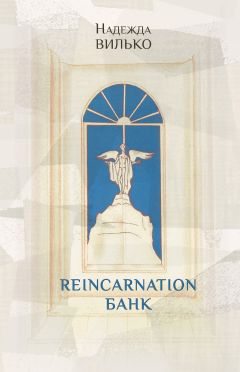
Автор книги: Надежда Вилько
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 10 страниц)
В том месте, где они снова вышли к каналу, над водой стелился низкий густой туман, и Гердт не сразу разглядел деревянные мостки на тот берег. Но и на том берегу были все те же холмы, беспорядочно лежащие камни да спутанные, иссушенные до белизны солнцем клубки древесных корней.
– Это сад? – спросил Гердт.
– Отсюда видна только северная половина, ее иногда называют «Садом Мертвых».
Солнце поднялось уже высоко, потрескавшаяся земля была светло-серого цвета и пахла пылью.
«Стикс», – усмехнулся Гердт, ступая на мостки вслед за Альберти. – Осторожно, – предупредил тот, – доски уложены зигзагом. Не знаю, что это означает, но здесь все что-нибудь означает.
Перейдя на другой берег, они шли довольно долго под немилосердным почти полуденным солнцем, не встретив живой души. Гердт отстал, и Альберти остановился, поджидая его на гребне холма у высокой сплошной гряды камней.
– Идите сюда! – весело крикнул он. – Вы сейчас увидите, почему я вел Вас этой дорогой. – По лицу его струйками стекал пот. Гердт только сейчас сообразил, что его спутник был без шляпы.
Альберти протянул Гердту руку, помогая ему взобраться на камень. Утвердившись на его неровной поверхности, Гердт поднял голову и забыл о мучившей его жажде. Разноцветными бархатными полосами лежал перед ним пологий мшистый спуск в долину. Внизу, в долине, был сад. Совсем близко, среди прекрасных ухоженных деревьев и кустов блестело озеро или пруд, за ним поднимался белый храм, за ним опять деревья, цветные пятна мха…
– Пруд восьмидесяти восьми строк, – услышал Гердт и обернулся. Вытирая ладонью пот со лба, Альберти, прищурившись, глядел в южный сад.
– Восьмидесяти восьми строк?
– Берег вокруг этого пруда создан по восьмидесяти восьми строкам древней японской поэмы, каждый из видов строго соответствует определенной строке.
Они уже спускались по белой тропинке между лиловым и красным коврами мха. – Этот секрет, – говорил Альберти, – мне открыли однажды старушки из клуба любительниц поэзии, они бегали здесь по берегу с текстом – из строчки в строчку. Смейтесь, смейтесь, – улыбнулся он, – я считаю, что западному человеку не хватает уважения к традиции.
– Вы, по-моему, уже не первый раз нападаете на «западного человека».
– Это я на себя нападаю.
В тени первых деревьев им, наконец, встретились люди. Это были два крестьянина в одинаковых соломенных шляпах. Они несли огромную корзину с сухими листьями.
– Монахов здесь мало, – сказал Альберти, – пять или шесть, им одним за садом не уследить.
Гердт шел, поглядывая на заманчиво блестевшую слева воду, ему очень хотелось пить.
– Кроме того, – продолжал Альберти, с доброжелательным любопытством косясь на своего спутника, – монахи здесь заняты тем, что сторожат мертвых.
– Каких мертвых? – спросил Гердт.
– Всяких. Шинто гораздо старше Дзена, хотя вовсе не брезгуют современными достижениями человечества: здешний настоятель учился в Оксфорде, у него даже есть публикации в области, кажется, математической физики. Что ужасно приятно – наука никак не мешает им блюсти свою веру, они просто отдают «кесарю кесарево». Я помогаю настоятелю делать кое-какие переводы из древних архивов. То, что я там нашел, показалось мне очень любопытным, и я подумал о Вас… и вот – Вы здесь.
– Вы говорили, что они сторожат мертвых.
– Шинто говорят, что среди могущественных духов Ками есть добрые и злые. Злым духам дана власть над мертвыми на одну ночь. В эту ночь мертвых надо стеречь, потому что если не устеречь, духи крадут что-нибудь у мертвых, а мертвые отнимают то, что у них украдено, у живых, обычно у тех, кто ближе, кто их любил.
– Бедные мы! И от мертвых нет покоя, и после смерти.
– Отчего же, – пожал плечами Альберти, – не любите ни живых, ни мертвых, и можете быть относительно спокойны… при жизни.
Молодой монах, работавший в саду у источника, дал им чашку, и они напились холодной родниковой воды.
– Если хотите, – сказал Альберти, – мы можем пойти в книгохранилище. Там мои переводы, их, к сожалению, нельзя выносить.
Монах шел впереди них, позвякивая висящей на поясе связкой ключей. У храма он что-то спросил у шедшего за ним Альберти.
– Он сказал, – обернулся Альберти, – что нам придется пройти через склеп, у него нет ключей от другого входа.
Они долго спускались по сбитой каменной лестнице. Склеп напомнил Гердту бомбоубежище, которое ему показывал однажды в Гамбурге отец. Он завороженно глядел по сторонам, где в полумраке бесконечных ниш угадывались хрупкие очертания тел. Воздух был сухим, но пахло почему-то прелыми листьями. В конце склепа еще несколько ступенек вели вниз, к широкой двустворчатой двери. Монах открыл ее своим ключом и ввел их в просторное помещение с очень высоким потолком, сквозь который проникал дневной свет. По всему периметру стен тянулись полки с книгами.
– Здесь я работал с настоятелем, – сказал Альберти. – Присядьте, отдохнем немного.
Гердт огляделся – свет рассеивался дрожащей мозаикой по стенам и полу.
– Хорошо здесь, спокойно, – сказал он.
– Не примите за месть, что я провел Вас через склеп.
Гердт сначала не понял, потом понял, смутился и спросил: – Вы много перевели?
– Перевел? – теперь не понял Альберти.
Они растерянно смотрели друг на друга и вдруг как-то одновременно успокоились.
– Однажды во сне, – первым заговорил Гердт, – я придумал свою теорию бумерангов, и до сих пор помню. Мне приснилось, что мы играем с бумерангами, бросаем их, а потом уклоняемся от них – так и живем.
– Не бумеранг мы бросаем, а золотой мячик, – сказал Альберти, – помните, как в той сказке братьев Гримм? А потом закидываем его в железную клетку с диким человеком, и чтобы получить назад, открываем клетку и выпускаем дикого человека, и с ним уходим в лес.
– Да, хорошо здесь, – помолчав, повторил Гердт. – Что Вы думаете дальше делать?
– В каком смысле? – спросил Альберти.
– Ну вообще… Будете здесь жить или вернетесь?
– Пока поживу здесь, надо отвоевать деньги, они того стоят, их очень много.
– Зачем Вам?
Альберти пожал плечами. – Есть одна мысль. Вам хорошо, – вдруг улыбнулся он, – Вы можете играть, у Вас есть музыка. Я тоже хочу с чем-нибудь играть.
– На чем-нибудь, – машинально поправил Гердт, думая о своем.
– На чем-нибудь, с чем-нибудь, во что-нибудь… – пробормотал Альберти, – хотите почитать, – поднимаясь, спросил он.
– Конечно, – отозвался Гердт.
Листки, которые принес Альберти, были написаны от руки. Почерк не всегда был разборчив, и Гердт перечитывал иногда одну и ту же фразу по много раз, чтобы сложить ее смысл.
История, случившаяся в семействе Сакон из-за упрямства главы его Ясукити Сакон.
Семейство Сакон, что жило близ Идзумодзи, было известно в округе трудолюбием, добронравием и благосостоянием. Глава семейства Ясукити Сакон держал десять постоянных работников, а в сезон, весной нанимал для работ в поле еще десять. Сакон ни в чем не терпели недостатка, но соседи не завидовали им, потому что они щедро помогали ближним и дальним. Все Сакон придерживались религии Шинто, прилежно молились – семейство было большим, и место, отведенное для молитв, никогда не пустовало. Два раза в год Ясукити Сакон со своей супругой, четырьмя младшими дочерьми и тремя еще не женатыми сыновьями совершали паломничество в храм. В одно из таких паломничеств, дождливой ночью поздней осени Семейство Сакон заночевало в маленькой гостинице у подножия горы Оэма. В той же гостинице в ту же ночь остановился монах Шинто, возвращавшийся из дальней поездки по делам общины. К концу общего ужина Ясукити заспорил с монахом. Предметом спора являлся древний обычай приносить в храм мертвых в первую ночь, как оставляли они труды и невзгоды временной жизни, и испуганные и беспомощные души их готовились к неведомому и дальнему пути. Ясукити – как будто из сочувствия к бессменным невеселым обязанностям святых братьев, а на самом деле из упрямства – уверял, что семьи покойных прекрасно могут справиться с ночным бдением и охранить мертвых от злых духов Ками, не прибегая ни к чьей помощи. Он вопрошал, например, как быть тем, кто живет далеко от храмов и не может в нужный момент найти сторожа из монахов. На его вопрос монах резонно отвечал, что именно для таких надобностей паствы и бродят святые братья по дальним приходам, и что он сам сейчас возвращается из предпринятого именно с этой целью дальнего путешествия. Слово за слово, Ясукити заспорил и разгорячился так, что даже кроткая супруга не могла уговорить его успокоиться и подняться в спальню, хотя была уже глубокая ночь, и воющий за окном ветер наводил на мысль о завтрашней непогоде и тяжелом пути, который придется, несмотря ни на что, продолжить. Наоборот, нежная попытка ее увещевать своего господина привела лишь к тому, что Ясукити рассвирепел и, заявив, что монахами руководит алчность, именем своего отца дважды поклялся никогда не отдавать на их попечение своих умерших близких, когда таковые случатся. Супруга его умоляюще подняла руку, но он непреклонно проговорил клятву до конца. Едва он успел произнести последнее слово, все услышали долетевший извне и на мгновение перекрывший шум дождя и ветра громкий крик. Первым бросился к двери и распахнул ее монах. Дети давно уже поднялись в спальню, и мысль о них никому не пришла в голову. А между тем, когда Ясукити тоже был за порогом, и он, и его оставшаяся в помещении супруга услышали сквозь жуткое завывание ветра крики, доносившиеся сверху, из спальни. Мать бросилась наверх, а подоспевший с зажженным фонарем на ее призыв хозяин гостиницы присоединился к мужчинам.
В молчании созерцали они при мечущемся свете фонаря тело Симо, восьмилетней дочери Ясукити. Падая с дерева, ветви которого прилегали к окну спальни, она напоролась горлом на лежавший под деревом серп – смерть ее была точна. Никто не понимал, зачем забралась на дерево девочка из окна спальни, несомненным было лишь то, что разбужена она была, как и двое ее старших сестер, громким голосом отца, спорящего внизу.
Верный своей клятве Ясукити Сакон не допустил монаха к мертвой Симо, а получив у хозяина гостиницы разрешение провести ночь в отдельном холодном флигеле, используемом лишь летом, приготовился бодрствовать у тела своей дочери с тем самым серпом, который перерезал ей горло.
Ближе к рассвету, когда непогода немного улеглась и серый мутный свет уже проник в помещение, Ясукити услышал в углу шорох. Мгновенно очнувшись от охватившей его дремоты, он увидел спокойно сидящую в двух шагах от него лису. Одним прыжком он оказался рядом с ней и рассек ее серпом. И хоть его немного удивило, что шерсть убитой им лисы блестела, как золото, и тонкий яшмовый ошейник охватывал ее шею, он все же с гордостью показал наутро свою добычу монаху.
Святой отец сразу же распознал в мертвом звере посланца бога Инари и предсказал семейству Сакон конец богатства и процветания.
– Вы приняли благого вестника за вора, – сказал он, – и род ваш отныне обречен на обнищание.
Так и случилось: беда следовала за бедой, неурожай за неурожаем, на скот напал мор, а довершил разорение пожар.
История эта записана Хандзабуро и засвидетельствована отцом Миэко, который и ночевал с семейством Сакон в гостинице у подножия горы Оэма в ночь, когда погибла Симо и была убита лиса в яшмовом ошейнике.
– Эта одна из так называемых позднейших историй, уже времен буддийской конкуренции, – улыбнулся Альберти. – Во всех позднейших историях монахи Шинто непогрешимы. А вот это записано пятью веками раньше.
История Мори из клана Асано. Беда, постигшая после его смерти двух его сыновей, рожденных от злого Ками, принявшего облик прекрасной женщины.
Случай этот произошел в годы Гэнкэй, точные даты неизвестны, но они не играют роли в данном повествовании. Достаточно знать, что период именовался Хэйанским, и Мори Асано служил среди самураев регента. В самурайских казармах не было ни юноши, ни старика прекраснее Мори телом или душой. Уважаемый начальниками и любимый подчиненными Мори пользовался неограниченной свободой во внеслужебное время и часто отправлялся к реке Камогава, чтобы предаться там в одиночестве размышлениям. Он привязывал своего коня у дерева близ пещер и просиживал у входа в пещеры часами, созерцая желтоватую воду реки и медленные спокойные облака – только это и можно было видеть с выбранного им места. Однажды он крепко уснул на своем излюбленном месте, и проснулся уже на закате от того, что до слуха его донеслись слабые непонятные стоны. Стоны стали громче, и Мори показалось, что это стонет и вскрикивает захлебывающаяся в воде женщина. Тогда он торопливо покинул свое укрытие и, выйдя к реке, увидел ниже по течению то всплывающую, то погружающуюся под воду голову утопающей. Мори пробежал несколько шагов по берегу, и на ходу отстегнув тяжелый меч, бросился в воду. Утопающей уже нигде не было видно, но он не терял надежды и нырял до тех пор, пока не обнаружил лежащее на золотом песчаном дне прекрасное женское тело. Мори вынес незнакомку на берег и всеми силами пытался привести ее в чувство. Сделать этого ему, однако, не удалось, и с глубокой скорбью он оставил свои попытки. До сумерек он вглядывался в жемчужно-белое лицо женщины, говоря себе, что мир никогда не знал более прекрасного человеческого существа. С наступлением темноты сильно похолодало, но Мори не замечал, как продрогло его тело в мокрой одежде. Он перенес женщину в пещеры, и вскоре ему показалось в неверном свете луны, что веки ее дрогнули. В безумной надежде он склонился над незнакомкой, и тут до слуха его долетел легкий вздох. Чистую и несомненную радость испытал молодой самурай, увидев, что утопленница ожила. А сомневаться при данных обстоятельствах было бы уместно, ибо и покойник может показаться живым в ночь, когда власть над ним дана духам Ками. То, что произошло на самом деле, никогда не было открыто Мори Асано. Произошло же следующее: злой дух Ками, пришедший к мертвой, пленился любовью, красотой и молодостью скорбящего юноши и вселился в тело умершей. «Кто я и где я?» – спросил он ее устами, но Мори не знал, кем была спасенная им женщина, и потому не смог ответить на первый вопрос. Убедившись, что она не помнит ни имени своего, ни прошлого, он нарек ее о-Эй и в бездонном ужасе, которого, однако, не осознавал, прожил с ней остаток своей жизни. Подобрав наутро на берегу свой меч, Мори Асано посадил о-Эй впереди себя на коня и, никого не уведомив, навсегда покинул столицу. На севере у самого океана он построил своими руками хижину и в дурмане неутолимой любви прожил в ней со своей возлюбленной семь лет, пролетевших как семь дуновений восточного ветра. Двух сыновей, прекрасных, как цветы лилий, подарила ему о-Эй. Она была заботливой матерью, преданной женой и пылкой возлюбленной. Однажды утром в первой декаде апреля на ложе из высушенного на солнце мха, на котором спал Мори Асано, заползла золотистая смертоносная змейка. Она ужалила Мори в запястье, и в то же мгновение о-Эй, гулявшая с сыновьями по берегу, побледнела и, вскрикнув, замертво упала на песок. Яд, которым было отравлено тело Мори Асано, положил конец ее жизни – его жизнь была ее жизнью, и его смерть стала ее смертью. Испуганные дети побежали в ближайшее селение и в сумерки к хижине пришли крестьяне, чтобы омыть и обрядить усопших, и монах Шинто, чтобы совершить ночное бдение. Вскоре отослав крестьян, монах остался сторожить мертвых, и будучи молодым еще и неопытным, испытывал трепет и страх: жизнь боится смерти до тех пор, пока властвует над душой. Монах зажег два светильника и прикрыл усопших кисеей, так как ему не хотелось видеть их обезображенных ядом тел. Ночь прошла спокойно, но когда взошло солнце, монах увидел невесть откуда взявшуюся лисицу. Зверь сидел у ложа, не таясь от дневного света, и большими печальными глазами глядел на мертвых. Хотя время власти Ками прошло, монах, неистово размахивая плетью из узких полос кожи, прогнал лису, немедля. Вскоре пришли крестьяне с тростниковыми носилками, чтобы доставить Мори Асано и о-Эй в селение и там, в соответствии с обрядом, предать их тела погребению. Когда подняли кисею, оказалось, что от тела о-Эй остался только скелет без единого клочка плоти на нем. По этому признаку монах догадался, что женщина была мертва уже давно, а телом ее на протяжении многих лет пользовался дух Ками, и что именно его, принявшего облик лисицы и, несомненно уже ограбившего покойного Мори Асано, видел он вскоре после восхода солнца. Сострадая участи, которая неминуемо должна была постичь близких покойному самураю людей – двух его сыновей, монах вернулся в храм и умножил свои молитвы. Вскоре до него дошла печальная весть: один из сыновей самурая ослеп, другой оглох. Так злой дух Ками, вселившийся в тело прекрасной женщины и давно уже замутивший зрение и оглушивший разум Мори Асано, в ночь смерти похитил их окончательно. И любящие должны были восполнить похищенное своими зрением и слухом. Монах, бывший свидетелем завершения этой истории, вел до конца своих дней мудрую и праведную жизнь. Он удостоился чести стать настоятелем и незадолго до своей кончины узрел просветленным духом начало этой истории. В присутствии всей братии он поведал о случившемся с Мори Асано и добавил назидательное замечание, каковое приводится ниже. Записано за настоятелем Тосихото монахом Арихито и засвидетельствовано в начале правления Нинна в годы, именуемые Хэйанским периодом.
«Соединенное в жизни надлежит разделять в смерти, ибо смерть есть распадение поверхностных связей жизни, и сама выбирает новые связи, далеко не доступные нашему несовершенному видению.
Поэтому бдение первой ночи следует вести над каждым усопшим отдельно, и положить это правило неукоснительно выполняемым».
Монах вернулся вскоре, чтобы запереть за ними дверь. Обратно шли тем же путем, через склеп, потом по сбитым ступеням вверх. Теплый душистый воздух, свет и голоса птиц обрадовали Гердта, он шел, не замечая куда, приятная пьянящая усталость наваливалась на него все сильнее. Он опомнился только, когда увидел перед глазами плоское пространство с торчащими вдалеке башенками подъемных кранов.
– Мы уже уходим? – спросил он.
– Мы уже ушли, – обернулся, шедший впереди Альберти. – О чем Вы так задумались?
– Так, ни о чем… Моя жизнь довольно однообразна по сравнению с Вашей.
– Это все не имеет значения, – отозвался Альберти. – Вам нравится?
– Что? – не понял Гердт.
– Ваша жизнь.
– В общем… ничего. Одиноко только.
– Ну это Вы сами так выбрали.
– Может быть, – нерешительно ответил Гердт.
– Вот и моя… в общем, ничего, – улыбнулся Альберти.
До сада камней они не добрались, Гердт очень устал. Обедали в маленьком недорогом ресторанчике. Альберти заказал целую печеную рыбу, длинную и плоскую, название которой Гердт не запомнил, от сакэ он отказался и пил только ледяную, сводившую зубы, воду. После обеда зашли в театр, где играли то ли потомки, то ли дальние родственники – Гердт не понял и переспрашивать не стал – династии актеров театра Кабуки. Альберти сказал: «Садандзи», но было это название пантомимы или фамилия актеров, Гердт тоже не понял.
Когда вышли из театра, уже стемнело. В такси музыкант задремал и проснулся уже за чертой города. Мелькнул указатель на сады Дайчизи. Гердт искоса посмотрел на Альберти. Тот сидел очень прямо, профиль его темнел на фоне мелькающих дорожных огней.
– Вы не спите? – почувствовав его взгляд, спросил Альберти.
– Нет.
– Не забудьте оставить мне Ваш адрес. Я напишу Вам, когда вернусь.
Он написал вскоре, что не знает, когда вернется.
За эти десять лет он сильно поседел. Гердт вспомнил, как вчера Альберти вошел в зал, где был накрыт обеденный стол, ведя Таню под руку, и как взгляд его, не узнавая, скользнул по лицу Гердта.
«Что я мучаюсь!» – он вдруг рассердился на себя, посмотрел на свою небольшую дорожную сумку, на плоский конверт с костюмом и торопливо, будто боясь передумать, уложил костюм в сумку и написал записку. Он написал, что решил немного прогуляться по городу перед отъездом, поскольку он здесь никогда не был, и просит его извинить за это внезапное решение.
Внизу он заблудился и блуждал бы, наверно, долго, если бы не встретил служащего, проводившего его к дверям и отметившего его уход в какой-то книге. На предложение вызвать такси Гердт ответил, что хочет немного прогуляться пешком, и, выйдя, вдохнул сырой, не по – весеннему холодный воздух.
Возвращение

VII
Письмо выпало из старой ученической тетрадки, и Антонио Альберти хотел распечатать его, но задумался, не распечатал, а рассеянно раскрыл саму тетрадь.
«…вода так глубока и темна, что где нам гадать, что там, под лежащими на дне камнями», – читал он, пролистав попорченные водой страницы, на которых ничего невозможно было разобрать. Он не думал о том, зачем кому-то понадобилось посылать ему эту тетрадь с выведенными детским почерком полусмытыми словами, так же как не думал о смысле читаемых слов. Он сотый раз вспоминал, как Таня сказала: «Ваша приемная дочь ревнует Вас ко мне», и какое у нее при этом было лицо, и какой тон, и как она взяла его под руку и он, почувствовав на себе ее вопросительный взгляд, остановился и повернулся к ней. Она сама потянулась к нему – иначе он бы не склонился, чтобы встретить короткое прикосновение ее горячих сухих губ. Она сразу чуть-чуть отстранилась и шепнула ему в лицо:
– Вы очень нравитесь мне, Антонио Альберти. – И с тем оставила его в коридоре перед дверью, за которой скрылась, и сколько он простоял там, одному Богу известно. Сначала ему казалось, что он как будто пьян, – он не помнил, когда ему случалось последний раз не контролировать каждое свое слово и жест, – но идя по полутемному коридору, он вдруг подумал, что его состояние больше похоже на трезвость.
Они вышли от Гердта, поднялись двумя этажами выше, бродили среди картин и чему-то поминутно смеялись. Чему они смеялись? Она говорила: – Наконец я поняла – Ваше лицо показалось мне надменным, когда Вы только выплыли из тумана, потому что оно как на старинных картинах, а на них – одни аристократы. – Потом помолчала и добавила: – И потому же, наверно, оно показалось мне знакомым… я имею в виду, по картинам. – И засмеялась.
Он тоже смеялся, глядя на нее. Они сидели на жесткой деревянной скамье напротив двух небольших портретов кисти Гойи. Левее портретов висела картина какого-то испанского художника, явно написанная по мотивам Гойев-ской серии рисунков «Сон разума рождает чудовищ». Картина раздражала – нудный хоровод буро-коричневых чудищ на фоне желто-оранжевого пламени, переходящего в безжизненную, лишенную объема дымку. От этой картины портилось настроение, и Альберти старался не смотреть на нее. Но на нее смотрела Таня, и лицо ее становилось каким-то отчужденным.
«Надо будет убрать это отсюда», – подумал он и сказал: – Все-таки бездарность очень удручает.
– О! – сказала она, проследив за направлением его взгляда. – Вы, оказывается, очень строгий ценитель. Боюсь, я не отважилась бы показать Вам свои работы.
– Я уверен, что Вам опасаться нечего.
Она не улыбнулась и не ответила, она подалась вперед, пытаясь прочесть мелкий текст под картиной, но, очевидно, не смогла, потому что встала и подошла к картине.
Они шли по коридору, когда она заговорила снова:
– Сон разума не рождал бы ничего, если бы разум был всем, что у нас есть, – сказала она.
– «Ничего» и есть самое большое чудовище, – отозвался он.
Она улыбнулась, но – может быть, виной тому был тусклый розоватый свет светильников – ему казалось, что лицо ее продолжает оставаться отчужденным. Они уже подходили к ее дверям.
– Похоже, Антонио Альберти, Вы все знаете, – сказала она и добавила, видя, что он собирается возражать: – Ну не все, не все, хорошо! Но, может быть, Вы скажете мне, где соблазняющие нас несметными богатствами и устрашающими наслаждениями черти? Человека теперь не надо соблазнять, его можно поймать на червяка. Что случилось с этим миром, а?
– А что с ним случилось? – Ему очень хотелось, чтобы лицо ее перестало быть таким отчужденным. – Он все такой же, и как видите, – он сделал легкий жест в ее сторону, – я нахожу все так же необходимым соблазнять… человека.
Она рассмеялась, махнула рукой:
– Ваша приемная дочь ревнует Вас ко мне. – И потом, когда он почувствовал на себе ее взгляд, остановился и посмотрел ей в глаза:
– Вы очень нравитесь мне, Антонио Альберти…
Подняв голову от тетради, он нечаянно поймал в глубине поблескивающего в полумраке зеркала свое отражение и заметив, что улыбается, усмехнулся.
Так приятно хотеть, чтобы лицо ее не было отчужденным. Они пойдут в павильон, где стены пронизывают все этажи насквозь, и он будет с удовольствием смотреть, как она, подняв голову, глядит сквозь круглый стеклянный купол на небо. Правда, кажется, здесь никогда не видно звезд. Этот спрятанный в лабиринтах здания павильон он приберег для одного себя. Он скажет ей и это, и скажет, что счастлив разделить его с ней. Но все это случится не раньше, чем он прочтет гердтовские бумаги, потом зайдет попрощаться с ним, потом он еще должен сделать несколько звонков, и еще Рози просила обязательно зайти. Он встряхнул головой и снова взялся за тетрадь.
«Вода так глубока и темна, что где нам гадать, что там, под лежащими на дне камнями…», – снова прочел он и подумал, что может позвонить ей.
В ответ на его «Что Вы делаете?» она рассмеялась.
– Только что заходила Ноэми и зайдет еще.
– Это хорошо, что Вас тут сторожат, а то мне все время кажется, что Вы без меня убежите.
– Не убегу, я так или иначе дождусь Вас.
– Дождитесь «так»! – сказал он, и она опять засмеялась.
Повесив трубку, Антонио распечатал, наконец, письмо. Оно было отпечатано на машинке и оттого, наверно, еще диче и нелепее были первые же его строки.
«Дорогой Антонио, я пишу это письмо, потому что сочла невозможным не сказать Вам, что Иветта Полянская, печальная судьба которой Вам хорошо известна, была Вашей дочерью. Есть вещи, которые тяжело уносить с собой в могилу. Мария родила ее в Мадриде и вскоре уехала в Гер-нику, откуда потом часто приезжала к нам с Иветтой. Мы ждали пока девочка подрастет и окрепнет, чтобы увезти ее в Америку подальше от надвигающейся Европейской катастрофы. Мария нашла кормилицу, которая впоследствии уехала с нами и пережила свою молочную дочь, как я пережила свою внучку. Я торопила Марию с отъездом, часто повторяла, что у меня дурные предчувствия, но она сказала, что должна дождаться письма от Вас. Наконец мы решили, что я с девочкой и кормилицей отправлюсь сейчас, а она присоединится к нам позже. Я помню, что расплакалась и сказала, что ни один мужчина не стоит того, чтобы ради него разлучаться с дочерью. Эти слова повлияли на нее совсем не так, как я ожидала; она попросила меня: если с ней что-нибудь случится, пусть Иветта считает меня своей матерью. «Ты права, – сказала она, – лучше потерять сестру, чем мать». Больше мы к этому вопросу не возвращались, и я больше не пыталась убедить ее ехать с нами. Родители обладают некоторыми иллюзорными правами на детей, но я не обладала даже ими. Мы ни разу не попытались утешить друг друга, и я знаю, что вовсе не в утешение мне она однажды сказала: – Поезжайте спокойно, со мной ничего не может случиться – я хочу увидеть еще Антонио. – Она действительно верила в это, ей казалось немыслимым, что с ней что-нибудь может случиться – так сильно она хотела увидеть Вас.
Она сказала это очень просто, как говорила все, что говорила. Вы ведь ее помните. Она была сильной, моя девочка, не тщеславной со всеми своими талантами, она не боялась людей, несмотря на свое раннее знакомство с ними, и она Вас любила. Вы можете подумать, что я пишу это не без умысла разбередить Ваши раны – я ведь Вас немного знаю по рассказам Натана – что ж, признаюсь, возможно. Хотя Вы всегда можете сделать скидку на идеализацию – родители склонны идеализировать детей, а женщины мертвых. Я могла бы ограничиться письмом и не посылать Вам иветтину тетрадь, но это то немногое, что осталось от того, что должно было пережить меня и что пережила я. Пусть хоть эта тетрадь немного переживет меня – она ведь не может быть Вам безразлична. Она попорчена водой, потому что тонула вместе с Эриком, тем, который очень огорчил Ив. Его я тоже похоронила. Надеюсь, Вы живы…»
Альберти оторвался от письма и опять поймал свое отражение в зеркале. – Кажется, жив… – пробормотал он. Он вернулся к письму, но никак не мог отыскать место, которое читал. Чувствуя, что теряет контроль над собой от стремительно овладевающего им бешенства, он закрыл глаза, чтобы успокоиться, а открыв, стал читать с первой попавшейся строки.
«…наша последняя. Впоследствии, уже приехав сюда, я так и сделала, солгав, что потеряла метрику и затем уже лгала всю жизнь. Ив тоже лгала мне с того момента, как случайно узнала, что лгала я – она никогда не заговорила со мной об этом. О том, что она знает кто ее мать, я прочла в ее дневнике уже после того, как ее не стало. Очевидно, это жестоко, сообщать Вам все это после стольких лет, но иначе поступить я не могу».
Дальше была подпись.
Это был какой-то заговор – Гердт, наверняка знал. Наверно, Мария тоже знала… еще тогда, когда он уезжал. Антонио Альберти попытался сосредоточиться, припомнить точные даты, потом вдруг подумал, что это бессмысленно, ведь ему не была известна дата рождения Иветты. Может быть, Гердт знал и это. Антонио взглянул на часы, смахнул письмо с открытой тетрадки и в третий раз прочел:
«…вода так глубока и темна, что где нам гадать, что там, под лежащими на дне камнями, она сказала, что все, что он хотел сказать – это то, что мы многого не можем понять, сколько бы ни гадали и что ей не нравятся писатели, которые туманными фразами размазывают простые чувства и мысли. Но я думаю, что чувства не бывают простыми. Как, например, тогда, когда я шла в школу, а Эрик ждал меня у набережной, и я ужасно боялась увидеться с ним после вечера накануне. Я ничего не могла понять в своих чувствах. Накануне я ведь даже не видела его лица – он встретил меня сразу после представления и не успел стереть известку. Рот у него был раскрашен до ушей, а под глазами черные треугольники – как будто он плачет и смеется одновременно. Я сказала, что приду завтра на набережную, и всю ночь мне снилось, что я прихожу и никак не могу разглядеть его лица, а так рвусь! А утром я подумала – какая глупость, а вдруг он урод какой-нибудь, который только и умеет, что по-лягушачьи скакать в цирке да совать тигру под нос свои желтые розы… Даже не знаю, что я подумала, но я уж точно решила не идти на набережную – мне было так страшно, что даже противно. Противно и страшно. А впрочем, вот я и не знаю, как сказать, как мне было в то утро. Было так, как будто мне и вечер накануне приснился, и нечего гоняться за снами. Но когда я проходила мимо Ветреного переулка и ветер подул так сильно, что пришлось остановиться, я чувствовала, что у меня болит сердце, просто разрывается от боли, и если я не сверну сейчас на набережную, где мы договорились встретиться, оно всегда будет так болеть и никогда не пройдет. И я свернула. Но и при этом как будто надеялась, что Эрик не придет и что я его больше не увижу. А мама говорит о простых чувствах. Если бы чувства были простыми, люди бы никогда не предавали, потому что предают – это значит обещают что-то важное и хотят выполнить свое обещание, а потом обещания не выполняют, потому что больше не хотят или потому что чего-нибудь другого хотят еще больше. А хорошо бы чувства и в самом деле были простыми… Как тогда, когда я увидела лицо Эрика, и перестало болеть сердце и стало спокойно. Мне очень понравилось его лицо, хотя оно было старше, чем я думала. Он такой гибкий и тоненький, что под гримом казался мне совсем молодым. А у него уже были морщинки на лбу и около глаз – может быть, конечно, от грима. У него совсем светлые глаза – никогда не видела таких светлых глаз, и длинные ресницы. Только они тоже светлые и надо вглядываться, чтобы их заметить. Но я сразу же заметила. Он глядел на меня с какой-то грустной жадностью и это было невыносимо… приятно».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































