Текст книги "Reincarnation банк"
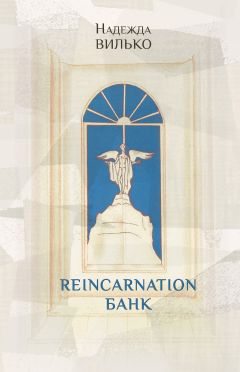
Автор книги: Надежда Вилько
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
В гроте на восточной окраине ручей превратился к июлю в тоненькую бесшумную струйку. Зато, не переставая, трещали цикады, а после захода солнца пели, сменяя друг друга, птицы в зарослях колючего отцветшего шиповника. Туда приходила к нему Мария и говорила, что «отчего это так? Отчего, когда рушится мир, случается любовь?» А там, за полночь, неутоленные, не отрывая друг от друга взгляда, они пили «Риоху», которой неизменно угощал радушный владелец кафе «Флоридитта», и Тонио казалось, что он знает ответы на все вопросы, что ответ на все вопросы один – любовь. Но дни спектаклей он не любил. Он не любил толпу поклонников Марии-Геды, не любил, когда она улыбалась этой толпе, не любил цветы на подмостках. Ему было тяжело даже тогда, когда все стихало и все расходились, а он сидел в последнем ряду партера и ждал, когда дрогнет малиновый занавес и по боковой лестнице спустится к нему в зал царица в темной короне сплетенных косой волос…
Он стал серьезнее заниматься переводами, завел знакомства в нескольких крупных мадридских научных и политических журналах, стал переводить для них, преимущественно с английского и немецкого, реже с французского. В сентябре Мария получила письмо от матери. Глена Полянская писала об одиночестве, о том, что она ничего не знала об отношении отчима к Марии, сетовала на Марию за молчание, за то, что ушла. Просила прощения. Она написала, что узнала все случайно и с отчимом Марии рассталась… Где находится дочь ей сообщил известный оперный критик, который безуспешно уговаривал Марию бросить провинциальную сцену. Он и привез письмо. Он разыскал мать Марии в Мадриде, встретился с ней, просил ее повлиять на дочь. Об этом Полянская тоже написала, добавив, что не имеет никакого права советовать, и что Мария сама лучше знает, как ей поступить. На этот раз критик приехал с двумя влиятельными господами: профессором Мадридской консерватории и жизнерадостным толстяком – известным итальянским тенором. Они втроем уговаривали Марию поехать учиться, итальянец называл ее будущей примадонной, целовал ручки, устроил званный вечер в честь «прекрасной испанки». Мария настояла на том, чтобы Тонио пошел с ней, сказала, что без него не пойдет, что ей там «одной» делать нечего. Весь вечер она старалась втянуть его в общий разговор, поминутно к нему обращалась, но Тонио все равно чувствовал себя пустым местом и в конце концов потихоньку ушел. Ночью Мария пришла к нему, гладила его лицо, руки, молчала… В полумраке глаза ее глядели вопросительно и тревожно. В ту ночь Тонио не прикоснулся к ней.
Еще неделю пробыли приезжие знаменитости в Гернике, но уехали ни с чем. Так они все, Мигель, Мария и Тонио, остались той осенью в городе, доживающем свой век. Тонио больше не встречался с Марией в гроте на окраине города. Однажды он забрел туда, сидел на холодных, не успевавших прогреться за день камнях, и глядел на закат. Уже не так трещали цикады, зато птиц стало больше. В тот вечер Мария пела, но он не пошел в театр, он не ждал ее в последнем ряду партера, а думая только о ней и ненавидя себя за это, пил дешевое белое вино в заведении синьоры Гизарио. На коленях его сидела женщина, и он глядел на ее сверкающие серебряные туфельки и серые ажурные чулки. Несколько раз он поднимался с ней в комнату с яркими обоями и лампой под золотым абажуром, целовал ее с ног до головы, медленно раздевал и гасил свет. В темноте он сразу же забывал ее лицо.
– Почему ты погасил свет? – спросила она, когда они второй раз были наверху. – Я хотела бы на тебя смотреть, ты нравишься мне.
– Мне так легче, – сказал Тонио.
– Бедный, – прошептала почему-то женщина.
Однажды он переводил с французского большую статью о братьях Райт. Французский авиатор, написавший статью, был романтик. Упоминая о том, что сами конструкторы испытывали новые диковинные аппараты, он восхищался гармоничностью последовательного воплощения братьями Райт мечты в полет. «Кто из изобретателей не грезит первым испытать свои крылья и кто из пилотов не стремится ощутить себя единым целым с оторвавшей его от земли машиной в той мере, которая дается знанием и любовью, – тот не изобретатель и не пилот, а только техник или спортсмен…» Он сетовал на практическую необходимость уже сейчас разделять эти две мироощущенчески неразрывно связанные профессии в связи с усложнением современных летательных аппаратов. Он говорил, что верит в то, что наступит новая эра полетов и что это будет эра предельного упрощения конструкций скоростных летательных машин, а значит, новый принцип преодоления гравитации. Имя пилота было Франсуа Роже. Позже, в конце войны, Тонио не довез его живым от базы к госпиталю… К статье были приложены кое-какие чертежи братьев Райт. Разбирая их, Тонио неожиданно увлекся.
– Рисунки, удивительно напоминающие очертания современных самолетов, нашли при раскопках древнего Египта, – сказал Франсуа Роже; они случайно столкнулись в редакции.
– Мне жаль, что к вашей статье приложены не все чертежи. Я пытался построить модель, – признался Тонио.
– Я могу Вам помочь, если хотите. – Франсуа Роже было уже двадцать шесть, но он казался сверстником Тонио; может быть оттого, что его светлые глаза глядели как-то по-детски серьезно и доверчиво.
Статью по каким-то причинам в последний момент не пропустили, но гонорары выплатили обоим, и легкая модель – копия первого райтовского самолета – вскоре повисла на двух тонких шнурах под потолком мансарды Тонио, недосягаемая для хаоса убогой и случайной мебели. От малейшего смещения воздуха маленькая картонная машинка двигалась; Тонио подолгу смотрел на нее, прищурившись, не отрываясь, ни о чем не думая, только меняя в воображении масштабы, чтобы видеть ее летящей, живой.
Мария улыбалась, глядя на игрушку, подпрыгивала, чтобы коснуться ее рукой. Но Тонио видел, что она делает над собой усилие, чтобы казаться веселой. Когда она не замечала, что он смотрит на нее, в ее темных глазах была боль.
Франсуа Роже пригласили преподавать с нового года в летной школе под Парижем. Пока же он прибегал ни свет ни заря, приносил горячие булочки, свежие газеты, заваривал кофе на единственной газовой горелке, говорил о Париже и вечно куда-то опаздывал. Париж не манил Тонио, но со злой настойчивостью он стал строить план своего отъезда, не очень веря в его осуществление. Он понял, что уедет, когда сказал однажды Марии: – Роже приглашает ехать с ним в летную школу, во Францию, – и увидел, каким беспомощным и растерянным становится ее взгляд, как она краснеет, как вымученная фальшивая улыбка появляется на ее лице. Он отвернулся – таким некрасивым вдруг показалось ему ее лицо в этот момент – и сказал: – Я решил ехать.
Она ни о чем не спрашивала, она не отговаривала, она только сказала:
– Я знала, что ты уедешь. Пиши мне.
Он никогда не написал ей. Он никому не написал в свой первый год в Париже. А потом… не было Герники.
В последнее время перед отъездом он часто виделся с Мигелем. Они совершали вдвоем долгие прогулки, говорили мало. Однажды Тонио поймал на себе укоризненный взгляд брата. – Вчера заходила Мария, – сказал Мигель, – я просил ее попозировать.
Тонио знал об этом, она говорила ему. Она была с ним спокойна и нежна. Скорый отъезд успокоил и его, и последнее перед расставанием время было немного похоже на первое время их встреч.
– Она несколько раз повторила чьи-то строки, – продолжал Мигель. – Я запомнил: «Я на чужбине соловей, а клетка – ты». Ты не знаешь, чьи это строки?
Вечером накануне отъезда Лукас Морено устроил в кафе прощальный ужин с танцами, напутственными пожеланиями и молодым шампанским. «Счастья и удачи во всем!» – произнесла тост Мария. Она не отрываясь выпила весь бокал шампанского и встала. У Тонио защемило сердце. Он вышел с ней на улицу.
– Я приду завтра утром, – сказала Мария, но он не хотел отпускать ее, и они долго стояли обнявшись у входа в кафе «Флоридитта». Проводить себя она не позволила.
Но ночью она пришла, гладила его щеки прохладными ладонями, молчала…
…Сна не было, и к утру в комнате стало не продохнуть от выкуренных за ночь сигарет. Он открыл окно; дурманящая морозная струя заставила его поежиться. Он лег, укрылся с головой и лежал с открытыми глазами в тесной темноте до тех пор, пока клубок растущего чернильного беспокойства ни заставил его задохнуться. Тогда он закрыл глаза, осторожно высвободил лицо, и высвеченная бледно-розовым дремота медленно сменилась похожим на явь сном. В этом сне пришла Мария, ласково ему улыбалась, гладила прохладными ладонями его щеки. И было непонятно – что нужно было большой птице с опереньем, похожим на серую ветошь, там, где ему улыбалась Мария.
Тревога, оставившая было его во сне, вернулась с пробуждением. Натан Гердт, с которыми они обедали, как повелось, позже всех, в конце обеда соболезнующе спросил:
– Вы сегодня не выспались?
Тонио улыбнулся и подозвал официанта. – Могу я посмотреть Ваш список вин? – попросил он.
– А теперь решили еще и напиться! – пошутил Гердт.
– Надеюсь, Вы поддержите меня в этом начинании.
– С удовольствием, как, впрочем, и в другом, то есть, в другом без удовольствия, – поправился Гердт, – я имею в виду бессонницу, – и засмеялся.
– Маркиз де Рискал, пятьдесят третьего, как Вы просили. – Тонио кивнул, и официант откупорил бутылку.
Некоторое время разговор вертелся вокруг вин, вдруг Тонио сказал:
– Расскажите мне об Иветте Полянской.
– Вы знали ее? – удивился Гердт.
– Нет, я знал ее сестру.
– Разве у нее есть сестра?
– Была.
– Она умерла?
– Умерла. Ее сестрой была Мария-Геда, «Вышивальщица». Расскажите мне об Иветте, – опять попросил Тонио. – Объясните, отчего она увлеклась Ляо Чжаем.
Гердт молчал, глядя на Альберти широко раскрытыми глазами. – Я однажды спас ее от самоубийства, – вдруг сказал он.
– Спасли? – переспросил Тонио.
– Вы первый, кому я об этом рассказываю.
– Мне кажется, что Вы напрасно не сказали об этом ее доктору.
– Может быть, – Гердт первым отвел глаза, – у меня с детства было несколько болезненное отношение к неприкосновенности нашего… личного. Наци сыграли здесь не последнюю роль.
– Почему же Вы мне сказали? – спросил Альберти.
– Потому что Вы не чужой, потому что Вы мне симпатичны, и самое главное, потому что Вы никогда не будете с ней об этом говорить.
– А Вы сами говорили?
– Да, – сказал Гердт. – Я увидел ее у обрыва, я привык к ночным прогулкам и хорошо вижу в темноте. Я могу показать Вам то место, где стояло ее кресло. Свалиться оттуда – верная гибель. Она и не отрицала, что хотела сделать именно это; она даже сердилась, говорила, что другого такого случая может не представиться. Не знаю, как она проскользнула мимо ночной сиделки. Я боялся оставить ее одну, привез к себе, поил чаем, уговаривал успокоиться. Помнится, все пытался припомнить то немногое, что мне было известно о подростковой депрессии. Тогда-то она мне и изложила свою теорию. Она сказала, что уверена в том, что была когда-то одной из лис-оборотней, о которых прочла у Ляо Чжая.
– Почему? – спросил Тонио.
– Потому что у нее отнялись ноги после того, как ей приснилось, что она отрубает себе лисий хвост.
– Очень убедительно, – заметил Тонио.
– Не нужно, – попросил Гердт, – не иронизируйте. На самом деле она говорила много удивительных вещей, то есть, удивительных для семнадцатилетней девочки.
– О чем?
– О любви, о предательстве…
Поднимаясь по лестнице вслед за Гердтом, Тонио нащупал в кармане ключ, крепко сжал его, отпустил. Ему вдруг показалось, что возвращается болезнь. В комнате Тонио попросил не зажигать свет, остановился у окна и глядел на медленно падающий снег; комната плыла вверх в однообразном темно-синем пространстве среди неподвижных хлопьев белых водорослей.
– Вы ведь мне расскажете, что случилось дальше, – не оборачиваясь сказал он.
Музыкант не ответил.
Тонио зажег свет и протянул Гердту свернутые трубкой листки своего ночного перевода. – Прочтите, я перевел для Вас записки моего брата. – Он опять отвернулся к окну.
«Как хлопья водорослей в воде… Ночь похожа на воду. Когда взлетаешь, дома кажутся затонувшими развалинами…» Он не знал, похожи ли на затонувшие развалины горы, он не взлетал там ночью. Он пытался вспомнить, почему он стал думать о горах. Да, здесь тоже горы, но было что-то еще… Да, болезнь, но что-то еще…
Он вспомнил, когда Гердт прочел и сказал, что у Ми-геля была богатая фантазия.
– В самом начале пятидесятых, – сказал Тонио, – я потерял управление машиной при посадке. Это было на Тибете, и я был уже болен. Я снижался над небольшой песчаной площадкой, к счастью, все произошло, когда я был уже низко. Потом заклинило дверь и мне долго не удавалось выбраться, а потом я стоял под ярким солнцем рядом с покалеченной машиной и мне казалось, что когда-то я точно так же стоял здесь: под солнцем, на песке, рядом с разбитым вертолетом, и я все пытался вспомнить, когда… и это было важнее, чем все: вода, болезнь, горы… Я вспомнил – но это было только начало той ночи – в записках Мигеля Мария говорила ему, что видела меня на песке, под солнцем, одного. – Он поглядел на Гердта, тот забыл снять очки. Неправдоподобно большие глаза за стеклами раздражали Тонио. – Вы забыли снять очки, – хотел сказать он, но не сказал и опять отвернулся к окну. – Тогда мне стало казаться, что Мария где-то рядом со мной, смотрит на меня, видит меня. Когда стемнело, я совсем расклеился. Темнота наступила внезапно, резко. Хотелось пить, стояла невыносимая, сводящая с ума тишина. Несколько раз прокричала какая-то птица, впрочем, тогда я не думал, что это птица… Потом начались галлюцинации, меня звали по имени, приглашали куда-то идти или хотя бы откликнуться, предлагали откликнуться даже не вслух, а про себя, мысленно – это было страшно. Вы первый, кому я об этом рассказываю.
– Как странно, – отозвался Гердт, – я где – то читал похожее…
– Ради Бога, – перебил Тонио, – давайте не будем обсуждать чужой бред. Каждая болезнь имеет свои симптомы, наверно не я один болел этой болезнью.
…Когда рассвело, он не мог заставить себя сдвинуться с места, хотя пить хотелось невыносимо…
– Наблюдать разрушение собственной воли – может быть, Вы знаете, как это страшно. Разрушаться и знать, что разрушаешься, и анализировать разрушение. Конечно, я не говорю о том дне в горах, тогда мне было не до того. Все началось гораздо раньше. Давным-давно я не помнил настоящей Марии, вернее, помнил, но не отличал ее от мертвой из записок брата или от той, что я видел в снах: все было слишком давно, все сплелось в какой-то клубок… Вы забыли снять очки.
Гердт снял очки. – Как Вас разыскали? – спросил он.
…Они дважды пролетали над ним. Он кричал, размахивал руками, но на площадке лежала глубокая тень, они не видели его. Когда они пролетали второй раз, он чуть не сорвался со скалы, на которую карабкался в надежде, что оттуда его заметят. Потом долго ждал наверху, но больше они не пролетали. Они вывели его из оцепенения, он двигался, появился страх умереть от жажды. Вода, надо найти воду! Солнце поднялось выше; теперь оно освещало белый искрящийся песок площадки, металлическая машина отражала его лучи новенькой гладкой поверхностью. Незачем больше было оставаться на скале. Спуск, казалось, отнял у него остаток сил. Он лежал на песке, повторяя «вода, надо отыскать воду»… Он отыскал воду. Потом трижды возвращался к тонкой струйке горного источника – такой же тонкой, как ручей в Гернике, в гроте, к июлю, – хотя пытался вернуться к месту своей аварии. Так наступила еще одна ночь.
Человека в белой одежде, которого он увидел на рассвете, он принял за призрака и закричал. Он закричал громко и его услышали.
– Я случайно набрел на поселок, – сказал Тонио. – Искал воду и нашел поселок. Я дал себе слово разыскать мать Марии, если она жива: мне надо было поговорить о Марии с тем, кто ее знал, о живой Марии, не о мигелевом призраке. Ничего другого я не мог придумать. Я ненавижу всю эту мистику.
– Может быть, «боюсь» – более верное слово? – сказал Гердт.
– Кому что нравится, – ответил Альберти.
…Он бы оставил затею разыскать мать Марии. Он был уже здоров. Он был здоров уже в горном поселке, после кризиса тех двух ночей. Но он привык доводить все до конца. Агентство разыскало Глену Полянскую два месяца назад. Но он так и не поговорил с ней о Марии. Он не смог. У нее были заплаканные глаза, белые, как снег, волосы, а брови были, как у Марии. У нее пропала другая дочь.
– Гердт, – сказал Тонио, – я давно чувствую, что Вы что-то знаете. Я ничего никому не скажу. Если после всего, что я Вам рассказал, Вы не поможете мне…
Музыкант молчал.
– Гердт, – опять заговорил Тонио, – не говорите мне, что ничего не знаете. Я должен ее разыскать, увидеть, хотя бы узнать, где она.
– Почему Вы думаете, что это Вам поможет? – внезапно спросил Гердт и, не дожидаясь ответа, поднялся. – Оденьтесь для прогулки и приходите после обхода. Подождите! – окликнул он, когда Тонио был уже в дверях. – Постарайтесь быть спокойным, так будет легче.
Они оставили клинику слева и поднялись по расчищенной дороге до одноэтажного каменного строения. Тонио уже был в нем и знал, что там стояли громоздкие машины для уборки снега. За строением поднимался острый каменистый холм, пятнами покрытый снегом. Гердт уверенно ступал в темноте, Тонио шел за ним, увязая в глубоком снегу. Они обошли холм, и Гердт включил карманный фонарик. Он поглядел на полуботинки своего спутника. – Вы уже промочили ноги, может быть, вернемся? Нам еще далеко идти.
– Ничего, пустяки. Куда нам? – спросил Тонио. Гердт неопределенно махнул рукой с фонариком туда, где за недолгим плоским пространством поднималась тающая в темноте цепь холмов. Желтое пятно света скользнуло по снегу, неровно и недалеко, и вернулось к ногам.
– Пойдемте, – сказал Тонио, – холодно стоять.
Идти тоже было холодно. Тонио поглядел в беззвездное небо, на котором смутным пятном угадывалась низкая луна, и почему-то подумал: «хорошо, что холодно».
Гердт погасил фонарь, и они зашагали дальше. Они шли больше часа, поднимались, спускались – пока с очередного холма перед ними не открылось ровное пространство. Гердт опять включил фонарь. – Я бывал здесь еще до войны. Место по Вашей части: бывшая взлетная площадка и старый ангар. – Он посветил фонариком вниз. Тонио разглядел у подножия холма длинный прямоугольник занесенной снегом крыши. Они спускались медленно, холм был крутым.
– Здесь невозможно взлететь, – сказал Тонио, – здесь увязнет машина.
– Хорошо, что нам не надо взлетать, – быстро отозвался Гердт. Он разбросал ногами снег у входа в ангар, приоткрыл жалобно заскрипевшие ворота. Внутри было еще холоднее, чем снаружи. Гердт с фонарем прошел вперед. Стоя в темноте и чувствуя спиной и затылком страшный озноб, Тонио опять подумал: «хорошо, что холодно».
– Пальцы не слушаются, озябли, – услышал он бодро прозвучавший голос своего спутника. – Идите сюда, здесь чисто. – Как будто Тонио боялся обо что-нибудь запачкаться… И Тонио пошел, осторожно переступая полосы снега, нанесенные сквозь щели в стенах. Гердт уже справился со спичками, зажег три свечи в массивном темном подсвечнике и шел впереди. Несколько раз он обернулся, проверяя идет ли за ним Альберти.
– Подождите, – окликнул его Тонио, – куда мы идем?
– Мы уже пришли. – Гердт протянул руку с подсвечником к чему-то, казавшемуся матово-отсвечивающим стеклом.
– Что это? – испугался Тонио. Красная с желтым материя свисала из-под этого блестящего и касалась пола золотой бахромой. Чувствуя уже не только спиной и затылком, но всем телом озноб, Тонио наклонился и коснулся кончиками пальцев гладкой поверхности. Она была холодной, но не была стеклянной. Он выпрямился и посмотрел на Гердта.
– Подержите, – музыкант протягивал ему подсвечник. Плохо сгибавшимися руками Тонио обхватил металл и сосредоточенно старался держать подсвечник прямо.
Гердт медленно сворачивал хрустящий прозрачный пластик. Под ним оказалась блестевшая золотым шитьем ткань, а под ней угадывались хрупкие очертания тела. Гердт склонился заботливо, как над колыбелью, и отогнул покрывало. Дивясь своему спокойствию, Тонио глядел на белое застывшее личико; знакомого изумительного рисунка темные брови резко выделялись на нем. Густые волнистые волосы, блестевшие инеем, казались не настоящими, кукольными. Прозрачная, акварельная голубизна проступала на висках, у переносицы, по контуру знакомого изумительного рисунка губ… но губы были бледными, чуть темнее щек. «Кукла, – подумал Тонио, – совершенная кукла, как те, что лежат у него в комнате». Тут он почувствовал, что Гердт пытается взять у него из рук подсвечник и даже услышал, что тот ему что-то говорит, но не понял что. Он отпустил подсвечник и его освободившиеся руки потянулись к горлу музыканта. – Скажите мне еще раз, что Бог любит нас! Скажите! – Он прокричал это не потому, что хотел кричать, а чтобы покрыть своим голосом хрип пытавшейся оттолкнуть его жертвы.
…Не хватало воздуха. Вместо него обжигающая, мешающая вдохнуть струя лилась ему в горло. «Душно», – хотел сказать он, но захлебнулся, закашлялся, попытался приподняться.
– Лежите, ради Бога лежите, – на его плечи настойчиво давили чьи-то руки.
– Гердт, – позвал он и открыл глаза.
– Да-да, ради Бога лежите.
– Зачем Вы это сделали?
– Вы думаете, я нарочно! Вы меня почти придушили, я нечаянно… Еще ви́ски?
Тонио оттолкнул его руку и сел. Резкая боль волной ударила в голову. Он поглядел на стоящий на полу подсвечник – горела только одна свеча.
– Как Вы? – спрашивал его Гердт.
– Я не о том спрашиваю, я о ней.
– Я ничего не сделал – Вы сумасшедший! Я только принес ее сюда.
– Себя Вы, разумеется, считаете нормальным. – Тонио коснулся мокрых волос, шапки на нем не было, левая половина головы нестерпимо болела.
– Я прикладывал снег, счастье еще, что на Вас была шапка.
На руке, которую Тонио поднес к глазам, была кровь, неяркая и не много. – Да, счастье, – пробормотал он.
– Она приняла снотворное, – сказал Гердт, – целую упаковку. Это было мое снотворное, она стащила его у меня в тот вечер. Я хватился в ту же ночь…
– Зачем Вы принесли ее сюда? – перебил Тонио. – Надо было позвать врача, сиделку. Или Вы испугались, что Вас в чем-то заподозрят? Вы сумасшедший, что… привели меня сюда.
– О Господи! Не то, совсем не то! Это было ее право – жить, умирать, и не их право – обсуждать, трогать, резать, ставить диагноз.
– Но она как будто не заботилась об этом.
– Еще как заботилась, что Вы о ней знаете! – Гердт поднялся и прикрыл бледное, замороженное тело Иветты Полянской блестящей материей, точно такой, какая прикрывала тряпичные тельца кукол в его комнате, на столе, под лампой.
Много лет спустя Тонио встретился с Гердтом. Он обрадовался этой встрече, но ночью ему снились куклы с застывшими фарфоровыми улыбками.
* * *
– Нам давно пора, – Антонио Альберти взглянул на часы.
– Да, – вставая, подтвердила Таня, – в этом здании без окон забываешь о времени.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































