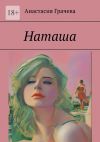Текст книги "Мир был на пороге конца"

Автор книги: Наина Куманяева
Жанр: Современные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Глава десятая
Прибытие в Берлин
Мне было совершенно ясно, какое значение имело это открытие. Не зная, что предпринять, я опустилась на койку, все еще держа в руках злополучное зеркало.
Поезд продолжал лететь вперед, без остановки проносясь мимо маленьких станций и с металлическим грохотом пробегая по мостам.
Тусклый луч света пробился сквозь облако и заиграл на каналах, прорезавших поля. И по мере того, как таял на полях предутренний туман, рассеивалась и дымка, заволакивавшая в моем сознании истину. Теперь опасность своего положения я видела так же отчетливо, как и пролетавшие мимо окна телеграфные столбы видела, но не в силах была чего-либо предпринять. Вне зависимости от того, кто успел побывать в моем купе ночью – был ли то мой сосед или кто-нибудь другой, – мне было ясно, чем было вызвано это посещение. Таинственный посетитель наверняка искал синий конверт, о котором рассказал майор Дроботов. Напрасно я предположила, что о существовании этого конверта знают только майор и я. Драматическое появление доктора Гланца, отставка Гагенбека, покорность Кауфманна, мое спешное увольнение и отъезд – все это свидетельствовало о том, какое значение имел этот человек, о котором мне рассказал майор.
Для меня по-прежнему неясным было, зачем доктор Гланц так неожиданно прибыл в Визенхольм. По-видимому, он очень спешил и приехал из Берлина. Неужели этот облеченный великой властью человек приехал в Визенхольм только ради того, чтобы выругать несчастного майора Гагенбека?
Это было невероятно. Мне было ясно, что приезд Гланца был вызван даже не самим фактом бегства Дроботова, а возложенным на последнего тайным поручением. Вот что было самое главное – не человек, а возложенная на него миссия. И если весть о бегстве майора заставила Гланца так быстро явиться в Визенхольм, то лишь потому, что ему было известно о существовании синего конверта.
О том, что Гланцу не было известно, где хранится этот конверт, свидетельствовал и стремительный его отъезд, а также предпринятый ночью обыск моего чемодана. Разумеется, майор не мог сохранить конверт при себе во время своего пребывания в замке, Гланц не мог предполагать это, но он мог думать, что у майора в Визенхольме оказались пособники и что он за время своего пребывания на свободе успел передать какие-либо сведения и указания относительно содержания и местонахождения конверта.
Я была единственной иностранкой в городке и находилась в момент бегства поблизости от замка. Поэтому прежде всего подозрение должно было пасть на меня. Этим были вызваны угрозы доктора Гланца и требование, чтобы я немедленно покинула Германию и возвратилась к себе на родину.
У меня была слабенькая надежда, что, несмотря на все, моя миссия все же окажется осуществимой. Певичка Эулалия была подругой майора Дроботова – ведь, кажется, говоря о ней, он назвал ее по имени, – по-видимому, он спрятал конверт у нее, потому что менее всего было вероятно, что Гланц станет искать его там. Наконец, была возможна и другая версия – майора застигли врасплох, и он вынужден был спрятать конверт в первое попавшееся ему укромное место. Так или иначе, Гланц не знал, где находится конверт.
Что-то подсказывало мне, что моя первая встреча с «колченогим» не была последней. Смутное предчувствие говорило мне, что мне предстоит снова повстречаться с ним. И с таким предчувствием я прибыла в Берлин.
Мой сосед по вагону стоял в коридоре и в своем слишком светлом пальто, зеленоватой шляпе с пером у тульи, в пенсне и с дешевым чемоданом в руках он походил на мелочного торговца. Не обращая на меня никакого внимания, он поспешил спрыгнуть с подножки и тут же затерялся в толпе.
Быть может, в том виноваты были мои опасения, но первое впечатление, произведенное на меня Берлином, было не из приятных. Вокзал, на который я прибыла, был расположен в рабочем квартала, и в этот ранний час – поезд прибыл в седьмом часу утра – вокзал был переполнен бледными, мрачными людьми, молчаливо спешившими к месту своей работы.
После мирной и приветливой обстановки Визенхольма все эти лица казались безжизненными и производили гнетущее впечатление.
Носильщик, которому я доверила мой чемодан, был приветлив, но шуцман у выхода с перрона, подавший мне металлическую марку, на мой недоуменный вопрос грубо крикнул:
– Вам нужен извозчик или нет?
В тот момент этот грубый шуцман в остроконечной каске, с большой кобурой у пояса показался мне олицетворением всего Берлина. Впоследствии я поняла, что Берлин, как и всякий иной большой город, обладает своим собственным своеобразным очарованием. Но в то утро, начав познавать этот город с безрадостной восточной его части, я была опечалена.
Строгая прусская дисциплина, так поразившая меня в маленьком Визенхольме, по-видимому, подчинила себе в такой же степени и этот город. Весь город был упорядочен и дисциплинирован, даже его очертания были словно вычерчены по линейке: широкие асфальтированные улицы, высокие, лишенные украшений фасады домов, даже людские массы – все было однообразно и точно создано по одному образцу.
Под впечатлением сделанного в поезде открытия я решила, что сейчас же по прибытии в Берлин я отправлюсь к своим друзьям Марвилям на Виктория-штрассе. Жан-Пьер Марвиль был секретарем французского посольства. Мы вместе с ним и Мари бежали в Берлин из Санкт-Петербурга, где он был полгода назад по каким-то своим делам и за время поездки, а главное в ходе последующей переписки я очень сдружилась с Мари. Решив выполнить возложенное на меня поручение, я пришла к выводу, что было бы неправильным впутывать эту прекрасную семью в историю, которая могла бы повлечь для Жан-Пьера служебные неприятности. Я не сомневалась в том, что он оказал бы мне поддержку, если бы считал, что со мной поступили незаконно. В общем Марвиль не питал никаких антипатий к немцам, и лишь прусский милитаризм не находил отклика в его душе. Поэтому я решила, что явлюсь к нему и расскажу о пережитом лишь после того, как выполню принятое на себя поручение. И тогда я проведу с ним и с моей дорогой подругой Мари, целый день в ожидании появления Руди.
Поэтому я и приказала почтенному седому кучеру, восседавшему на высоких козлах, чтобы он вез меня в гостиницу «Континенталь».
Внезапно я вспомнила о моем вагонном спутнике-шпионе и из моей памяти выплыла фамилия Кемпер.
Супруги Кауфманн, бывая в Берлине, всегда останавливались в пансионе «Кемпер». То был старомодный отель, в котором проживало по-преимуществу провинциальное прусское дворянство.
Фрау Кауфманн в гораздо большей степени питала склонность к отелям современного типа и не раз, смеясь, рассказывала мне о красной плюшевой мебели и седовласой прислуге Кемпера.
– Говорю вам, дитя мое, что в Америке деревья растут быстрее, чем движется этот дряхлый лифт.
Но целый ряд поколений фон Кауфманнов живал у Кемпера, и поэтому она покорилась воле своего мужа.
Я решила, что у Кемпера меня никто не потревожит, и к тому же этот отель не мог быть дорогим. Я собралась уже назвать кучеру адрес этого отеля, как мне пришло в голову, что эта проклятая система размещения седоков по фиакрам по маркам даст возможность доктору Гланцу выяснить, куда я поехала.
Поэтому я передумала и, коснувшись плеча моего возницы, предложила ему остановить первое встречное такси.
Кучер остановился и удивленно спросил:
– Зачем?
– Потому что я спешу, – сказала я.
– Разве мы недостаточно быстро едем?
– Нет, – ответила я.
И тогда он снял свой цилиндр и почесал затылок.
– Странно, – проворчал он, – пятнадцать лет я езжу со своей Герминой, – он указал кнутом на клячу, – и никто никогда не жаловался. Так вы хотите пересесть в такси?
Я положила конец возможным пререканиям, подозвав проезжавшее такси, и через пять минут была в отеле Кемпер, где меня почтительно проводили в мою комнату.
Пожилая старая дева с бледным лицом, на котором просвечивали синие жилки, приготовила мне в сырой ванной комнате ванну, – вода была горячая, полотенца чистые и после того, как я, накинув на себя простенькое полотняное платье, спустилась вниз в столовую и выпила чудесного кофе с хрустящим печеньем, стала смотреть на Берлин несколько иными глазами. Теперь «колченогий» утратил для меня значение, и я воспринимала его как эпизод, лишь на время нарушивший обычное течение моей жизни.
После завтрака я встретила в вестибюле директора пансиона. Он низко поклонился мне и предложил заполнить опросный лист для заявки. Его предложение удивило меня – я совершенно забыла об этой досадной формальности, обязательной для всех постояльцев берлинских отелей. Разумеется, заявка будет сейчас же препровождена в полицию и тем самым наведет моих преследователей на мой след. Я размышляла над тем, не следовало ли мне назваться вымышленным именем, но, к счастью, директор положил конец моим раздумьям, заявив:
– Это не спешно и если у вас в данный момент нет времени…
Я облегченно вздохнула и сказала, что заполню опросный лист перед отъездом. Тем временем я успею, избавившись от своих преследователей, выполнить свою миссию.
Я чувствовала, что первая игра была выиграна мною!
Тучи рассеялись, солнце ярко светило. Стояло ясное утро. В девять часов я покинула отель Кемпер, неся под мышкой завернутую в шелковую бумагу кашмирскую шаль. Выйдя из отеля, я огляделась по сторонам, но моего вагонного спутника нигде не было видно. Насколько я могла судить, за мною никто не следил, и я без провожатых направилась на Унтер ден Линден.
На многолюдной городской артерии я почувствовала себя свободнее. Меня забавляла ловкость, с которой мне удалось перехитрить своих преследователей. И улыбаясь самой себе, я подозвала близ отеля «Бристоль» шофера и велела ему везти меня на Гогенцоллерн-аллею,305.
Глава одиннадцатая
Аллея Гогенцоллернов, 305
Аллея Гогенцоллернов находится в новом квартале в западной части Берлина. За рядом деревьев стояла вереница домов, являвших собой поразительное смешение стилей. Внезапно аллея оборвалась, переходя в не застроенное поле.
Насколько я могла видеть, дом 305 был одним из последних домов, расположенных на этой аллее. Осторожности ради я отпустила автомобиль на некотором расстоянии от цели своего путешествия и направилась к дому лишь после того, как убедилась, что автомобиль уехал. Тишина улицы действовала на меня успокаивающим образом.
За исключением шофера, мывшего машину, и вестового, чистившего в саду мундир своего командира, поблизости не было ни души.
Красные черепичные крыши, облицованные деревом фасады домов напоминали Нюрнберг. Но тут же это впечатление рассеивалось другим впечатлением – домами, пышно отделанными мрамором, зеркалами, коврами и позолоченными украшениями.
На лифте я поднялась на третий этаж к квартире Эулалии Пикколомини. Дверь мне открыла миловидная блондинка в наколке и переднике, походившая на субретку из французской комедии. По-видимому, это была Эльжбета…
– Госпожи нет дома, – заявила она мне. – Что вам угодно?
Я не могла желать ничего лучшего, как чтобы хозяйки не оказалось дома, если бы только мне удалось проникнуть в гостиную!..
– Я хотела предложить госпоже Пикколомини шаль, – сказала я, – великолепную кашмирскую шаль… и я развернула ее.
– Боже, какая прекрасная шаль, – вырвалось у Эльжбеты. И, взяв у меня шаль, она задрапировалась ею и стала оглядывать себя со всех сторон в большом зеркале. Затем она вернула мне шаль и тяжело при этом вздохнула. Решив, что я скромная просительница, нуждающаяся в деньгах, она стала доверчивее и заявила мне:
– Барыня выехала гататься верхом. Она вернется не раньше чем через час. Может быть, вам угодно оставить шаль здесь?
– Нет, этого я не могу.
– Как вам угодно. Впрочем, все дела за барыню делаю я. Да будет вам это известно. И потому… – и она сделала вид, словно собирается запереть передо мною дверь.
Я знала, чего хотела Эльжбета. Фрида в свое время просветила меня относительно нравов немецкой прислуги, хорошо ею изученных во времена прежней ее службы в одном патрицианском семействе в Гамбурге.
Не успела Эльжбета закончить начатую фразу, как я сунула ей в руку полукрону.
– Если мне удастся получить за шаль желательную мне цену, то вы получите еще двадцать марок, – сказала я. – Но шаль я не могу вам оставить, потому что мне срочно нужны деньги. Может быть, я могу подождать вашу госпожу?
Камеристка, явно довольная, улыбаясь спрятала монету и объявила, словно в свое оправдание:
– Что делать? Надо же жить! От барыни я получаю небольшое жалованье, да и то она часто забывает о том, что мне следует его платить. Так что, не будь у барыни друзей… И служба к тому же не из легких. Ну и темперамент же у нее! Вы ведь знаете, какой характер у этих артисток!
И снова вздохнув, она добавила:
– Боже, если бы я была так красива, как она! Или же богата! Это безразлично! Волю своему темпераменту можно давать только в том случае, когда обладаешь красотой или богатством! – И впустив меня в квартиру, она приложила палец к губам: – Тише!
Бесшумно заперев за мной дверь, она провела меня через переднюю, в которой был разостлан пушистый зеленый ковер, заглушавший каждое движение, к двери. Верхняя половина двери была стеклянной и занавешена зеленой тканью. Осторожность Эльжбеты сбила меня с толку. Я решила, что Пикколомини еще спала и что заявление прислуги, что артистка выехала верхом, имело лишь целью избавиться от посетителей.
Девушка отворила дверь, и я оказалась в большой просторной комнате, погруженной в полумрак. Окна были прикрыты жалюзи и занавешены шелковыми зелеными гардинами. Проникавшие в комнату солнечные лучи ложились на позолоченную мебель. Внимание мое привлекли висевшие над концертным роялем лавровые венки.
Воздух был наполнен легким ароматом. Внезапно сознание мое прорезала мысль, что я нахожусь в гостиной Эулалии Пикколомини. И в самом деле! – в глубине этой гостиной в углу, я увидела граммофон, а рядом с ним шкафчик красного дерева – шкафчик для граммофонных пластинок.
Я была у цели!
Эльжбета подошла к окнам, отдернула гардины и распахнула ставни, – все это она проделала бесшумно и ловко. В комнату хлынул свет, и я оглянулась по сторонам. По-видимому, любимым цветом певицы был зеленый. Стены были выдержаны в зеленых тонах, оконные рамы и двери были выкрашены в травяной зеленый цвет и, наконец, зеленого же цвета был ковер, покрывавший всю комнату.
На широком диване лежала груда зеленых подушек, вышитых оранжевым и золотым, на лампах красовались нежно-зеленые китайские абажуры. Должно быть, по вечерам, при искусственном освещении, эта комната приобретала своеобразную и причудливую прелесть. Но днем, при солнечном свете, вся эта экзотическая роскошь казалась декоративно-бутафорской. Все это было театрально, так же, как были театральны лиловые орхидеи в вазе.
– Так, – сказала камеристка, – подождите здесь. И не вздумайте шуметь или прикасаться к чему-либо. Поняли?
И еще раз приложив палец к губам, она поспешила удалиться, бесшумно затворив за собою дверь.
Настало время действовать быстро и решительно. Сердце мое сильно билось от волнения, и я решила ничего не предпринимать, несмотря на представившуюся мне возможность. Ведь камеристка могла в любую минуту возвратиться в комнату. Взглянув на часы, я решила выждать две минуты. Тем временем я могла еще раз обдумать создавшееся положение.
На противоположной от граммофона стене имелась дверь, и она являлась источником моего беспокойства. Дверь вела в глубь квартиры; возможно, что она вела непосредственно в спальню артистки. Я подкралась к двери и прислушалась. Тишина. Взгляд мой упал не серебряную дверную ручку… Соблазн прикоснуться к ней и нажать на нее был силен, но опасность была велика, и я преодолела искушение. Я снова взглянула на часы – две минуты прошли. Собравшись с духом, я направилась к граммофону.
Шкафчик для пластинок ничем не отличался от обычных шкафчиков этого рода. Я опустилась перед ним на колени и подняла беспорядочно сложенные пластинки. Освободив среднее отделение, я поспешно заглянула в него. Ничего! С тем же результатом я осмотрела следующее отделение.
Оставалось осмотреть содержимое третьего и последнего отделения, в котором, как и в первых двух, были в беспорядке нагромождены запыленные пластинки.
Освобождая это отделение, я втайне надеялась, что, может быть, конверта там не будет, и что тем самым моя миссия окажется излишней и что майору удалось опередить меня…
В то мгновение, когда я собиралась положить пластинки на ковер, к моему величайшему испугу в соседней комнате раздался легкий шорох. Мой слух уловил легкие шаги, шарканье туфель. Я поняла, что предвещал мне этот шум – темпераментная Эулалия встала и могла ежеминутно помешать мне.
Я зашла так далеко, что отступать больше не было возможности – начатое дело следовало довести до конца. Поэтому я положила пластинки на ковер и засунула руку в шкафчик. В то мгновение, когда я обшаривала шкафчик, в соседней комнате продолжали звучать легкие шаги – шаги приближались к двери.
Мои пальцы наткнулись на что-то, и под ними зашуршала бумага. Я поспешила вытащить из шкафчика синий конверт.
Единственное, что я успела разглядеть, сводилось к тому, что конверт не был запечатан и что на нем не было написано адреса. Я спрятала конверт за вырез платья, засунула пластинки в шкафчик и успела отскочить к дивану, на который я положила свои вещи. В то же мгновение дверь дрогнула. Увы, я слишком поздно обратила внимание на то, что не закрыла дверь шкафа.
Диван стоял углом между двумя окнами. Я взяла сверток и рассчитала, что мне удастся встать между дверью и граммофоном таким образом, что я заслоню собою раскрытые дверцы шкафа. Но прежде чем я успела осуществить свое намерение, дверь отворилась и я застыла на месте от изумления.
Вместо женщины, которую я ожидала увидеть на пороге, передо мной очутился заспанный молодой человек в халате.
Глава двенадцатая
Дива
Молодой человек застыл на пороге и разглядывал меня своими заплывшими глазками, походившими на две изюминки в тесте. Он только что проснулся, волосы его были всклокочены и из-под зеленого халата выглядывала лиловая в желтых цветочках пижама. На ногах у него были турецкие сафьяновые туфли.
Он громко застонал и поднес к вискам руки, причем я с отвращением заметила, что на правой руке он носил золотую браслетку.
– Боже, – простонал он, – моя голова!
Войдя в гостиную, он направился к одному из маленьких столиков и, налив себе стакан минеральной воды, выпил его залпом. Затем, закурив сигарету, он обратился ко мне с вопросом:
– Что вы здесь делаете? – и тут же закрыл глаза, словно забыл о своем вопросе.
Две вещи вызывали во мне всегда отвращение: жирные мужчины и монокли. Субъект в халате был мне неприятен по обоим признакам одновременно. Он был толст – хотя ему было не больше двадцати пяти лет – и лоснился от жира. Несмотря на свою полноту, он не был неуклюж и передвигался с грацией, которая сочеталась в нем с полнейшей непринужденностью. Я продолжала хранить молчание и тогда он снова открыл глаза и, скорчив гримасу, выронил из глаза монокль: лицо его было не особенно осмысленным и мне бросились в глаза пухлые, чувственные губы, над которыми виднелись светлые усики и неправильной формы вздернутый нос.
По-видимому, это был один из «друзей», о которых упоминала Эльжбета.
– Где мадемуазель? – спросил молодой человек.
– Поехала кататься верхом, – повторила я то, что сказала мне камеристка.
– Так! – и он опустился на диван.
Взгляд его упал на предательские дверцы шкафа.
– Кто это вздумал заводить граммофон?
Я направилась к шкафчику и закрыла дверцы.
– Я хотела лишь взглянуть на пластинки.
Он лукаво покачал головой.
– Никогда не вздумайте в этом доме заводить граммофон. Я подарил его мадемуазель год назад, но за всё это время она ни разу не заводила его. Она ненавидит «консервированную музыку», – так она называет ее… А то, что ей не по вкусу, она терпеть не желает… Иногда даже я ей не по вкусу… – При этом он широко улыбнулся и спросил: – Вы ведь иностранка?
Когда он улыбался, у него на лице образовывалось множество мелких жировых складочек.
Замечание юноши застигло меня врасплох, и я не знала, что мне ответить ему. Поэтому я невнятно пролепетала:
– Почему вы так решили?
– Потому что наши женщины все высокого роста и приятных объемов, – сказал он, сделав в воздухе несколько округлых движений рукой.
– Вы худощавы, как англичанка. Но нос курносый, вы шатенка, но челюсть у вас не лошадиная… Да, несомненно, вы – полька. – И, не дав мне возможности ответить ему, он воскликнул: – Варшава изумительный город! – Затем, переходя на польский язык, он продолжал: – Я там бывал не раз. Я знаю ваше Краковское предместье, Савой. Я катался на Уяздовских аллеях. Там шикарно – изумительные лошади и изумительные женщины. Польские девушки очень милы. Я имел колоссальный успех у польских фройляйн, они находили меня очень привлекательным. Разве вы не находите, что я прелестен?
И он мило улыбнулся. Если бы я не была так взволнована происходившим, то я бы рассмеялась ему в лицо. Но синий конверт продолжал занимать все мои помыслы. При иных обстоятельствах я бы сказала ему, что он в своем пестром одеянии походил на дрессированного поросенка, но сейчас я предпочла дать ему ожидаемый им ответ.
Он, не утрачивая серьезности, одобрительно кивнул головой.
– Да, все женщины говорят мне это. Они находят, что я неотразим – как это сказать по-польски.
Я без особого энтузиазма перевела ему это слово.
– Порой мне это даже в тягость, – продолжал он, – но что же поделать. Эулалия не раз сердилась на меня… – и он бережно пригладил волосы.
Он не спускал с меня своих мутных бесцветных глаз, и взгляд его порождал во мне беспокойство.
– К сожалению, мне пора, – сказала я, – я попрошу вас передать мадемуазель Пикколомини, что я приду к ней в другой раз.
– Зачем вы так спешите? – возразил он. – Чего вы от нее хотите? Вы пришли ей спеть?
– Нет, я принесла ей показать шаль. Быть может, она купила бы ее.
Я приблизилась к дивану, чтобы взять свои вещи и перчатки. Молодой человек схватил меня за руку.
– Шаль? Она при вас? – и он принудил меня опуститься рядом с ним на диван. – Накиньте ее, и я вам скажу свое мнение о ней.
Я выполнила его желание.
– Восхитительно, – сказал он. – Вы похожи на Кармен.
Я сняла с себя шаль и, свернув ее, заявила:
– Но теперь мне на самом деле пора.
– И вы оставите меня одного? Неужели вы будете так жестоки? У меня отчаянно болит голова. Вчера я очень сильно выпил, и вы должны побыть со мною. Скоро придет мадемуазель…
– Но мне пора, – и я попыталась встать.
Но он крепко схватил меня за руку и не выпускал. Глаза его разгорелись, а ноздри жадно раздувались.
– Вы не хотите быть повнимательнее ко мне? – хрипло спросил он. – Подойдите сюда, поцелуйте меня.
Я вырвалась из его объятий и вскочила. Тщетно я пыталась не нарушать тишины. Он опередил меня и, подбежав к двери, повернул ключ и спрятал его в карман.
– Ах, какой темперамент! – воскликнул он. – Вот в таком виде вы мне нравитесь. Вы прелестны.
И он направился ко мне, скривившись в отвратительной чувственной улыбке.
– Прошу вас, отоприте дверь и позвольте мне уйти, – взмолилась я.
Он расхохотался лишь в ответ и схватил меня. Я успела уклониться от его объятий, но он загнал меня в угол, в котором находился диван.
Внезапно он бросился ко мне. Я не решалась звать на помощь и ограничилась тем, что изо всей силы ударила обеими руками в противное, рыхлое, улыбающееся лицо. Затем он схватил меня… Но в то же время за дверью послышались поспешные шаги, и в комнату вбежала камеристка.
– Ваше высочество! – воскликнула она, – Там фрау!..
Я удивленно взглянула на полного юношу, на лице которого отпечатался неподдельный страх. Она назвала его «высочеством» – неужели он принадлежал к императорскому дому?
Но прежде чем его высочество успело прийти в себя, дверь отворилась и на пороге показалась стройная женщина в амазонке. Мне было достаточно одного взгляда на нее, чтобы понять, почему Флора отдавала такое явное предпочтение зеленому цвету. Эта женщина была наиболее совершенным завершением типа золотисто-рыжей женщины. Волосы ее горели как у женщин на картинах Тициана, у нее была матовая, молочно-белая кожа, зеленые глаза и стройная белая фигура.
Ее появление принесло мне такое облегчение, что я, несмотря на все свои страхи, сразу постигла весь комизм создавшегося положения. В самом деле, мы оба тяжело дышали, словно разгоряченные борцы, шляпа у меня съехала на бок, волосы растрепались. Мой толстый противник в своем ярком халате и с надутым лицом обиженного ребенка был крайне смешон. К своему вящему удовольствию я заметила, что на лице его остались следы моих ударов. И, наконец, на полу между нами лежала упавшая во время борьбы шаль.
Оперная дива побелела от злости.
– Вот как! – воскликнула она сердито, – даже сюда ты приводишь своих баб? Поехать верхом со мною ты не смог, ты устал, тебе нужно было поспать. А едва я успела уйти, как ты… Что вам здесь нужно?
Затем она резко обратилась к Эльжбете, продолжавшей стоять с открытым ртом.
– Я хотела объяснить, – пролепетала она и, указывая на меня, она добавила: – Это барышня принесла для продажи шаль… – и она подняла шаль с пола. – Я провела ее сюда, чтобы она обождала здесь. Его высочество ничего не знал о ней…
Пикколомини бросила на меня уничтожающий взгляд:
– Это правда?
Теперь настала очередь принца говорить:
– Отошли из комнаты Эльжбету, и тогда я объясню тебе, что произошло, – сказал он.
– Ступайте отсюда, – бросила она камеристке, не удостоив ее и взглядом и не спуская глаз с толстяка. Эльжбета поспешила передать мне шаль и убежала.
Принц бросил на меня выразительный взгляд и коснулся руки Пикколомини:
– Неужто моя маленькая миленькая Фло-Фло не выслушает терпеливо своего Карльхена? Карльхен расскажет ей о том, как он хотел пошутить…
Певица сердито стряхнула руку принца.
– Опять какая-нибудь ложь! – воскликнула она и топнула ногой.
Тут толстяк вспомнил о своем достоинстве и заявил:
– Эулалия, не забывайте о том, что мы с вами здесь не одни!
Певица сорвала шляпу с себя и вместе с хлыстом бросила ее на диван. Ее великолепные волосы были просто уложены жгутом.
– Я готова выслушать вас, ваше высочество, – заметила она холодно.
Он погладил ее плечо.
– Не сердись, пожалуйста, на своего Карльхена, – и, бросив на меня умоляющий взгляд, он продолжал: – Ведь то была всего лишь шутка. Я хотел возбудить в тебе ревность. Я слышал твои шаги в передней и поспешил запереть дверь и… – он тщетно пытался подыскать слова, – мы… мы… – и ища во мне поддержки он добавил: – Мы это вместе выдумали. Она намеренно растрепала себе волосы. Неправда ли это так? – и его заплывшие глазки умоляюще уставились на меня: – Ну-с?
Но принцу нечего было надеяться на то, что он встретит во мне поддержку.
– Мне известно лишь, что этот господин запер дверь и вздумал поцеловать меня. А теперь, с вашего позволения, я уйду.
И, собрав свои вещи, я направилась к зеркалу, чтобы поправить свою шляпу.
Глядя в зеркало, я уловила злобный взгляд принца, направленный на меня.
– Вот как! – прошипела певица. – Впрочем, мне следовало знать, что ты не даешь прохода ни одной женщине. И, расхаживая по комнате, она добавила: – Но на этот раз в моем собственном доме, на глазах у моей камеристки…
И, расплакавшись от злости, она бессвязно начала повторять:
– Ты… ты… в твоем положении… ты никогда не думаешь обо мне… оскорбляешь меня… Делаешь посмешищем!
Взглянув на меня с нескрываемой яростью, принц прорычал мне:
– Да ступайте же!
Лицо его приобрело мстительное выражение, и он поспешил распахнуть передо мною дверь в переднюю. В то мгновение, когда я собралась переступить порог, вбежала бледная как полотно Эльжбета и, приложив руку к груди, прошептала:
– Доктор Гланц!
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?