Текст книги "То ли быль, то ли небыль"
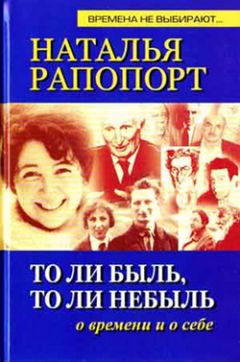
Автор книги: Наталья Рапопорт
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
Надо было искать работу, и замечательный художник Гриша Брускин посоветовал мне пойти в «Самовар» и попробоваться там. Не называя Каплану имени Брускина, я зашел «с улицы». Роман Каплан меня послушал, я ему понравился. Он дал мне в «Самоваре» сначала один день, теперь их четыре. Я, конечно, в ресторанах раньше никогда не играл, но мне совсем не пришлось себя ломать. В «Самоваре» нередко возникает такая атмосфера, как в моей петербургской комнате, когда у меня собирались друзья и мы пели ночи напролёт.
Еще мне очень помог приехавший с театром на гастроли замечательный бас из Литвы Владимир Прудников; он рассказал, что в Нью-Йорке живёт его учитель Генрих Годович Перельштейн, Гарри, и дал мне его телефон. Для литовской культуры имя Перельштейна – человека трагической судьбы, ярко талантливого и редкого по доброте и отзывчивости – легендарно, почти свято. Несколько лет назад его не стало, и это тяжелейшая утрата для меня. А тогда я поехал к Гарри, он послушал меня минуты три и принялся звонить друзьям. Они организовали мне концерты в нескольких домах, в результате у меня появились ученики и небольшие деньги. Какое-то время я ещё подрабатывал концертмейстером, в том числе в Американском балетном театре и в балетной труппе имени Джоффри, но когда понял, что для жизни мне достаточно учеников и «Самовара», оставил балет.
…Как-то, оказавшись с Сашей в одной компании, Арик услышал его игру. Он был изумлён. Ирка тогда очень болела, но от Сашиной игры совершенно воспряла, и они всю ночь упоённо пели вместе. Арик тогда сказал ему: «Я буду тебя записывать – ты только наведывайся к нам и пой с Иркой! Это для неё важнее всех лекарств».
– Когда Арик записал меня в первый раз и я прослушал запись, то пришёл в ужас – как далеко я ушёл от профессионализма в многолетней борьбе за выживание… Я возобновил серьезные занятия на рояле. Естественно, мне необходимо было «постороннее ухо», музыкант, которому бы я доверял. Им оказался превосходный фортепьянный педагог Темури Ахобадзе. Но если я возродился как пианист – я навсегда благодарен за это Арику, это его заслуга.
Судьбоносная встреча с Ариком стала поворотным моментом в Сашиной жизни. У него появился первый профессионально записанный компактный диск.
«Когда я прослушал первый компактный диск Избицера – фортепьянные транскрипции Листа, я ахнул – я понял, что среди нас ходит ещё мало кем узнанный гений, правда, признанный многими великими профессионалами, включая Ростроповича, и, в конце концов, обречённый на мировой успех… Его первый диск – шедевр исполнительского мастерства, ненавязчивого, но проникающего в самые глубины сердца слушателя…» Это написал Евтушенко.
За первым диском последовал второй – сонаты Бетховена. Я была в Нью-Йорке, когда Арик их записывал, и наблюдала мучительную борьбу двух высоких профессионалов. Они чуть не расстались. Но вот результат: «Я слушал генеральную репетицию в квартире Избицера… Временами Бетховен в его исполнении чуть ли не акварелен… Сила исполнения была такова, что стены раздвинулись, как будто мы оказались в Московской консерватории или в Линкольн центре…
Я раньше мучался тем, что дарить своим друзьям. Я уже дарю и буду дарить записи Избицера. Я верю в звезду этого пианиста», – это опять Евтушенко.
Благодаря блестящим записям Арика у Саши появились концерты в Америке и Европе. Он, наконец, играет с большими оркестрами в больших залах, но не забывает и «Самовар».
С другой стороны, благодаря Саше у Арика открылось второе дыхание в его настоящей неугасающей страсти – звукозаписи.
И благодаря им обоим я не чувствую себя такой одинокой в американской Юте, в несусветной дали от всего, что мне дорого. Работая, я вставляю в компьютерный дисковод Сашин диск и ловлю в звуках его музыки дыхание родных мне людей – а что в мире может быть важнее этого?
Евтушенко любит оперетты, у него особая страсть к Кальману. Как-то я записал для него целую кассету из оперетт Кальмана.
Михаил Барышников никогда ничего особенного играть не просит – просто ему нравится всё, что я играю.
Я счастлив, если своей музыкой я провоцирую посетителей ко мне присоединиться. Душа запела – и Хворостовский встал и запел. Башмет часто ходит в ресторан, и мы с ним играем в четыре руки. Или с Гергиевым. Великая Чечилия Бартоли как-то пела под мой аккомпанемент. Все были счастливы – и я первый.
Постскриптум
В одном из своих интервью Саша рассказал о музыкальных вкусах владельцев и посетителей «Русского самовара». Мне показалось это достойным более широкой огласки. С Сашиного разрешения я делюсь с вами этой информацией.
– Бродский любил, когда я играл классику, и ценил её больше всего. Но он также просил меня сыграть «Прощание славянки» и «Что стоишь, качаясь…» – это были его любимые песни.
Анатолий Рыбаков предпочитал романсы. Ему нравились романсы Вертинского. За неделю до смерти он зашёл в ресторан, сказав: «Я зашёл специально послушать вас…»
Жерар Депардье просил меня несколько раз исполнить «Выхожу один я на дорогу…» (Вспоминая о том вечере, Саша рассказал мне, что в середине ужина Депардье внезапно, выйдя из-за столика, превосходно спел и станцевал номер из «Скрипача на крыше» – песню Тевье-молочника «Если бы я был богачом»).
Марсель Марсо, естественно, просил играть французские ностальгические песни, репертуар Ива Монтана.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

1989 год. Папе 91 год. Его книга «На рубеже двух эпох – дело врачей пятьдесят третьего года», написанная в 1972 году, только что опубликована издательством «Книга». Папа счастлив. Всего несколько лет назад – кому бы могло прийти в голову, что такая книга может быть опубликована в СССР?! Эта публикация вызвала настоящий шквал. Журналисты, кинодокументалисты, телевизионщики со всего света не вылезали из нашего дома.

Папа с родителями, старшей сестрой Верой и братом Зоей (папа в первом ряду, лопоухий, зажатый между родителями). 1903 или 1904 год, Симферополь. Деда в начале двадцатых годов зарезали в Феодосии бандиты, бабушку и папиного брата Зою в начале Второй мировой войны убили в Симферополе фашисты. Тетя Вера и папа дожили до глубокой старости.

Мама в юности (стоит во втором ряду) с сестрой Инной (сидит справа), братом Гришей и их приемной матерью тетей Соней (в центре). Витебск, 1910-е гг.
Мама родилась в еврейском местечке Ружаны, недалеко от Витебска. Ее мать умерла в молодости, оставив четверых детей. Их забрала к себе в Витебск родственница, тетя Соня Яхнина: своих детей у неё не было. Тетя Соня и ее муж дядя Кизя принадлежали к витебской аристократии; приемным детям они дали блестящее медицинское образование. Мама училась в Москве и стала крупным физиологом, тетя Инна – популярным в Ленинграде зубным врачом, дядя Гриша и дядя Руня (на фотографии его нет) были известными ленинградскими хирургами.
Тетя Инна
В каждой семье есть какая-нибудь семейная тайна. В нашей семье такой тайной был возраст тети Инны. К этому вопросу тётя Инна относилась очень болезненно. Считалось, что тетя Инна мамина младшая сестра, и мама всячески поддерживала эту версию. Фотография, на которой гимназистка-мама стоит над грудастой созревшей Инной, выдает истинное положение вещей. Мама эту фотографию никогда никому не показывала – я нашла ее уже после маминой смерти.
Тетя Инна жила в Ленинграде одна, замужем никогда не была, мама ее жалела и нежно любила. Мама вообще была очень привязана к своим родным.
Каждый год тетя Инна приезжала на все лето к нам на дачу. Она страдала сердечными приступами, и несколько раз за лето приходилось вызывать к ней «Скорую помощь». Врач «Скорой» первым делом интересовался, сколько Инне лет. Удивляя не впервые приезжавшего к ней врача, тётя Инна с каждым годом убавляла свой прошлогодний возраст на год, а то и на два. «Если дело пойдет таким темпом, – волновался папа, – скоро придется покупать Инне пеленки и коляску!»
Я долгое время считала тетю Инну старой девой, пока вдруг не выяснилось, что у нее есть поклонник дядя Боря, да какой! – коммерческий директор гостиницы «Европейская» в Ленинграде! К разнообразным праздникам он дарил тете Инне необыкновенно красивые коробки шоколада. Шоколад тетя Инна очень любила и съедала сама в Ленинграде, а коробки, действительно редкостные, привозила нам на дачу показать и потом увозила обратно: она их коллекционировала. Я в детстве находила такой оборот дел весьма бестактным, а тети Иннин приезд на дачу – катастрофой, но мама всегда ее очень ждала и к приезду тщательно готовилась.
Тетя Инна была болезненно брезглива – непонятно, как это сочеталось с ее профессией дантиста. Никто даже и подумать не смел пройти рядом с ее кроватью. Папа однажды забылся и присел на ее постель. Разразился страшный скандал. «Ничего, Инна, ничего, – успокаивал ее папа, – в самом крайнем случае сделаем аборт!»
Может быть, из-за своей брезгливости тетя Инна терпеть не могла животных. Однажды папа принес на ладошке крохотный шелковый черный комочек карликого пуделя, нашу будущую Топси; она была еще слепая и такая маленькая, что нельзя было разобрать, где у нее головка, где хвостик. «Яша, – сказала Инна строго, – немедленно посадите собаку на цепь!»
Перед каждой едой Инна регулярно спрашивала папу: «Яша, вы вымыли руки?» Я росла, кончила школу и университет, вышла замуж, родила Вику, а вечный вопрос «Яша, вы вымыли руки?» продолжал три раза в день звучать у нас на даче и означал связь времен.
Иннины «крылатые выражения» оставались в наших семейных анналах, мы и сейчас ими пользуемся по разным подходящим случаям.
Но вот о чем я думаю: как смогла тетя Инна в блокадном Ленинграде, в городе, где не было ни воды, ни тепла, ни света, а только бомбы и трупы, всю войну преданно лечить гнившие и выпадавшие зубы изнуренным ленинградцам?

Папа и мама – молодожены. 1924 год.
Семейная легенда рассказывает, что папа женился на маме «по ошибке». Было это в двадцать четвертом году. Папа за год до этого окончил Московский медицинский университет и был уже молодым профессором, а мама – выпускницей. Приятели обещали познакомить папу на выпускном вечере с красивой девушкой по имени Бэтти Эпштейн. Папа увидел танцующую маму, спросил у соседа, кто это, ему ответили – Эпштейн. Папа сразу влюбился. Приятели заметили его ошибку: «Что ты делаешь, это же не та Эпштейн! Это – Соня, а тебе нужна Бетти!», – но было поздно. Папа категорически заявил, что это именно та Эпштейн, и вскоре они с мамой поженились. Бетти Эпштейн потом бывала у нас в гостях и всегда сетовала на папину «ошибку».
Первые совместные годы мамы и папы были очень трудными: они не имели своего угла и скитались по коммуналкам. Плюс к этому в приданое к маме папа приобрел старушку Розальвовну.
Розальвовна была когда-то директором маминой гимназии в Витебске; до революции она много раз бывала в Париже и в гимназии преподавала французский язык. В хаосе Октябрьского переворота она совершенно потеряла голову и пыталась покончить с собой. Моя мама была идеалом доброты и сочувствия. Она взяла Розальвовну к себе, и остаток жизни Розальвовна провела в нашей семье, долгое время отделенная только ширмой от кровати моих молодых родителей. Сколько я ее помню, она всегда кряхтела, стонала и жаловалась, что умирает, но папа смеялся, что она забыла, как это делается. Папа подшучивал над ней, тяготился ее обществом, но терпел и не роптал. Умерла Розальвовна глубокой старушкой в конце сороковых годов.
Когда я родилась, Розальвовна говорила со мной только по-французски, и я в детстве одинаково хорошо владела обоими языками. После смерти Розальвовны, к сожалению, стремительно все забыла.
Кроме Розальвовны, с нами часто жила тетя Анна Яхнина, мамина двоюродная тетя. Я ее очень любила. В молодости тетя Анна примкнула к эсерам. Она была врач-эпидемиолог, работала на сыпнотифозных и холерных эпидемиях, постоянно моталась между Поволжьем и Средней Азией и каким-то чудом уцелела в тридцать седьмом и позже. За заслуги по борьбе с эпидемиями тётя Анна похоронена на Новодевичьем кладбище.

Папа – молодой, но уже известный ученый.

Мама – молодая сотрудница Лины Соломоновны Штерн.

Не имея своего угла, мама с папой позволили себе завести мою сестру Лялю только через четыре года после свадьбы.

Папа мечтал о сыне, и через десять лет после Лялиного появления на свет мои родители повторили попытку, но родилась я… Папа был огорчён, но быстро смирился с этой неудачей.

Я с сестрой Лялей перед войной. Папа был в это время проректором 2-го медицинского института. Когда началась война, он организовал эвакуацию института из Москвы и ушел добровольцем на фронт, а мы с мамой уехали в Омск. Уехали огромным табором: моя сестра Ляля, я, Розальвов-на, тетя Анна Яхнина и куча моих ленинградских кузенов и кузин по маминой линии, с матерями (их отцы – мамины братья тоже ушли добровольцами на фронт, нахально нарушая тем самым статистику общества «Память», согласно которой евреи отсиживались в тылу).
В Свердловске у Вонсовских. Бадика
По дороге в Омск весь этот табор свалился в Свердловске на голову дальним родственникам по папиной линии Шубиным-Вонсовским. Сергей Васильевич Вонсовский (все дети, включая меня, почему-то звали его Бадика) был крупным физиком. В тридцать седьмом году его ближайшего друга, физика Шубина, арестовали, оставив сиротами трех маленьких детей и тяжело больную жену. Сергей Васильевич на ней женился и вырастил шубинских детей. Я хорошо помню его по нечастым встречам в Москве. Бадика стал впоследствии президентом Уральского филиала Академии наук СССР, и это редкий, быть может, даже уникальный случай, когда при советской власти столь высокий пост занимал такой замечательный человек.
…А тогда, в сорок втором, мы всем табором какое-то время жили у него в Свердловске – разумеется, без прописки. По квартирам часто ходила милиция проверять, не живут ли в квартире посторонние. Пускать посторонних было категорически запрещено, но все равно почти у всех в Свердловске жили бежавшие из Москвы или с оккупированных территорий родственники и друзья. Днём взрослые нелегалы куда-то уходили, а меня оставляли. Я все это хорошо запомнила, потому что, когда приходила милиция, меня прятали в уборной, не зажигая света, чтобы инспектор не подумал, что там кто-то есть. Когда мама бывала дома, прятали с мамой, а чаще совсем одну. В уборной было холодно, сыро и страшно, к тому же пахло так, как только и может пахнуть единственный туалет в густонаселенной квартире. Милицейская форма потом долго ассоциировалась у меня с этим запахом.
…Жить без прописки было опасно и для хозяев, и для нас, и мы уехали в Омск.
В Омске
В Омске было очень голодно, и семьям фронтовиков выделили участки то ли за Омкой, то ли за Иртышом – там сажали картошку. Мама с моей сестрой Лялей время от времени ездили ее окучивать. Однажды поздней осенью мама вернулась из этой поездки, закрывая лицо большим платком. Я заглянула под платок и заорала от ужаса: лица у мамы не было, вместо него с обнаженных костей свисали клочья окровавленной кожи и мяса: машина, на которой мама ехала, перевернулась на замерзшей реке, мама выпала и проехала лицом по шершавому, как наждак, льду. Ляля отвела маму в госпиталь, там ей наложили много швов. А картошку нашу, нашу надежду, над которой мама и Ляля трудились все лето, кто-то выкопал…
… Я часто ходила в мамин госпиталь читать раненым стихи Твардовского. Раненые меня очень любили – я олицетворяла для них оставленных дома детей. Один раненый написал мне замечательное письмо, а в конверт насыпал сахарный песок – по тем временам неслыханную роскошь. Мама сказала, что письмо надо сохранить, раненого поблагодарить, а сахар вернуть – ему он нужнее. Мне было четыре года. Я предложила: «Давай лучше так: раненого поблагодарим, письмо вернем, а сахар съедим». Мама не разрешила, и я отнесла сахар обратно, но раненый не взял.
Однажды папа прислал нам с фронта с каким-то раненым две пачки печенья. Мама растёрла печенье в порошок и каждый вечер перед сном давала мне одну чайную ложку. Я засыпала и просыпалась счастливая – я знала, что вечером меня ждёт райское угощение…
…Набитая соломой кукла, которую вы видите на фотографии, была единственной куклой в моей жизни. Штопанная – перештопанная мамой, она прошла через все мое детство.

Папа-подполковник. 1942 год. Папа был Главным патологоанатомом Карельского и Северного фронтов, был награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны. В конце 1944 года был контужен и незадолго до окончания войны вернулся в Москву. Папа своими орденами очень дорожил – он, как и многие, платил за них кровью, а сейчас их можно купить за гроши у фарцовщиков на любой барахолке мира…

Этот редчайший снимок – вскрытие погибшего бойца прямо на поле боя – иллюстрация к разделу медицины «Фронтовая патология». Папа (рядом с медсестрой, в центре) очень дорожил этим снимком и хотел отдать его в Музей истории медицины.

Лина Штерн. На обороте фотографии надпись: «На добрую память моей дорогой Софии Яковлевне. Лина Штерн. 8 апреля 1958 года». Снимок сделан за тридцать лет до этого, в Швейцарии.
Лина считала себя дурнушкой, замуж никогда не выходила и целиком отдала себя науке, достигнув в ней необычайных высот. На самом деле, судя по этой фотографии, Лина была вполне привлекательна, при этом дьявольски умна и обладала великолепным чувством юмора. В Оксфорде в нее был влюблен один английский профессор (впоследствии он стал личным врачом Эйнштейна и написал о нем воспоминания). Лина была с ним помолвлена, но расторгла помолвку, потому что жених настаивал, чтобы после свадьбы она прекратила работу и посвятила себя семье.
Расторгнув помолвку, Лина уехала в Советский Союз, чтобы участвовать в создании самого справедливого в мире общества. «Куда ты едешь? – говорили ей друзья. – Тебя там ограбят, посадят в тюрьму и сошлют в Сибирь». Друзья ошиблись лишь в деталях. Первые годы в Советском Союзе Лина очень успешно работала и стала первой советской женщиной-академиком; Сталин даже презентовал ей дачу в поселке академиков в Мозжинке, но в сорок восьмом году Лину арестовали как члена Еврейского антифашистского комитета, продержали какое-то время на Лубянке и сослали в Казахстан. Ей было тогда семьдесят лет. По каким-то соображениям Лина не была расстреляна 12 августа 1952 года вместе с другими членами Еврейского антифашистского комитета – Сталин лично вычеркнул ее имя из списка осужденных на казнь.

На этом снимке – Лина с моими родителями у нас в квартире в день ее возвращения из ссылки третьего июня 1953 года, ровно через два месяца после папиного освобождения из тюрьмы. Линина квартира была опечатана все пять лет ее отсутствия; у нее были там ковры и меховые шубы, и когда сняли печати, оказалось, что в квартиру невозможно войти из-за стоящих там плотной завесой туч моли. Пока Линину квартиру чистили, она жила у нас. В эти дни она много рассказывала моим родителям о своем пребывании на Лубянке; она так и не поняла, в чем ее обвиняли. Следователь ругал ее матерно. Лина говорила ему: «Вы хотите как-то оскорбить мою маму, но зря стараетесь – я вашей лексики не понимаю». Ее память об этих событиях стала очень быстро увядать и вскоре стерлась совсем – именно с этого начался ее склероз; папа называл это, по Павлову, «охранительным торможением».

Губеры, Андрей Александрович и Раиса Борисовна. Андрей Александрович был главный научный хранитель Музея изобразительных искусств им. Пушкина. С тетей Раей моя мама сидела за одной партой в витебской гимназии. Тетя Рая кормила меня грудью, когда после родов моя мама заболела тифом. Это была моя «молочная семья». «Я вскормил тебя грудью своей жены!» – постоянно напоминал мне Андрей Александрович, намекая, что я должна соответствовать оказанной мне чести.
Губеры были самыми близкими друзьями нашей семьи. Рискуя свободой и жизнью, они спасали нас, когда папу посадили.


Губеры, Марина и Шурик. В детстве мы были неразлучны. Когда папу арестовали, четырнадцатилетний Шурик стал «связным» между нами и Губерами; он передавал нам еду. По большей части, мы встречались недалеко от его дома на улице Москвина, куда я приезжала с Сокола невероятно замысловатыми путями, каждый раз меняя маршрут.
Однажды Шурик пришел на эту встречу со своим другом, ироничным стройным мальчиком со стальными глазами, с таинственным, как заморские острова, именем Ежик Амбатьелло. Я взглянула ему в глаза и забыла, как меня зовут. Французы называют это «ку'д амур» – удар любви. Мне было четырнадцать лет. Я исхитрилась влюбиться, когда папа сидел в «Лефортово»…

Тетя Юля (Юлия Яковлевна) Мошковская не побоялась привести меня к себе домой и накормить, когда папа сидел в «Лефортово».
До революции тетя Юля училась во Фрайбургском университете, была специалисткой по истории средневековой Германии. В Германии она полюбила молодого немецкого профессора и родила сына. С маленьким Юрой (Юргеном?) она приехала в Россию навестить родителей, но тут началась Первая мировая война и все, что за ней последовало, и она уже не смогла выехать обратно. Связь со своим немецким мужем она полностью утратила: в те годы даже простая переписка с ним могла обернуться трагедией. Впоследствии тетя Юля вышла замуж за друга моих родителей, крупного советского гельминтолога Шабсая Давидовича Мошковского.
Незадолго до своей скоропостижной смерти тетя Юля наткнулась в немецком литературном журнале на рассказ «Юлия». Автор рассказа, по профессии историк, писал о любви молодого немецкого ученого к юной россиянке, растворившейся вместе с их новорожденным сыном в бескрайних просторах революционной России. Писал о том, что всю жизнь искал ее и так и не нашел – ни в ком. Тетя Юля пришла ко мне с этим рассказом; она читала мне его по-русски, и мы обе плакали.
Тети Юлин сын Юра стал Юрием Шабсаевичем Мошковским (не немец, конечно, но тоже не сахар). В паспорте у него стояло место рождения – Германия, и на вопрос в анкете, бывал ли он за рубежом, отвечал он положительно, а по поводу цели поездки писал: «для рождения».

На этом редком снимке вы видите многих будущих «врачей-убийц» незадолго до «дела врачей». На даче, на 42-м км по Казанской дороге, они празднуют день рождения Бориса Борисовича Когана (сидит спиной к нам в центре). В левом верхнем углу, в профиль – главный «убийца», Мирон Семенович Вовси, во время войны – главный терапевт Советской Армии, гениальный врач и великолепный организатор, обеспечивший всю терапевтическую службу фронта. Ниже – Лина Штерн; справа, совершенно лысый – профессор Зеленин, автор «капель Зеленина». Папы на снимке нет: он фотографирует.
Эту фотографию отобрали при обыске. Она фигурировала в «деле врачей» как свидетельство готовящегося заговора.

«Врач-вредитель» номер один Мирон Семенович Вовси.

Жена Мирона Семеновича Вовси, Вера Львовна, пыталась сделать из меня человека и учила вышивать. Ее арестовали вместе с Мироном Семеновичем, она сидела на Лубянке. Когда в газетах появились сообщения о болезни Сталина, люди Берии пытались выяснить у арестованных врачей (естественно, не сообщая, кто пациент), может ли такой больной выжить. Следователь Веры Львовны сказал ей, что у него заболел дядя и перечислил симптомы. «Если вы ждете наследства от вашего дяди, – сказала Вера Львовна, – считайте, что ваше дело в шляпе!»
Моему папе следователь тоже перечислил симптомы и спросил, кого бы папа порекомендовал пригласить к такому больному. Папа скрупулезно перечислил фамилии арестованных врачей, каждый раз прибавляя: «Но он у вас». «А такого-то?» – спросил следователь. «Ну, к своему родственнику я бы его не позвал», – ответил папа.
«Может ли такой больной выжить?» – настаивал следователь. Папа понял, что происходит что-то экстраординарное, и ответил: «Нет, необходимо умереть». Он потом часто цитировал этот свой провидческий прогноз.

Вскоре после смерти Сталина нам позвонил человек из МГБ, сообщил, что папа жив и что мы можем возобновить передачи (передачи были прерваны из-за папиного упорного отказа давать ложные показания; папу перевели на «особый режим», который не предусматривал передач, но мы, конечно, об этом не знали и думали, что папы уже нет в живых). После смерти Сталина папу немедленно сняли с «особого режима». Эта квитанция, можно сказать, историческая – это наша первая передача папе после перерыва.

Просто справка

Папа вернулся!

Снова за работой. 1953 год.

Мой день рождения, двадцать шестое августа, знаменовал закрытие дачного сезона и обычно сопровождался большим праздничным концертом. Снимок сделан в день моего двенадцатилетия, за год до папиного ареста. В составе дачного хора я только что исполнила песню о Сталине. Родители мои страдали молча и ничего мне не объясняли. Через год события «дела врачей» открыли мне глаза на мир.

Родители пытались отвлечь меня от пламенной любви к Вождю и приобщить к науке.


Дружеские шаржи к одному из папиных юбилеев.

Папа и Катя, девяносто четвертый год. Папа познакомился с Катей на кладбище – моя мама и Катин первый муж похоронены в соседних могилах. Папа и Катя прожили вместе около двадцати пяти счастливых лет.
Фотография сделана американским миллиардером Джимом Соренсоном. Папа поразил меня тем, что в свои девяносто пять лет довольно свободно и со свойственным ему юмором общался с Джимом по-английски, хотя никогда не бывал ни в одной англоязычной стране, да и профессиональную литературу уже какое-то время не читал из-за катаракты.

Алёша Блюменфельд и наш общий друг Эрик Бабицкий, впоследствии погибший на Алтае (читайте о них в рассказе «Первые уроки»).
Путешествуем по Крыму, 1962 или 63-й год.
Эрик был замечательный профессиональный художник, у меня сохранилось несколько подаренных им рисунков. В том году, когда были сделаны эти фотографии, мы с Алёшей и Эриком целый месяц бродили с палаткой по восточному Крыму. Питались в основном мидиями и рыбёшкой, если Алёше удавалось не промахнуться из его подводного ружья. Вели путевые записки: Эрик рисовал, я подписывала в стихах. Вечерами, пока не стемнеет, листали странички этого альбома, вспоминали обрисованные и описанные там события, пили вино и были счастливы. В таком расслабленном и диком виде вышли на южный берег – а там цивилизация, на берегу продают чебуреки. Мои оголодавшие спутники на все сохранившиеся у нас копейки купили вина и чебуреков. Я чебуреков не люблю, так что им досталась и моя порция. Через пару часов они стали постоянно куда-то исчезать из поля зрения, то один, то другой, то оба сразу. К вечеру раскинули где-то в укромном месте палатку, и я попросила достать альбом – хотела записать последние впечатления. Смущённый и грустный Эрик вынул…одну обложку.
– Понимаешь, у этого гада чебуреки были, видно, из дохлой кошки…

Сейчас Виктор Александрович Кабанов – химик номер один нашей страны, академик-секретарь отделения общей и технической химии Российской академии. А в том далеком году, когда я под его руководством делала на химфаке диплом, он только-только защитил кандидатскую диссертацию и оттачивал на мне свое педагогическое мастерство. Мы с Витей были знакомы с детства, потому что его мама Матильда Яковлевна Брайнина работала с моим папой. В школьные годы я была помешана на химии, и Витя – тогда студент второго курса – привел меня за руку в университетский химический кружок. Витя был дьявольски умен, талантлив, обаятелен и красив – совершенно убийственное сочетание качеств. Может, если б не это, я выбрала бы себе в жизни другую профессию?

В расторгуевском лесу. Мы с Володей познакомились здесь же накануне того дня, когда был сделан одним моим другом этот снимок.

Володя несколько дней до изнеможения водил меня на лыжах по лесу, прежде чем привести в свою расторгуевскую хату. После этого события развивались очень стремительно. Подробности читайте в главке о менингите.

Овчарка Руслан, со своей стороны, одобрила Володин выбор.

Афанасий

Вика накануне отъезда в Израиль, 1990 год. Когда в Советском Союзе кончились краски, ничто уже не могло удержать Вику на Родине. В бытность Вики в художественном училище девочки практиковали такую стратегию добывания красок: шли в ларек при Союзе художников, протягивали какому-нибудь маститому члену Союза мятую пятерку и клянчили: «Дяденька! Купите нам три тюбика охры, два изумрудной зелени… и так далее». «Дяденька» обычно не отказывал. Но времена изменились, и теперь уже «дяденька» шел в Союз художников с письменным заявлением: дескать, пишу портрет Вождя, нужен тюбик серой на кепку, два тюбика охры и белил на лысину… При таких обстоятельствах краски для тех, кто не был членом Союза художников, оказались вне пределов досягаемости.
…В 1989 году мы с Викой впервые приехали в Америку – пока в гости. В Нью-Йорке заглянули в магазин художественных принадлежностей. Огромный, несколько этажей… Краски всех мыслимых и немыслимых оттенков, мастей, фирм и народов… У Вики был настоящий шок.
… В Америке Вика сдала экзамены и была принята в три прекрасных художественных школы – Нью-Йоркскую академию художеств, Бостонский университет и куда-то ещё; все предложили ей большие стипендии. Тут бы ей и остаться, но был месяц май, а занятия начинались в сентябре, и жить в промежутке было негде и не на что. Вика вернулась со мной в Москву… Тем, кто помнит это время, дальнейшее понятно. Чтобы поехать в Америку учиться, нужна была выездная виза; чтобы получить визу, требовалось направление от Министерства культуры. Вика туда пошла. «Кто ты такая, чтобы ехать учиться в Америку, – сказали ей в Министерстве культуры. – Мы что, тебя туда посылали? Нет? Не посылали? Ну и иди…»
В нашей семье никто не умеет пробивать бюрократические стены. Учиться в Америку Вика не поехала, но и оставаться в этой стране ни минуты не хотела и подала заявление на отъезд в Израиль. ОВИР заявления не одобрил: дело в том, что Вика оформляла два спектакля в Тюменском кукольном театре, о чем в ее трудовой книжке была сделана неосторожная запись. Прописана в Тюмени Вика не была и, стало быть, два раза по две недели находилась в Тюмени без полицейского надзора. «Пока мы не убедимся, что, живя в Тюмени, вы не совершали уголовно наказуемых деяний, отпустить вас из страны не можем», – сказали Вике в ОВИРЕ. «Как вы можете убедиться, что я их НЕ совершала? – удивилась Вика. – Если б я их СОВЕРШАЛА, вы могли бы в этом убедиться. Но как убедиться в том, что я их НЕ совершала?» «Да, это очень сложно», – согласились в ОВИРЕ, и полгода никак не могли решить эту животрепещущую проблему, пока я не пригрозила объявить голодовку на их пороге, пригласив друзей из вражьих «голосов» и «Аргументов и фактов». ОВИР сдался, так и не получив подтверждения об отсутствии у Вики уголовного прошлого.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































