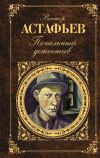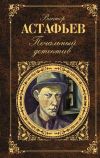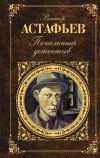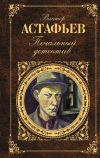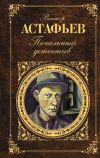Текст книги "Истина и душа. Философско-психологическое учение П.Е. Астафьева в связи с его национально-государственными воззрениями"

Автор книги: Николай Ильин
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава 4.
«Жизнь ценна, пока она сознаётся мною». Корень оптимизма
На последних страницах «Психического мира женщины» Астафьев коснулся того странного, на первый взгляд, сочетания оптимизма и пессимизма, которое было характерно для второй половины XIX столетия. При этом оптимизм опирался, главным образом, на действительные и мнимые достижения естествознания и озвучивался как самими естествоиспытателями, так и философами материалистического и позитивистского склада, а пессимизм находил яркое выражение в художественной литературе и опирался на труды таких мыслителей-метафизиков, как Шопенгауэр и Э. фон Гартман.
В 1885 г. Астафьев издал небольшую книжку, специально посвященную «вопросу пессимизма и оптимизма» [28]. Но было бы грубым упрощением считать, что весь смысл этой работы сводится к тому, что она говорит «нет» пессимизму и «да» оптимизму. В первую очередь Астафьева волнует точная постановка вопроса. Со ссылкой на Канта он отмечает: «больше трудности и больше заслуги – правильно поставить вопрос, чем – дать верный ответ на вопрос, уже правильно и точно поставленный» [28: 3]. Но с чем связана сложность правильной постановки вопроса? Почему сплошь и рядом задаются неверные и потому не имеющие ответа вопросы, вроде пресловутых вопросов «Что делать?» и «Кто виноват?», которые затем попугайски повторяются массой людей как якобы «главные вопросы русской жизни», хотя поставившие их «властители дум» хуже всего понимали именно русскую жизнь?
Астафьев ясно указывает на причину, по которой жизненные вопросы труднее всего поддаются правильной формулировке. Он пишет: «Самые жизненные вопросы наименее обдумываются нами именно потому, что жить – более настоятельная по-видимому необходимость, чем судить о жизни, давать себе в ней отчет» [28: 2]. Увлеченные потоком переживаний, постоянно побуждаемые ими к действию, мы тем менее склонны обдумывать наши действия, чем более неотложными они кажутся; мы склонны полагаться здесь на чужую, а не на собственную мысль, забывая, что и чужая мысль должна быть самостоятельно продумана нами, чтобы стать и нашей мыслью. В итоге мы или заходим в тупик, или идем избитыми, проторенными путями, то есть живем, по существу, не своей собственной жизнью.
Но такой, с позволения сказать, образ жизни, глубоко противоречит назначению человека, его элементарному жизненному призванию, о котором Астафьев пишет: «Человек ведь не только переживает свое бытие, но и сознаёт и судит его и стремится его устроять, не принимая его пассивно, как готовый, только данный ему рок» [28: 2]. А раз так, то перед каждым человеком рано или поздно встает «вопрос о ценности самой жизни, вопрос: стоит ли жить?». Этот вопрос, отмечает Астафьев, существует «в силу неизбежного идеализма человека» [28а], в силу того, что жизнь для него не просто факт, но факт, требующий понимания. Конечно, можно отмахнуться от этого вопроса, как вопроса «философского», то есть, на языке обывателя, вопроса праздного, отвлекающего от более насущных вопросов; но без ясного ответа на него, отмечает Астафьев, нельзя «ни с достоинством и убеждением жить, ни с достоинством и убеждением умереть» [28: 9].
Итак, наиболее важный из «вопросов жизни» – это вопрос о ценности жизни, или о ценности бытия. Постановка такого вопроса – в качестве первого, коренного вопроса, – является более правильной, чем постановка вопроса о смысле жизни, ибо только на вопрос о ценности жизни мы можем дать ответ, опираясь на непосредственное самосознание. Этот момент исключительно важен: чтобы ответить на вопрос, является ли моя жизнь чем-то несомненно ценным для меня, не надо развивать сложную философскую доктрину, как того требует вопрос о «смысле жизни»; достаточно вникнуть в одну простую истину, о которой постоянно свидетельствует наше самосознание. Правда, отмечает Астафьев, «ничто, как известно, не постигается нами во всем своем значении так трудно, как самые простые, очевидные истины» [28: 12], в том числе – и истина оптимизма. Дело в том, что пессимизм «ярче, определеннее и страстнее, чем оптимизм», а это, в свою очередь, объясняется тем, что страдание переживается душою сильнее, чем наслаждение. Неслучайно у нас есть слово сострадание, но нет слова, которое выражало бы чувство «со-радости». Между тем, как таковое это чувство существует и, возможно, потому и остается неназванным, что лежит не на поверхности, а в глубине нашего отношения к жизни.
Однако все подобные «психологические» (в расхожем смысле слова) соображения не являются, конечно, доказательствами истины оптимизма; доказательство (а точнее, свидетельство) надо искать в общем характере нашего сознания. Здесь Астафьев возвращается к идеям, высказанным в «Психическом мире женщины» и в «Понятии психического ритма». Впрочем, некоторое отличие есть: Астафьев начинает особенно настойчиво связывать понятия усилия и чувства. Он пишет: «Только в сознании своих усилий <…> чувствует живое существо свое бытие, чувствует себя. <…>. В деятельном движении, усилии, таким образом, основа самочувствия, без которого нет и самой жизни» [28: 14].
Самочувствие получает значение ключевого понятия для характеристики жизни как таковой; это понятие, которое представляется Астафьеву более выразительным и точным (то есть выражающим суть дела), чем понятие самосознания. До ясного самосознания надо дорасти, в то время как самочувствие есть уже на всех ступенях развития: «сознание своего собственного бытия» достигается в самочувствии значительно раньше, чем в зрелом самосознании, причем особенно важно то, что понятие самочувствия, в отличие от понятия самосознания, непосредственно указывает на оценку живым существом своего состояния. Подчеркнем: самочувствие для Астафьева не есть нечто кардинально отличное от самосознания, но именно простейшая, первоначальная форма самосознания. Притом самочувствие многолико и в то же время универсально, всеобще: «Чувство напряжения, чувство боли или наслаждения и т.п. составляют одинаково несомненное <…> содержание душевной жизни как германского философа-пессимиста, так и прожигающего жизнь вивера и буддийского аскета и светской кокотки или идущего на Балканы из далекой глуши умирать за неведомых братьев нашего крестьянина» [28: 15].
Это не значит, что чувства страдания и наслаждения у всех людей имеют одинаковый характер, но они с одинаковой несомненностью свидетельствуют всем людям о том, что они живут, и вот это-то свидетельство обладает для каждого из них абсолютной ценностью. Пока для человека «имеют ценность его чувства усилия, страдания и наслаждения <…> – сохраняет для него ценность и его бытие». За видимой простотой и ясностью этих рассуждений стоит наиважнейшая истина, которую в русской философии отчетливо сформулировал, кажется, один Астафьев [29]. Самочувствие человека – это не совокупность его чувств, не «баланс» его страданий и наслаждений, но заключенное в каждом его чувстве чувство жизни как таковое, или как абсолютно точно выражается Астафьев, это «последняя единица всякой меры его жизни», это «в одинаковой степени достоверное, реальное и положительно ценное» в любом чувстве. «Пока есть самочувствие, оно ценно и реально», поскольку «положительно ценно и реально и сказывающееся в нем всякому бытие его» [28: 16].
Не сделав необходимого усилия, чтобы понять выраженную здесь мысль, мы не поймем самой сути того «оправдания оптимизма», которое дал Астафьев. По существу, его точка зрения – это «точка зрения непосредственного наивного оптимизма, прямо признающего бытие ценным», но с одним существенным дополнением: «жизнь ценна, пока она сознаётся мною», ценна «просто потому, что она сознаётся». Таким образом, абсолютной ценностью (или, лучше сказать, мерой всякой ценности) является не бытие само по себе, но сознаваемое бытие [29а]. Любая другая ценность имеет в своей основе эту ценность, ибо «ценнее, реальнее самочувствия, сознания своего бытия, в конце концов, ничего для живого существа нет» [28: 17–18]. По выражению Астафьева, бытие ценно во имя самочувствия. Конечно, сознание может отрицать те или иные отдельные чувства; но «отрицать само себя как самочувствие, как сознание, оно не может». В этом самоутверждении сознания жизни как такового – корень любого нашего утверждения.
Здесь же и корень так называемого самосохранения. Сплошь и рядом рассуждают об инстинкте самосохранения, то есть пытаются представить стремление к самосохранению чем-то бессознательным. Астафьев фактически отвергает этот взгляд, по крайней мере, применительно к человеку. Последний, повторим еще раз, ценит не «бытие вообще», но живое, то есть переживаемое бытие, данное в самочувствии. «Стремление к самосохранению неотделимо поэтому от стремления к сознательности своего бытия» – подчеркивает Астафьев. Впрочем, человек выделяется здесь из ряда других существ только тем, что в нем достигает вершины все то, что присуще живому бытию как таковому. Или, как с замечательной силой пишет Астафьев: «Точка зрения самочувствия есть точка зрения самой жизни в ее реальной переживаемости» [28: 20].
Но вместе с тем нельзя утверждать, что ценность жизни уже доказана окончательно и безусловно. Сомнение в ценности жизни и даже ее отрицание возможны, если «сойти с этой естественной точки зрения единичного момента жизни в его непосредственной реальной переживаемости» и стать на более общую точку зрения, подводящую итоги, выводящую оценку жизни в целом. Не окажется ли, что «непосредственное сознание ценности жизни» является мнимым «с высшей точки зрения рефлексии» [28: 21–23]? При этом Астафьев отмечает, что двойственность оценки жизни не заключает в себе логического противоречия. Сознание, как уже неоднократно отмечалось, – это деятельность различающая и сопоставляющая, а потому относящаяся, с одной стороны, к единичному, непосредственно данному, а с другой – к некой совокупности, постигаемой уже не непосредственно, а путем обобщения. И эти две стороны могут не совпадать, когда речь идет именно об оценке. Там, где непосредственное чувство говорит «да», идеальное обобщение может сказать «нет».
Ни одну из этих оценок нельзя игнорировать. С одной стороны, «непосредственно сознаваемая жизнь ценна положительно потому, что она есть», и никакая рефлексия не может отменить (или заменить) эту ценность. Но рефлексия может выявить конфликт ценностей, тем более что именно в области рефлексии формируются «понятия должного и желательного, ценного и прекрасного», и эти идеальные оценки играют в жизни человека весьма существенную роль, как бы ни доминировала в этой жизни «реальная основа ценного бытия, самочувствие (я есмь, я живу)», постоянно напоминающая о том, что сознающее себя бытие «всегда положительно ценно» [28: 25–27]. Поэтому необходимо внимательно всмотреться в природу идеальной оценки, нередко принимающей сторону пессимизма, убеждения в том, что жить не стоит.
Значение идеальной (обобщающей) оценки связано с тем, что «я познаю не только, что я есмь, но и то, как я есмь». Элементы, из которых эта оценка складывается, «суть определения самочувствия в состояниях страдания и наслаждения», но теперь эти элементы рассматриваются в их совокупности, и при этом нередко устанавливается «перевес страдания и по качеству, и по количеству» [28: 28–29]. Но если бы все ограничивалось только этим, доводам пессимистов не хватало бы философской глубины. Во-первых, оптимисты не хуже пессимистов знают, что «жизнь – не легкая забава». Во-вторых, сами страдания нередко заключают в себе наслаждение, причем самого сильного свойства: не зря говорят о муках любви, муках творчества; да и муки, в которых мать рождает ребенка, вряд ли правильно всецело относить к страданию. Поэтому настоящий философский пессимизм не опирается на перевес (весьма сомнительный) страданий над наслаждениями, а пытается поразить оптимизм в самое сердце, объявляя источником страдания именно сознание как таковое. Устами Шопенгауэра и Гартмана, а еще раньше Шеллинга, пессимизм заявляет: «Страдание и жизнь, то есть знающее о себе бытие – тождественны»; страх, тревога «есть главное ощущение всякой живой твари» [28: 39].
Что сказать по поводу подобных утверждений, к которым экзистенц-нигилисты XX века, будь то Сартр или Хайдеггер, не добавили практически ничего нового? Вопервых, они противоречат рассмотренному выше непосредственному сознанию того, что чувство жизни как таковое есть несомненное благо. Более того, это непосредственное чувство не слабеет, а усиливается на высших ступенях рефлексии, если это – добросовестная, непредвзятая рефлексия. Как пишет Астафьев, не называя Декарта по имени, но апеллируя к основному положению его философии, «и для философа и для всякого сознающего (а тем более мыслящего) существа самое достоверное, реальное и поэтому только положительно ценное во всем содержании его сознания и мысли есть “я сознаю”, “я мыслю”» [28: 48].
Во-вторых, отождествляя сознание со страданием, пессимисты совершают не вполне честный ход, поскольку в их метафизике и «личное сознание», и «личное страдание» – это лишь иллюзии, как и сама личность. Их метафизика – это метафизика бессознательного и безличного родового начала. В связи с этим Астафьев справедливо замечает, что приписывать этому началу какие-либо страдания – значит просто играть словами. Всегда страдает именно индивид, а не род – яснее всего это видно в случае страданий деторождения, о которых много рассуждает Шопенгауэр, связывая плотскую любовь исключительно с «инстинктом сохранения рода». Другим примером может служить притязание пессимизма на то, что он «подрывает эгоизм». Но в мире пессимизма нет реальных лиц, а потому нет и нравственных отношений между ними. Если мы превратили всех в одно стадо, мы не «победили эгоизм», а только создали мир, в котором нет места ни эгоизму, ни самоотверженности.
Отметим, наконец, третий и, пожалуй, самый важный аргумент Астафьева против пессимизма. Жизнь – не только поприще страданий и наслаждений, у нее есть и другие ценности – ценности истины, добра и красоты, которые не сводятся ни друг к другу, ни к страданию или к наслаждению. Астафьев пишет «Нет явлений или состояний сознательной жизни, безразличных логически, этически, эстетически и т.п., как нет и состояний этой жизни и чувства, безразличных эвдемонологически» [28: 52], то есть не заключающих в себе страдание или наслаждение. Так, устранив из любви этические и эстетические моменты, очень легко доказать в ней явный перевес страдания над наслаждением – но по сути дела, это значит «доказать, что в комнате темно, потушив в ней предварительно все огни» [28: 53]. Не страдания и наслаждения, но именно «нравственные, эстетические и интеллектуальные элементы» делают любовь «у человека высокого развития в высшей степени личным чувством».
Астафьев как бы дает положительный ответ на навеянный пессимистическими сомнениями вопрос поэта Николая Михайловича Языкова (1803–1846):
Означу ли светом вдохновенья
Простую жажду наслажденья,
Безумный навык бытия?
Да, твердо отвечает Астафьев. Оценивая жизнь во всей полноте ее высших ценностей, а не с помощью примитивной арифметики страданий и наслаждений, мы всегда сможем вдохнуть значение в то, что представляется только «безумным навыком» абсолютному пессимизму.
В то же время Астафьев отмечает, что относительный пессимизм, связанный не с отрицанием сознательной личностной жизни, а со стремлением к идеалу, имеет законное право на существование. «Стремление к идеалу вовсе не есть следствие какого-то отчаяния во всем», пишет Астафьев. «Напротив – оно всегда положительно» и даже «всего положительнее и сознательнее в жизни» [28: 61]. Это стремление связано с тем, что земное бытие не имеет абсолютной ценности окончательного бытия, «а составляет лишь временную, подготовительную школу к другому, высшему и лучшему бытию». Но помня об этом, не следует впадать в своего рода религиозный нигилизм и считать, что земное бытие «вовсе лишено всякой ценности». Его ценность относительна, но тем не менее исключительно высока, ибо уже здесь, на земле, осуществимы «основное стремление и высочайший долг религиозно-настроенной души», осуществимо стремление к богоподобию. О тех, кто до конца поддерживал в себе это стремление, и сказано: «блаженны в вере и надежде скончавшиеся» [30].
Рассмотренная работа знаменует важнейший, даже решающий шаг Астафьева к философско-психологической и, более того, метафизической проблематике. Из массы «фактов жизни» Астафьев выделяет фундаментальный онтологический факт: мы живы, пока сознаём себя живыми, сознаём в форме простейшего самочувствия. Другими словами, абсолютной ценностью являемся не бытие само по себе, а сознаваемое бытие, или чувство жизни. Конкретным содержанием этого чувства может быть боль, страдание, страх и прочий «негатив». Но этот вторичный «негатив» свидетельствует о первичном «позитиве»: о том, что мы живы, ибо в противном случае не чувствовали бы ничего – ни боли, ни страдания, ни страха.
Наконец, исключительно важен и тот свет, который проливает философская миниатюра Астафьева на сущность стремления к нравственному идеалу. Это стремление, строго говоря, неосуществимо в нашей земной жизни. Но тот факт, что уже в этой жизни, исполненной всяческих несовершенств, человек не капитулирует перед ними, но стремится к лучшему и высшему, свидетельствует о великой силе человеческого духа и дает надежду на то, что эта сила дарована нам не напрасно.
Нравственный мотив нарастает в душе мыслителя и ведет его к изложению и обоснованию своих этических взглядов.
Глава 5.
Основания нравственности и архитектоника души. Чувство в его отношении к интеллекту и воле
З0 мая 1886 г. на публичном заседании Общества Любителей Духовного Просвещения П. Е. Астафьев прочитал реферат под заглавием «О любви как начале морали» и в том же году издал написанную на его основе небольшую книгу «Чувство как нравственное начало». Не предлагая в этой книге развернутой этической системы, он с исключительной глубиной раскрывает характер человеческой нравственности и ее связь со строением человеческой души.
В качестве отправной точки Астафьев берет мысль Канта о том, что «все существа вселенной живут и действуют по законам; человек же – по своим представлениям закона», уточняя, что сказанное верно лишь до тех пор, пока человеческая деятельность «сохраняет свой специфически человечный характер сознательности, – пока она совершается не механически, под неодолимым давлением страсти, не в самозабвении или автоматически, под влиянием привычки или инстинкта, но с сознанием и под его руководством» [31: 3]. Таким образом, Астафьев в очередной раз начинает с того, что выдвигает на первый план представление о человеке, как о существе, чья человечность заключается именно в сознательности. Какую бы роль в нашей жизни ни играли привычки, инстинкты и проч., не они делают нас людьми. Людьми в полном смысле слова мы являемся тогда, когда действуем сознательно, то есть переживаем свои действия именно как свои, совершаемые по нашей инициативе.
Очевидно также и то, что момент сознательности становится ключевым, если речь идет о нравственных (или моральных) законах, в соответствии или в противоречии с которыми мы действуем. Только в случае этих законов получает ясный смысл так называемая нравственная, или моральная оценка наших поступков [32]. Такая оценка имеет смысл, считает Астафьев, только тогда, когда она выражает отношение двух моральных субъектов; другими словами, когда «оценивающим этот поступок является и сам сознательно совершающий его человек, а не один испытывающий на себе его вредные или полезные последствия» » [31: 4].
Из приведенных слов вытекает принципиальное различие между оценкой нравственной, моральной и оценкой юридической, правовой. Последняя не требует, чтобы преступник осудил себя. Вот почему его раскаяние в содеянном имеет исключительно нравственное значение; со строго правовой точки зрения раскаяние «ничтожно», и если оно в той или иной степени учитывается судом, то в этом проявляется юридическая непоследовательность. Право и правосудие необходимы именно потому, что в действительности далеко не всегда (если не сказать – крайне редко) нравственное осуждение преступника сочетается с его собственным нравственным самоосуждением. В этом заключается, на мой взгляд, главная причина того, почему в своей публицистике Астафьев ставит «формально-юридические» начала значительно ниже нравственных начал, корень которых лежит не в моральной оценке со стороны другого, а в нравственной самооценке.
Более того, он считает, что обязательным свойством нравственного закона должна быть «его общность, то есть присущность его сознанию как того, кто произносит нравственное суждение, так и того, над кем это суждение произносится». Тот, кто был бы «лишен всяких нравственных понятий» или имел бы понятия, идущие «совершенно вразрез» с нашими – «тот и стоял бы вне нашей нравственной жизни и нашей нравственной оценки его поступков» [31: 4]. На первый взгляд, это звучит почти возмутительно: мы ведь так привыкли заниматься «нравственным осуждением» других, находим в этом такое острое удовольствие! Астафьев же говорит: подлинная нравственность требует, чтобы существовало общее основание нравственных суждений (и осуждений), ибо лишь на этой почве возможно настоящее нравственное общение.
Но разве не значит это, что он фактически выводит из-под нашего нравственного суда тех, кто не разделяет наших нравственных убеждений? И разве не открывается тем самым простор для безнравственности? Открывается, если мы догматически навязываем наши моральные принципы всем подряд – и думаем, что ведем «борьбу за нравственность». Подлинная задача нравственного воспитания и перевоспитания – раскрыть человеку преимущество наших нравственных ценностей, стремиться к тому, чтобы он признал их своими ценностями не за страх, а за совесть. Что касается тех, кто остается глух к нашим нравственным убеждениям, то не надо подталкивать их к лицемерию; достаточно заставить их жить в рамках единого правового поля, ибо право не предполагает добровольного согласия.
Эти выводы вполне применимы к традиционной национальной нравственности; но Астафьев без всяких оговорок переходит от требования общего основания нравственности – к значительно более сильному требованию всеобщности этого основания для всех сознающих существ. Удовлетвориться чем-то более ограниченным и условным может только «человек, жизнь которого протекает в простой, первобытной, патриархальной обстановке», который живет, довольствуясь «лишенными сознанной связи между ними правилами народной мудрости, опыта предков, обычая, обряда и т.п.» [31: 6].
Согласитесь: эти слова вряд ли придутся по вкусу многим нашим «фундаменталистам» и хранителям «традиционных ценностей». Между тем, высказанное Астафьевым отношение к «не рассуждающей» традиционной морали патриархального толка отнюдь не случайно; он ясно видел сходство между ее адептами и теми, кого принято считать их «либеральными» противниками. В связи с этим он затрагивает взгляды на развитие нравственности, которые господствовали (и продолжают господствовать) в среде позитивистов и эволюционистов. Суть этих взглядов (наиболее ясно выраженных Г. Спенсером) состоит в том, что с ростом приспособления и регуляции наследственности нравственное поведение человека переходит в привычки, «человечество становится все богаче этими “нравственными” инстинктами» [31: 8]. Нельзя не отметить: надежды на подобную «переформировку человеческой природы в видах приспособления ее к требованиям общественной жизни» свойственны и нашему времени с его беспредельной верой во всемогущество генетики. Причем завзятые либералы единодушны здесь с самыми голосистыми «националистами», с той лишь разницей, что первые еще только отыскивают «ген толерантности», а вторые громогласно заявляют, что уже установлен «ген русской природы» [33: 63].
Задолго до нелепых рассуждений о «гене совести» и прочем квазинаучном вздоре русский мыслитель П. Е. Астафьев понимал: надежды на то, что со временем «нравственное поведение станет просто естественным поведением», являются лишь «школьной фантазией эволюционизма» [31: 8–9]. Но господство этой фантазии в сознании, в образе мыслей людей, берущихся рассуждать о нравственной природе человека, является одним из главных препятствий на пути к настоящему философско-психологическому пониманию этой природы. Пока мы не поймем, что выражения «духовный генофонд», «культурный код» и т.д. допустимо использовать лишь в сугубо метафорическом значении (а лучше не использовать вовсе), мы будет стоять на краю нравственной пропасти – и рано или поздно в нее сорвемся.
Возвращаясь к основной линии рассуждений Астафьева, нельзя не заметить, что его требования к «системе правил нравственного поведения» – требования единого основания этих правил, их всеобщности и осознанной обязательности – носят, по сути дела, формальный характер, перекликаясь с этическим учением Канта, со слов которого и начинается рассматриваемая работа. Принципиальный выход за пределы этого учения Астафьев совершает тогда, когда подчеркивает: все перечисленные требования относятся не только к нравственным предписаниям, но и к любым общим положениям теоретического характера, например, к положениям математики. Но соглашаясь с каким-то положением чисто теоретически, «по логическим основаниям», я только отказываюсь «от противоречия ему, от его неприятия», выражаю только пассивное согласие с этим положением.
Достаточно ли этого тогда, когда речь идет о том или ином нравственном положении? Очевидно, что недостаточно. Для признания нравственного положения «в качестве предписания, обязательного для воли, положительно побуждающего и направляющего последнюю, – нужно, чтобы оно было способно побуждать мою волю не к одному отрицательному непротиворечию, но и к положительному более или менее энергичному деятельному усилию», чтобы оно возбуждало во мне определенное душевное волнение. Без «более или менее энергичного душевного волнения – никакая теоретическая истина, признанная разумом, не становится сама по себе источником положительного возбуждения воли» [31: 11–12].
Задумаемся над этими замечательными словами.
Для исполнения нравственных требований недостаточно теоретического согласия с ними, необходима активная реакция души, необходимо душевное волнение:
Сердца волненье, ты
Животворишь зерно
Внутренней правоты [34].
Если бы чувство не играло решающей роли в нравственной жизни, то «самыми нравственными» людьми были бы «ученые моралисты, искушенные во всех тонкостях диалектики и нравственной казуистики». Между тем, жизнь учит нас «связывать и энергию, и выдержанный, непоколебимо моральный характер воли именно с простотою сердца». Что касается законов логики, диалектики и вообще так называемых «истин разума», то роль действительных законов воли они могут играть только «в союзе с душевным волнением» [31: 12–13].
Однако союз этот, по мнению Астафьева, не слишком прочен. «Понятия разума», считает он, «из всего душевного содержания нашего составляют нечто наиболее чуждое, по существу своему, душевного волнения, наиболее от него далекое», а потому наша деятельность, «чем она более имеет исключительно познавательный характер, тем менее волнует она душу» [31: 13]. С этим приговором трудно согласиться. Радость познания и его муки довелось испытывать всем тем, кто всей душой отдавался поиску истины – неважно, философской или специально научной. Странно напоминать об этом Астафьеву, который неоднократно признавал, что «самые глубокие симпатии и духовные интересы» влекли его «в область вопросов чистой науки и философии» [35: I]. Влекли – и не увлекали, не волновали душу в самой ее глубине? Впрочем, встает и более важный, даже принципиальный вопрос: чем бы была сознательная жизнь – которую Астафьев считает мерой человечности в человеке – без разума и его понятий? Здесь мы прикасаемся к болевой точке в мировоззрении Астафьева, к его антиинтеллектуализму, практически незаметному в первых работах, но постепенно заявлявшему о себе все громче. Не станем, однако, спешить с окончательным диагнозом – вскоре сам Астафьев пояснит свое скептическое отношение к роли интеллекта в душевной жизни.
Итак, «даже самые убедительные для разума положения» сами по себе лишены «способности возбуждать волю к положительным усилиям в известном направлении»; эту способность они «могут получить лишь из области душевных волнений (так называемой жизни сердца)» [31: 15]. В свете этого вывода этическое учение в понимании Астафьева теряет свой чисто формальный характер и превращается, пользуясь техническим языком, в материальную этику чувства (или, точнее, этику воли, побуждаемой чувством). При этом Астафьев подчеркивает: «Без обращения к помощи какого-либо чувства и не обходилась в действительности ни одна из крупных философских систем морали, какой бы строго рационалистический характер ни старался сохранить за нею ее автор». Даже Кант проявлял в этом отношении поучительную непоследовательность: создав чисто формальную систему морали, из которой исключалось «всякое действование по влечению чувства» и «единственным руководителем воли» признавался лишь бесстрастный закон долга, – даже Кант «требовал от морально настроенного человека чувства уважения к святости этого закона» [31: 17–18].
Впрочем, продолжает Астафьев, «всякая рационалистическая мораль, не признающая иных моральных чувств, кроме уважения к закону или страха, <…> есть собственно мораль не деятельности, но бездеятельности, внешней дисциплины». Не противореча логике, такая мораль противоречит природе души человеческой, природе существенно деятельной. Напротив, этой природе глубоко созвучна христианская мораль, исходящая «из чувства положительной, деятельной любви, составляющего существеннейшее содержание Христовой проповеди» [31: 18–19].
Хотя речь о христианской любви – впереди, Астафьев делает уже сейчас два немаловажных замечания. Вопервых, он de facto отказывается признавать в христианской морали элемент страха, ничего не говорит о значении «страха Божьего», но прямо открещивается от страха, как от «чувства по существу своему депримирующего, подавляющего проявления воли». Во-вторых, Астафьев безоговорочно осуждает проповедь любви, которая ограничивается «непротивлением злу»: у автора этой проповеди – филистерская душа, «враждебная всему мистическому и страстному» [31: 20]. Слово страсть прозвучало не в первый раз – и в дальнейшем станет звучать все настойчивее и позитивнее, как качество подлинного – то есть страстного – существования.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?