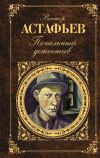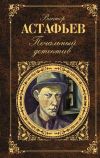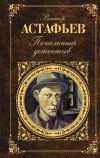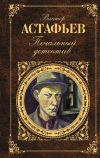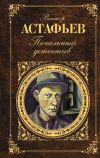Текст книги "Истина и душа. Философско-психологическое учение П.Е. Астафьева в связи с его национально-государственными воззрениями"

Автор книги: Николай Ильин
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Подводя итог, можно утверждать, что Астафьев если и не создал всесторонне разработанного учения о свободе воли, то определенно наметил путь, ведущий к такому учению. Различая «данное мне» и «поставленное мною», Астафьев формулирует собственный взгляд на свободу воли как свободу сознательного и деятельного бытия. Поставленными мною являются, в первую очередь, конкретные цели, и Астафьев признаёт определенную близость своего представления о свободе с «целевой причинностью» Аристотеля, поскольку в акте свободы человек делает нечто «не отчего, а ради чего». Это, конечно, телеология – но телеология, истинный смысл которой неразрывно связан с сознанием. У Аристотеля цель как бы притягивает к себе, является «причиной спереди». У Астафьева не так: здесь цель полагается (или ставится) в качестве цели сознательным субъектом, который в акте постановки цели свободно вступает на путь самоосуществления. Вот тайна свободы, пусть только приоткрытая Астафьевым.
В заключение необходимо еще раз подчеркнуть простой, но вполне актуальный момент. В конце своего эссе Астафьев затрагивает непрекращающиеся и до сего дня попытки свести свободу воли к борьбе мотивов, сильнейший из которых становится «двигателем» воли (само слово «мотив» производно от латинского moveo – двигаю). По безупречно точному замечанию Астафьева, не мотивы сами по себе суть причины тех или иных волевых актов, но сама ведомая себе воля придает им значение причин. Только понимая этот принципиальный момент, можно сказать совсем кратко: акт свободы – это акт самомотивации.
В эссе о свободе воли Астафьев совершил решающий шаг к метафизике. Психология, конечно, не была забыта, поскольку и в метафизике внимание Астафьева сосредоточено на человеческой душе. Но теперь в ней открылась до того неизвестная глубина, уяснилось до того неведомое значение.
Переходя к этой важнейшей части философии П. Е. Астафьева, позволим себе, однако, небольшую интермедию.
Глава 8.
Слово и понимание. Нечто о «непонятностях» у Астафьева
В качестве интермедии остановимся на статье «Перерождение слова», напечатанной Астафьевым в журнале «Русский вестник» в конце 1891 года. Полемическое название этой статьи отражает лишь часть ее содержания, притом не главную; главным является заключенный в статье набросок философии слова. Этот набросок позволяет понять момент, на который особенно охотно обращают внимание недоброжелатели русской классической философии XIX века: отсутствие в ней достаточно серьезного интереса к феномену слова как таковому. Казалось бы, подобный интерес должны были проявить хотя бы те русские мыслители, которые были первоклассными литературными критиками – Ап. А. Григорьев и Н. Н. Страхов; но и у них этот интерес выражен очень слабо, а уж тем более нет и намека на какой-либо «культ слова».
Между тем статья Астафьева начинается именно с указания на глубокие корни, которые имеет этот культ, то есть «изначальный взгляд человека на слово, как на творческую, созидающую, всеобразующую и мировую духовную силу» [47: 153]. Еще задолго до христианства отношение к слову было существенно религиозным: «Для всех индоевропейских народов слово, как самостоятельная зиждущая и образующая сила, имело первоначально божественный характер и относилось к божественному творческому началу». В тех зачатках метафизики, которые мы встречаем у древнейших народов, слово было «самой духовной сущностью вещей, открывающейся в их наименовании» (достаточно вспомнить толкования слова ОМ в «Упанишадах»). Отсюда же проистекает слава предсказателей и пророков: «Провозвестники слова, носители его почитались наряду с полубогами и героями». Культ слова в древности имел важнейшее культурное значение: «Слово здесь было источником и образующим, устрояющим началом всей духовной жизни» [47: 154].
Этот гимн древнему культу слова настраивает читателя на то, что Астафьев в той или иной степени призовет к его восстановлению. И он, казалось бы, оправдывает эти ожидания. Мимоходом отметив ту инфляцию слова, которую вызвало изобретение книгопечатания, Астафьев обрушивается на «современный мир слова». Прежде всего, это «мир летучей журналистики» и ее читателей, которые обращаются к литературе «единственно за справками о состоянии вопросов, составляющих злобу дня, о фактах» [47: 156–157]. Именно в этой среде формируется общественное мнение, господство которого «над духовной жизнью отдельного лица» Астафьев решительно осуждает [48]. Отмечу любопытный момент. О литераторах, стремящихся «выражать общественное мнение», Астафьев пишет так: «Дух все более оставляет и их самих, и их протокольные произведения». А чуть ниже, говоря об излюбленной «литературе интеллигенции», он называет ее «протоколами современной жизни» [47: 159–160]. Любопытно, что много позже, в 1930-е годы, один из основоположников неопозитивизма Рудольф Карнап (1891–1970) объявил, что языком научного знания должен быть «протокольный язык», простейшими (и основными) предложениями которого являются «протокольные предложения» [49: 176]. Это «совпадение» лишний раз показывает, насколько точно уловил Астафьев то перерождение слова, которое несли с собою близнецы-братья: утилитаризм и позитивизм.
Вместе с тем выясняется, что Астафьев вовсе не намерен возрождать наивно-мистический культ слова. Характеризуя деградацию языка «интеллигентной массы», Астафьев пишет: «Не к пониманию известного мысленного содержания и выработке, углублению его, но лишь к сообщению, передаче его во всей готовой определенности <…> должно вести здесь слово» [47: 161]. Таким образом, для Астафьева слово – не просто носитель информации, как думают апологеты «свободы слова», но и не теургический акт, как простодушно верило «младенческое человечество». Слово имеет значение только в связи с выраженной в нем мыслью и должно способствовать пониманию этой мысли. Именно проблема понимания является центральной проблемой той «философии языка», которую набрасывает Астафьев в своей статье.
Но сначала он затрагивает вопрос о происхождении языка, отвергая две гипотезы, наиболее распространенные до XIX века. С одной стороны, Астафьев считает «грубейшим заблуждением» взгляд на язык как на «искусственное создание человеческого разума» путем «свободного соглашения людей» [49а]. Слово, при таком взгляде, – лишь обозначение той или иной готовой мысли. А поскольку законы мышления одни для всего человечества, то различие языков оказывается регрессом, «отклонением от одного совершенного», общечеловеческого языка. Отсюда стремление создать такой язык, стремление, увлекавшее «даже такие великие умы, как Лейбниц». С другой стороны, общеизвестен взгляд, согласно которому язык – «непосредственное откровение Бога, даровавшего человечеству в системе языка такое готовое средство выражения и обмена готовых мыслей» [47: 164]. Отсюда легенда о «вавилонском смешении» языков, об утрате «общечеловеческого языка» как о наказании за «богоборческие» устремления людей.
Важный шаг вперед совершила историческая школа, которая увидела в языке «индивидуальное воплощение целого художественно-философского народного мировоззрения». Вместе с тем, этому взгляду на язык вредило «туманное понятие бессознательно-творческого народного духа», сообщая представлениям исторической школы о происхождении языков оттенок какого-то фатализма, выраженного, например, в цитируемых Астафьевым словах Вильгельма фон Гумбольдта о том, что «каждый народ обведен кругом своего языка» [47: 165–166]. Свою задачу Астафьев видит в том, чтобы прояснить и углубить возникшее в той же исторической школе убеждение о «тесном взаимодействии» слова и мысли, взаимодействии, на почве которого рождается и развивается самосознание.
Подчеркнув, что «без психологии новая филология беспомощна», Астафьев прежде всего отмечает: для того, чтобы мыслить в образах, «как мыслят животные и дети», еще нет необходимости в слове. Образ, или мысленное представление того или иного предмета, нагляден, всесторонне определен и в этой своей определенности самодостаточен. Ситуация принципиально меняется, когда ребенок, мыслящий в образах, начинает «мыслить о своих образах». Как осуществляется такое мышление? Конечно, не за счет удвоения, создания каких-то «образов образа», «представлений о представлении» и т.п. Здесь необходима принципиально новая умственная деятельность, подчеркивает Астафьев, «необходима уже объективация этих образов и представлений в слове». Только «объективация мысли в слове» делает возможной мысль о мысли; в слове осуществляется мысль, изучающая себя, осуществляется переход к «мышлению сознательному, рефлектирующему», переход «от простого непосредственного сознания к самосознанию» [47: 167–168].
Сразу бросается в глаза: слово рождается у Астафьева не из потребностей общения, не как средство пресловутой «межличностной коммуникации», а из потребностей внутреннего духовного развития, как неотъемлемый элемент актов самосознания. Астафьев прекрасно сознаёт, что он идет здесь вразрез с господствующими (и по сей день) взглядами. Отмечая «существенно творческую роль слова в процессе развития внутреннего духовного мира отдельного человека», он добавляет, что это развитие происходит «даже и в совершенном уединении, при неимении к кому вне себя обратиться с речью» [47: 168]. Конечно, здесь налицо определенное преувеличение. Но, во-первых, Астафьев говорит о том, как рождается внутреннее слово, а не о том, как оно обретает внешнее звучание. В последнем случае окружающие человека люди играют, без сомнения, свою роль – но это роль акушерок, повитух, а не роль родной матери слова, которой может быть только душа, обращающаяся к себе, душа самосознающая.
Во-вторых, также и там, где речь идет о внешнем словесном общении, его настоящий смысл заключен не в языке общения самом по себе, а в тех субъектах, которые пользуются тем или иным языком. Особенно ясно пишет Астафьев о субъекте, воспринимающем слово. Подчеркнув, что словá «не переносят готовые мысли в чужой ум, не передают мысли, как деньги», он выражает самую суть своего взгляда на словесное общение следующим образом: «Я только в той мере действительно передал мою мысль <…> моему слушателю или читателю, в какой последний сам ее мыслит, сам собственною деятельностью вносит определенность и полноту содержания в тот намек на мысль, который я дал ему своим словом, знаком, картиною: человек лишь постольку понимает другого, поскольку понимает себя» [47: 169]. Таким образом, слово, услышанное или прочитанное мною – это лишь намек на мысль; намек, который идет впрок только в том случае, когда слово возбуждает «чисто внутреннюю деятельность мысли слушателя или зрителя»; ту деятельность, которая только и порождает понимание. Исключительно важно и то, что самопонимание является предпосылкой понимания другого – центральный принцип персонализма, вывернутый наизнанку «постмодернизмом».
Астафьев энергично подчеркивает индивидуальность (или, точнее, субъектность) понимания: нет «понимания вообще», нет понимания, вполне одинакового у разных субъектов. Напротив, у каждого человека «понимание произведений слова, как и произведений других искусств, <…> как основанное на его собственной духовной самодеятельности, субъективно, индивидуально, не вполне тождественно с пониманием другого». Необходимо ясно уловить нетривиальный смысл этого убеждения Астафьева. Дело не только в том, что разнообразие пониманий является чем-то вполне естественным. Суть дела в другом – в том, что это разнообразие неустранимо; а точнее, в случае его устранения, в случае торжества вполне единообразного понимания – исчезает понимание как таковое, как творческая деятельность sui generis. «Чем меньше этой душевной самодеятельности, тем менее понимается содержание речи, а только узнаётся, принимается к сведению – пишет Астафьев и добавляет: «Все духовно-образовательное значение и действие речи и произведений искусства лежит именно в способности их содержания быть субъективно и индивидуально понятым, возбудив душевную самодеятельность понимающих» [47: 169].
Мы видим, как настойчиво говорит Астафьев о принципиальном значении самодеятельности. Нельзя не отметить, что позже, в злополучную «советскую эпоху» это слово попытались сделать синонимом «непрофессиональной», неполноценной деятельности. Ничего удивительного. Советская идеология, антинациональная и русофобская, страшилась и настоящего творчества, и настоящего понимания, источником которых является свободный и самостоятельный субъект. Тот субъект, в котором Астафьев видел единственно истинное бытие. С безупречной точностью он отмечал: «Знание, пассивно усвояемое, <…> может быть совершенно безличным, тождественным во всех умах, которым оно отвне сообщается <…>; но понимание, как дело душевной, свободной самодеятельности <…>, всегда разнообразно, всегда имеет индивидуальный, личный оттенок» » [47: 171].
Заметим, что Астафьев использует одно из излюбленных слов Ап. Григорьева: оттенок. И так же, как у Григорьева, «оттенок» не означает у Астафьева нечто второстепенное, несущественное по сравнению с неким основным «цветом». Для Астафьева, как и для Григорьева, самый цвет бытия складывается из разнообразных оттенков. Он видел, конечно, и те серьезные проблемы, которые порождает коренное многообразие личностного бытия, приводя в связи с этим слова В. фон Гумбольдта о том, что «всякое понимание чужой мысли <…> есть вместе с тем и некоторое непонимание ее, всякое согласие с нею – вместе и некоторое несогласие» [47: 172]. Еще раз подчеркнем: так и должно быть в силу многообразия понимающих субъектов, для каждого из которых основной целью является самопонимание. Если же имярек не способен должным образом приблизиться к этой цели, он никогда не приблизится и к пониманию другого. Там же, где понимание субъекта вообще отсутствует и подменяется «пониманием объекта» – там понимание просто исчезает, как это и произошло в так называемых естественных науках, особенно в связи с полным непониманием «феномена жизни».
Итак, понимание, по самой сути своей, является личностным (и потому различным), и только в производном смысле – межличностным. Повторим еще раз слова Астафьева: человек лишь постольку понимает другого, поскольку понимает себя. Лишь осознав этот фундаментальный факт, можно правильно, с должной серьезностью поставить проблему взаимопонимания.
На этом можно было бы и закончить изложение статьи «Перерождение слова», выявив ее главные моменты и предоставив самому читателю понять ее глубже и полнее, чем это сделано в этой краткой главе. В частности, выявив триаду «образ – мысль – слово», Астафьев не разъяснил роли понятия, хотя и проник в самую суть понимания. На мой взгляд, это связано с тем, что он говорит о мысли, подразумевая под нею и понятие, и суждение, и умозаключение. Таким образом, мысль шире понятия и потому способна превращать в «мысленные содержания» те образы, которые невыразимы в каком-то одном понятии. Например, «мальчик играет с мячом» – это, с одной стороны, образ, а с другой – мысль в форме суждения.
Явно не хватает в статье Астафьева и соображений о значении родного языка, хотя они могли бы существенно подкрепить его основную мысль, поскольку только в пределах родного языка может возникнуть настоящее (хотя тоже не полное) взаимопонимание. Здесь снова уместно вспомнить П. А. Вяземского, строки из его стихотворения, посвященного памяти поэта Ивана Ивановича Дмитриева (1760–1837):
Хоть он Карамзина предпочитал Шишкову,
Но тот же старовер, любви к родному слову,
Наречием чужим прельстясь, не оскорблял
И русским русский ум по-русски заявлял.
Но, не пытаясь дальше «додумывать» статью Астафьева за читателя, я считаю уместным связать с нею один эпизод из истории русской философской культуры, эпизод в общем-то «мелкий», но поучительный. В июне 1891 г. в письме к В. В. Розанову из Оптиной Пустыни К. Н. Леонтьев указал на Астафьева как на единственного автора, который «отдал справедливость» идее Леонтьева о пагубности «смешения». Не будем сейчас обсуждать оригинальность этой идеи, которая была озвучена на Западе Фридрихом Ницше (1844–1900) и не им одним. Речь сейчас о другом. Публикуя указанное письмо Леонтьева уже в начале следующего века (в журнале «Русский Вестник»), Розанов счел необходимым высказать (в примечании к письму) свое мнение об Астафьеве, сложившееся на основании «двух брошюр» последнего, присланных тем же Леонтьевым. Название брошюр Розанов не привел, да он их и не читал по-настоящему, а «повертел в руках» и «бросил», поскольку «литературная речь» Астафьева была «чудовищно мертвенна, непонятна, неуклюжа» [18: 368].
Мы уже рассмотрели ряд работ Астафьева, которые я обильно цитировал. Правда, в отдельных случаях я «облегчал» их язык, прибегая к небольшим пропускам (всегда отмеченным отточиями), но в целом читатель может судить, как мне кажется, о справедливости обвинений Розанова, сделанных им в самой резкой форме. Не отвечая хамством на литературное хамство Розанова, попробую сформулировать свои возражения более корректно. Прежде всего, замечу: Розанов почемуто пишет ««литературная речь» вместо того, чтобы написать: «философский язык». Думаю, дело не в том, что Розанов имел в виду «литературу» в самом широком смысле слова. Просто, с определенного момента, он стал смотреть на философию как на литературный жанр, где-то рядом с беллетристикой и журналистикой. Между тем, философия кардинально отличается от любого литературного жанра тем, что всегда требует от читателя специфического интеллектуального усилия, притом самого напряженного: понять написанное философом. Розанов же, потерпев фиаско со своим трактатом «О понимании», стал относиться к указанному требованию с откровенной неприязнью. Иначе бы он не написал, вслед за издевательствами в адрес Астафьева, глупые похвалы в адрес Леонтьева: «он пишет легко, ярко, выразительно», «в речи его нет ни непонятностей, ни лишних слов». Выделенное Розановым словечко выдает его с головой. Философский текст, в котором нет «непонятностей», то есть в котором всё сразу понятно – это вовсе не философский текст, а в лучшем случае публицистика, притом свободная от всякого груза философии.
«Прекрасное – трудно». Этой пословицей кончается диалог Платона «Гиппий Больший». Философия несравненно труднее публицистики с журналистикой в придачу, даже если публицист, типа Леонтьева, и журналист, типа Розанова, пробуют «пофилософствовать». Астафьев, несомненно, труден, в том числе и по причине тяжеловесности своего языка. Но тяжеловесность для философа – куда меньший грех, чем легковесность. И даже, если подумать, вовсе не грех, если эта тяжеловесность заставляет нашу мыслящую душу трудиться с особенным напряжением. С тем высшим напряжением, которого требует от души самопознание.
Глава 9. Душа – окно в трансцендентное
Весною 1893 года, незадолго до смерти, Петр Астафьев выпустил в свет книгу «Вера и знание в единстве мировоззрения», которой он придавал совершенно особое значение. Высокая требовательность к себе побуждала его признать, что все его прежние работы имели характер «только случайных отрывков, в лучшем случае – намеков на какое-то мировоззрение» [10: II]. Действительно, отпечаток отрывочности и незаконченности в его прежних работах есть. Но есть и другое. В его работах, рассмотренных нами выше и взятых в совокупности, присутствует магистральная линия, которая если и не составляет целостного мировоззрения, то образует его главную ось, его стержень. По словам самого Астафьева, «руководящая мысль, которая лежит в основе всех этих отрывков – убеждение, что сознание как ведомая себе деятельность, воля, субъект, есть и первое самоочевидное начало всего знания, и единственное истинно сущее, начало реального бытия» [10: III]. Этому убеждению он остался верен и в своей последней книге, где оно было уточнено, дополнено и углублено.
Впрочем, и эта книга состоит, с некоторыми дополнениями, из трех «отрывков»: статей, опубликованных в 1891–1892 гг. Так что «отрывочность», а лучше сказать – склонность к созданию не обширных трактатов, а сравнительно кратких эссе, «опытов», посвященных конкретной проблеме, являлась органической особенностью его творчества. Помешала ли эта склонность тому, чтобы философско-психологическое учение Астафьева приняло характер целостного мировоззрения? Вопрос отнюдь не праздный, поскольку именно в мировоззрении он видел высшую цель философского творчества.
Об этой цели Астафьев пишет с почти религиозным воодушевлением: «Обладать определенным и ясным мировоззрением – есть великое блаженство, доставляет высочайшее и глубочайшее духовное удовлетворение». Но что такое мировоззрение? Для многих это фактически синоним системы, все части которой взаимосвязаны и предлагают всесторонний, «всеохватный» взгляд на мир [50]. Астафьев смотрит на дело существенно иначе. Он пишет: «Обладает мировоззрением только тот, чья мысль, чувство и воля самодеятельно, собственною работою участвовали в его построении, – хотя бы и несовершенном и неполном, но непременно самодеятельном. Получить мировоззрение отвне совершенно готовым – нельзя; его нужно самому выжить всей своей душою. Поэтому и вся задача философа не в том, чтобы дать такое вполне готовое мировоззрение, но в том, чтобы поставить в ее истинном значении проблему мировоззрения и указать пути и основные руководящие начала ее разрешения. Только в этом заключается и преследуемая мною задача» [10: V].
Эта замечательная характеристика мировоззрения (и мировоззренческой задачи философа) заслуживает самого тщательного анализа. Выделим сейчас только один ключевой момент. Пустое дело: перебирать философские сочинения «в поисках мировоззрения». Даже если оно нам встретится, это будет мировоззрение автора, но не мировоззрение читателя. Последний должен самодеятельно создать свое собственное мировоззрение; что касается прочитанной книги, то она может помочь ему правильно поставить проблему мировоззрения и указать пути, ведущие к ее решению. Но идти по одному из этих путей должен уже сам читатель. Более того, отправляясь от идей автора, он, возможно, найдет и свой путь к мировоззрению. В любом случае автор сделал нечто важное: пробудил в читателе спящего в нем философа. П. Е. Астафьев, безусловно, принадлежал к немногочисленной когорте таких авторов.
Если не парадоксальным, то достаточно неожиданным является тот факт, что последняя книга Астафьева начинается с главы «Религиозное “обновление” наших дней». Конечно, нет ничего удивительного в интересе Астафьева к теме, указанной в названии главы, которая впервые появилась как статья в ряде номеров газеты «Московский листок» в конце 1891-го года. Но начинать теоретико-философское исследование со статьи, напечатанной, по словам Астафьева, в газете «вполне популярной и далекой от всяких требований научности» – значит поступать по меньшей мере странно для мыслителя, всегда высоко ставившего требование научности (в широком смысле последовательного и аргументированного мышления). Попытаемся понять эту странность.
Вспомним, прежде всего, что религиозная тематика как таковая – достаточно редкий гость в философскопсихологических работах Астафьева. Пожалуй, только один раз – при анализе чувства – он заключает свое исследование характеристикой (достаточно беглой) христианского понимания любви. Но в других случаях нет и этого. Например, такая принципиальная работа Астафьева, как эссе «К вопросу о свободе воли», мимоходом отмечает только негативное влияние богословия на решение указанного вопроса.
И вот последний, итоговый труд Астафьева прямо начинается с религиозной темы. Невольно возникает мысль, что автор решил, наконец, сформулировать свою «религиозную философию». Однако подобная догадка далека от истины. Астафьев был убежден, что философия (и тесно связанная с нею психология) имеет собственный философско-психологический фундамент и не нуждается в богословских подпорках.
Но не менее ясно он понимал и то, что религия является важнейшей потребностью человеческого духа, потребностью более насущной, чем потребность в философии. В связи с этим для него не мог не встать вопрос о взаимном значении религии для философии и философии для религии. Именно это взаимное значение и устанавливает Астафьев, отправляясь в своих рассуждениях от современной ему религиозной действительности, в ее реальном состоянии, в котором преобладал дух «популярного» проповедничества. Теперь посмотрим, как конкретно прокладывает Астафьев путь от такой действительности к пониманию взаимосвязи религии и философии.
О «религиозном “обновлении” наших дней», считает Астафьев, дает право говорить «видимое оживление в современном обществе интересов религиозно-нравственных, пробуждение в нем вопросов, которые так недавно еще почитались частью решенными, частью упраздненными положительною наукой и политическою, социальною и экономическою мудростью XIX-го века» [10: 3]. «Религиозная идея», продолжает Астафьев, «всего ярче и недвусмысленнее» заявляет о себе «в России, Франции и Северной Америке». Заявляет по-разному, как среди тех, кто опирается на христианское учение, стремясь «глубже, полнее и яснее усвоить его и провести в жизнь», так и среди тех, кто ищет «нового религиозного начала – то в фантастической “религии человечества”, то в “религии прогресса”, то в религии “мировой эволюции”» [10: 4]. Тем не менее, «“религиозная идея”, а не какая-либо иная», является здесь руководящей, составляет «краеугольный камень» духовных исканий.
Астафьев особо выделяет произведения Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого, которые «подняли не только в умах огромной массы русского общества, но и на Западе, в глубоко деморализованной буржуазной Франции, вопрос религиозно-нравственный, временно заглушенный всеми похотями политической борьбы и погони за наживой, но не забытый» [10: 5–6]. Начатое русскими писателями дело «нашло себе много продолжателей», которых объединяет «критика утилитарно-социальных, мелкобуржуазных идеалов жизни», и с этой критикой Астафьев соглашается тем охотнее, чем она «смелее, резче, беспощаднее». Но есть между большинством представителей этой критики и положительная близость, близость не только в отрицании, но и в утверждении. Именно эта последняя близость имеет решающее значение, определяет главную особенность современного религиозного «обновления», которое в действительности несет на себе явную печать отвергнутого, казалось бы, позитивизма и утилитаризма.
О какой же особенности идет речь? Астафьев дает здесь совершенно определенный ответ, актуальный не только для конца XIX века, но и для начала XXI века. Он пишет: «Тенденция – видеть выражение всей религиозной задачи в устроении идеально-нравственных отношений на земле между членами общежития и человеком и природою, или в содействии делу нравственно-социального прогресса, реформы земных отношений и учреждений в духе требований религиозного учения – для современной религиозно-нравственной мысли решительно наиболее характеристична» [10: 9]. Непосредственным следствием этой тенденции является признание «религиозных догматов и таинств лишь со стороны того поучения для земной нравственной жизни, какое можно из них вывести», а порою и отрицание «всей метафизической, мистической и обрядовой стороны религии». Здесь же – источник «скептического отношения ко всему сверхопытному, трансцендентному», к учению «о личном Боге, личных отношениях к нему человека, о личном бессмертии». Все это если и признаётся, то далеко уступает по важности «перед значением задачи морализации земной жизни, устроения на земле и для земли идеальных нравственных отношений, “царствия Божия” в условиях земной действительности» [10: 9–10].
На мой взгляд, весьма поучительно сопоставить эту характеристику «религиозного “обновления”» с нашей современностью – например, с «Основами социальной концепции Русской Православной Церкви», принятыми на Архиерейском Соборе 2000 г. Здесь уже не отдельные «религиозные мыслители», а РПЦ в целом прямо связывает «миссию спасения рода человеческого» и «благие дела, направленные на улучшение духовно-нравственного и материального состояния окружающего мира» [51]. Заметим: речь идет теперь не только о нравственном, но и о материальном «состоянии», улучшению которого берется содействовать Церковь – «прогресс», как говорится, налицо. Причем в этом «улучшении», как сообщает тот же документ, Церковь готова сотрудничать «с различными общественными ассоциациями и отдельными людьми, даже если они не идентифицируют себя с христианской верой», то есть, проще говоря, с иноверцами и безбожниками. Стоит ли удивляться тому, что среди нынешних «патриотов» стало обычным делом без тени смущения определять свое отношение к религии бредовым словосочетанием «православный атеист»?!
Конечно, во времена Астафьева до подобного бреда дело еще не доходило, но его предпосылки уже присутствовали. Свою общую характеристику «религиозного “обновления”» Астафьев подкрепляет рядом примеров, среди которых наиболее интересны для нас, конечно, не взгляды всевозможных англо-американских проповедников, а учения известных представителей русской культуры, Л. Н. Толстого и В. С. Соловьева [52]. При этом «общая и коренная тенденция нравственно-религиозной мысли современности» выражается, по мнению Астафьева, «в гораздо более философски обоснованной, с виду глубокой и систематической форме» [10: 12–13] у Владимира Соловьева.
Воззрения Соловьева выглядят предпочтительнее толстовского учения, прежде всего, потому, что он «придает высокое значение метафизическому и религиозному догмату». Прав Соловьев и в том, что «спасение, принесенное миру христианством», не есть «роковой свершившийся факт», но задача, осуществляемая «под условием нравственной самодеятельности человечества». Однако в понимании этой задачи Соловьев совершает явную подмену: суть дела «он видит исключительно в нравственно-социальном прогрессе, в устроении на земле между людьми таких идеально-нравственных отношений, при которых земная жизнь обратилась бы в царство Божие» [10: 13].
Таким образом, весь громоздкий метафизический и мистический аппарат учения о «Всеединстве» и «Богочеловечестве» понадобился Соловьеву именно для фундаментального обоснования той же «религиозной идеи», которую какой-нибудь «достопочтенный Мак-Дональд» высказывал куда проще и незатейливее. Впрочем, рано или поздно Соловьев был должен выразить свои основные убеждения открыто – и он сделал это, как отмечает Астафьев, в нашумевшем реферате «Об упадке средневекового миросозерцания» [53]. Здесь он не только сформулировал свое «определение» религии, принципиально неотличимое от толстовского: «Сущность религии в том, что ее истина не отвлеченно-теоретическая, а утверждается как норма действительности, как закон жизни» [54: 353], не только осудил задачу личного душеспасения как «односторонний индивидуализм», мешающий спасению «христианского общества, христианского мира» [54: 355]. Он довел внутреннюю логику своей мысли до nec plus ultra. Указав на «социальный прогресс» (происходивший «по крайней мере на Западе»), Соловьев призвал «не ужасаться» той мысли, что «Дух Христов действует через неверующих в Него», то есть через тех, кто осуществлял «весь социальнонравственный и умственный прогресс последних веков» [54: 357]. Можно уверенно сказать, что именно В. С. Соловьев стал «предтечей» того «обновленчества», которое увлекло после революции 1917 г. ряд церковнослужителей на позорное «сотрудничество» с коммунистическим режимом.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?