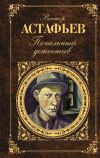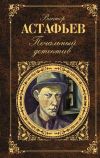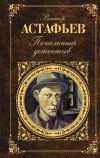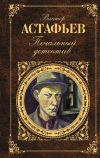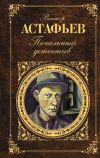Текст книги "Истина и душа. Философско-психологическое учение П.Е. Астафьева в связи с его национально-государственными воззрениями"

Автор книги: Николай Ильин
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Что касается Астафьева, то он не «ужаснулся» выходке Соловьева [55], а четко выразил самую суть «характерной тенденции нашего религиозно-нравственного возрождения», какой бы вид эта тенденция ни принимала. Суть здесь проста: «Это – религия и нравственность человечества, отвернувшегося от всякого помысла о чем-либо трансцендентном, не опытном, существующем не для земли, не в ее условиях и не для ее задач» [10: 15–16]. И еще лаконичнее: «Везде мысль одна: упразднить небо, свести его на землю, сделать его земным» [10: 17].
Но первоисточник этой мысли – не в сочинениях Л. Толстого, Вл. Соловьева или «американских обновителей нравственности». Религиозное «обновление» конца XIX века является, считает Астафьев, прямым продолжением того умственного движения, которое господствовало в общественной жизни Европы уже многие десятилетия, выступая под названиями утилитаризма, эволюционизма, эмпиризма, позитивизма, то есть всего того, что объявляло себя «научной философией». Последовательно осуждая «стремления человеческой души из этого окружающего ее опытного земного мира в тот высший, трансцендентный», большинство представителей этой философии до поры до времени избегало обсуждать вопросы религии более развернуто, «просто исключая их из своего мировоззрения». Но наступил момент, когда интерес к этим вопросам, «после долгого забвения, сразу чрезвычайно оживился». И тогда, в борьбе за сохранение своего влияния, «научная философия» распространила на религию и религиозную мораль свое основное требование – отрицание трансцендентного. Сделать это было тем проще, что от людей, привыкших верить в догматы «научной философии», «здесь не требовалось непосильного отказа от своих привычек и задач». По точному выражению Астафьева, в то же «русло, в котором текла долгое время умственная жизнь, <…> была принята и стоявшая дотоле вне его, в стороне от течения, религиозная идея» [10: 19]. Здесь снова уместно сравнение с нашей современностью. В течение 70 лет в головы «советских» людей вбивался «научный материализм» как единственно верное учение. Но вот наступило официально разрешенное «религиозное возрождение», и миллионы вчерашних «научных атеистов» превратились в «верующих». Превратились, за редкими исключениями, без настоящей перемены ума, без ясного осознания абсурдности материализма, в русло которого и вошло очередное «религиозное “обновление”» в России конца XX – начала XXI вв. Отсюда – нелепое отождествление Бога с каким-нибудь «информационным полем Вселенной» и прочими «научными» химерами; отсюда – сногсшибательный успех книг типа «Несвятые святые», в которой все «не придуманные истории» рассказывают о том, как религия помогает избавиться от земных страданий и обрести земное благополучие (включая, например, успешную сдачу экзаменов). Отсюда тяга к «религиозной философии» того же Соловьева, в которой коммунистическая утопия заменяется утопией теократической.
Конечно, Астафьев мог бы добавить, что утопия «Царства Божия на земле» и до Соловьева имела в России своих энтузиастов: П. Я. Чаадаева [55а] и его мнимых оппонентов, таких, как «славянофилы» А. С. Хомяков и Ю. Ф. Самарин, бойко рассуждавшие о «всемирной общине» как цели религиозного развития. Да и Ф. М. Достоевский в 1870-е годы воспевал «всемирное общечеловеческое единение» и верил, что «православие еще встретится с социалистами» [56: 276]. Впрочем, и эти певцы земного осуществления религиозных чаяний черпали вдохновение в трудах западных представителей «утопического социализма», типа Сен-Симона и Фурье. Вообще, Астафьева можно упрекнуть в том, что он не отмечает (или не замечает) более глубоких корней «религиозного “обновления”», уходящих в хилиазм первых веков христианства. Но заострять внимание на истории вопроса – значит не вполне понимать задачу, которую пытается решить Астафьев в первой главе своего последнего сочинения: установить то значение, которое имеет религия для философского мировоззрения.
Решая эту задачу, Астафьев, как мы видим, энергично дистанцируется от того типа религиозного сознания, который, хотя и существовал всегда, стал особенно распространенным в образованном обществе конца XIX в. Религия оценивается здесь преимущественно с утилитарно-практической точки зрения, но не «эгоистическиличной», а озабоченной вкладом религии в улучшение, совершенствование и даже «преображение» земного бытия всего человечества. Другая немаловажная особенность этого типа состоит в том, что религия вступает здесь в союз с культом естественных наук, который сложился в XVIII–XIX вв. (и сохраняется по сей день). Конечно, всегда было немало желающих заменить религию наукой; откровенное стремление сделать науку новым «опиумом народа» выразил, как известно, марксизм. Но более проницательные умы, такие, как Сен-Симон и Огюст Конт, поняли еще в первой половине XIX в., что лучшие перспективы имеет альянс науки, в ее позитивистском понимании, с религией, сулящей человечеству земное благополучие.
Астафьев, конечно же, уточнил бы: альянс науки и религии, изменивших своему назначению. Но в чем состоит назначение религии, если не в водворении на земле «царства Божия» или хотя бы в содействии тому «социально-нравственному прогрессу» (как любил выражаться Соловьев), который это царство приближает? Астафьев отвечает на этот вопрос совершенно определенно, ясно формулируя свое понимание того, чем не является и чем является подлинная религия: «Религия, не признающая никакой области трансцендентного – ничего, лежащего за пределами земного, опытного мира и жизни, и никаких личных отношений человека к этому трансцендентному миру, – есть все что угодно, только не религия. Самая потребность человечества в религии, от самой колыбели его до последних дней – есть именно потребность в мире трансцендентном, восполняющем все несовершенства, исправляющем все зло, всю неправду и всю бессмысленную, часто ничем видимым не оправдываемую случайность и муку его опытного, земного бытия» [10: 23].
Вот суть религии – она удовлетворяет потребность человека в личных отношениях к трансцендентному миру. Чем вызвана эта потребность? Из приведенных слов ясно, что ее вызывает глубокое несовершенство «опытного, земного бытия». Но если мы свяжем это несовершенство только с теми страданиями, которые испытывает человек в этом мире, мы поймем мысль Астафьева не до конца. Страдания лишь пробуждают в нас тот вопрос, который у глубоко мыслящего человека может возникнуть и в условиях относительно благополучного существования. «Это – вопрос о внутреннем смысле, значении этой действительности, один механический строй которой лишь более или менее разъяснен разумом». Другими словами, действительность этого мира остается «для мысли только данною ей действительностью, случайным фактом или совокупностью фактов, оправдание которой из ее внутреннего смысла еще не найдено. Но ограничиваться пониманием окружающего мира и собственного бытия как фактов, которые только случайно даны и о которых более или менее известно лишь как они даны и протекают, но не почему и для чего они даны, существуют, – значит для мысли остановиться на признании и бытия известного ей мира и собственного бытия со всеми его заботами, трудом и страданием – за голую, ничем не оправдываемую случайность. Это значит и покорно подчиниться этой случайности, как чему-то неизбежному, хотя и ничем не осмысленному. Что может быть безотраднее?!» [10: 24].
Таков первоисточник мысли о трансцендентном: в этом земном мире человек не просто страдает, но страдает бессмысленно; наша мысль вынуждена признать и существование мира, и существование самого человека, в счастье, равно как и в несчастье, только случайным фактом. Есть единственная возможность избежать этого безотрадного вывода: «необходимо признать, что этот опытный, данный мир – не всё. Необходимо признать, что за его пределами и в его основе есть другой, высший мир, придающий смысл и значение и этому опытному, – мир трансцендентный» [10: 24–25]. Астафьев подчеркивает, что идея трансцендентного мира не является только продуктом умозрения, метафизики; «человечество никогда, ни на какой ступени своего развития, не обходилось без гаданий об этом <…> мире», «как бы грубы, нелепы и жестоки ни были первобытные представления человека». Таким образом, мысль о трансцендентном мире является общечеловеческой, и это обстоятельство, как мы увидим ниже, имеет принципиальное значение для мировоззрения Астафьева.
Вместе с тем, очевидно, что именно понятие трансцендентного составляет связующее звено между религией и философией, богословием и метафизикой. Не будем, однако, спешить и уже сейчас уточнять эту связь, а проследим за рассуждениями Астафьева, выделяя их главную линию.
Итак, сознание «массы ни для чего не нужного и ни к чему не ведущего страдания» в этой земной жизни соединяется в человеке с сознанием возможности и даже необходимости (и нравственной, и логической) иного, совершенного мира. Это соединение может иметь различный характер, принимать различные формы, но наиболее высокой, достойной человеческого духа является форма, о которой Астафьев пишет следующее: «Необходимое для внутренней крепости, осмысленной полноты, цельности и законченности духовной жизни вообще – признание за пределами и в основе земной действительности трансцендентного мира, чуждого ее несовершенства и неразумия, выражается наиболее полно и отчетливо в форме религии» [10: 27]. Вдумаемся в эти слова. Они говорят о том, что не всякое соединение мысли о несовершенном мире с мыслью о мире совершенном является религией в настоящем смысле слова. Эта последняя требует куда большей определенности и глубины, выраженных в следующих словах Астафьева: «Самое существо религии состоит в понятии о том или ином определенном отношении земного мира и человека к сверхъ-опытному, трансцендентному миру, трансцендентной силе, трансцендентному существу» [10: 28].
Ясно, что в свете такого определения религии «религиозное “обновление”», с критики которого Астафьев начал свою книгу, не является, строго говоря, религиозным. Отметив, что слово религия «обозначает прежде всего связь, соединение или воссоединение», Астафьев спрашивает: «чего же именно связь, воссоединение осуществляется и выражается в религии?». И отвечает, что это «не связь в жизненных отношениях между людьми, нормирующая их деятельность»; такая связь – «дело нравственности, права и политики». Религия же – это «связь именно всей земной действительности, во всем ее объеме, с миром, необходимым для духовного мира человека, поставленного среди этой действительности, но не исчерпываемого ею. Это связь действительности с миром трансцендентным, который не менее реален, чем самый духовный мир человека» [10: 28].
Мы видим, что Астафьев вполне определенно отличает религиозную связь от «жизненных отношений» между людьми. Но при этом он настойчиво подчеркивает личностный характер религиозной связи. Именно потому, что внутренний, духовный мир человека, мир духовной личности, не исчерпывается земной действительностью, в нем рождаются мотивы религиозного характера; мотивы, которые требуют «отношений к трансцендентному <…> именно для личного духа». Личность, личный дух, духовная личность – эти слова буквально не сходят со страниц книги Астафьева, когда он характеризует религиозную связь как таковую. Впрочем, те же слова приобретают особый вес, когда он отмечает всяческие подмены этой связи, выделяя среди них подмену особенно коварную, обряженную в сугубо церковные одеяния – теократию. В частности, он пишет: «Отнять у трансцендентного мира его неземной, трансцендентный характер, сделать его позитивным, как стремится теократия, отринуть отношения личного духа к этому неземному, ни в чем земном не выразимому и не осуществимому миру <…>, – значит отвергнуть самые основные мотивы какого бы то ни было “религиозного” мировоззрения вообще» [10: 28–29]. Здесь уместно добавить, что пламенный пропагандист теократии Вл. Соловьев совсем не случайно отвергал личное самосознание с такой же яростной энергией, как и национальное самосознание.
Именно после того, как Астафьев ясно сформулировал суть религии как личного отношения человека «к сверхъ-опытному, трансцендентному миру, трансцендентной силе, трансцендентному существу», – становится понятно, что самое острие его критики «религиозного “обновления”» направлено против теократической идеи – и теократической действительности. Говоря о последней, Астафьев отмечает: «везде, где теократически сложилась действительно вся жизнь, до последних ее обыденных мелочей, как, например, у евреев или китайцев», там религия в собственном смысле слова «теряет и в глубине, и в полноте, и в жизненности», «материализуется и вульгаризуется», «становится делом мелкого житейского обихода» [10: 31]. Не менее жестко осуждает Астафьев и «римский католицизм», который потребовал воплощения религиозной идеи «в опытной действительности», «учреждения видимого “царствия Божия на земле”, и пришел – к обоготворению самой земной Церкви, заслонившей от человека того истинного Бога, который есть “на небеси”» [10: 33].
Итак, религии нет там, где господствует стремление сделать наш несовершенный мир «более совершенным». В таком стремлении мы не выходим за пределы этого мира, действуем всецело внутри него. Религия требует совсем другого, требует выхода личного духа к трансцендентному, «к этому неземному, ни в чем земном не выразимому и не осуществимому миру». Попытаемся глубже понять эти слова Астафьева. Сделать это необходимо еще и потому, что определение религии как связи с трансцендентным еще не гарантирует само по себе от соблазнов «религиозного “обновления”». Так, один из самых известных представителей «русской религиозной философии» С. Н. Булгаков в своем основополагающем произведении много говорит про «опознанное в религиозном опыте Трансцендентное», о том, что «основная данность религиозного вообще есть трансцендентное» [57: 24–27] и т.д. и т.п. Но это нисколько не мешало ему распространять ересь «софиологии» и заигрывать с идеями «христианского социализма» [58].
Понятие трансцендентного мира у Астафьева содержит, на первый взгляд, следующую принципиальную неясность. С одной стороны он самым решительным образом настаивает, что этот мир не выразим и не осуществим ни в чем земном; на этом убеждении построена вся его критика теократии и «религии прогресса». С другой стороны, «в признании трансцендентного мира» Астафьев видит признание мира, не только «разумного и совершенного сам в себе», но и «придающего разумность и ценность и миру опытному своими отношениями к последнему» [10: 25]. Но как можно придавать чему-либо разумность, никак в нем не проявляясь?
Астафьев не оставляет это недоумение без внимания, хотя и не формулирует ответ на него прямо. Он снова обращается к теме утилитаризма. «Человек утилитарной морали» (а разве не таково абсолютное большинство современных людей?) стремится к достижению «целей, группирующихся около одной центральной цели: личного или общего благополучия, благоденствия» [10: 36]. Такой человек верит, что его цели достижимы при условии правильного выбора средств, путем разумного приспособления к наличной действительности. Но его надежда оказывается тщетной, ибо эта действительность является в высшей степени ненадежной. Она ненадежна даже в тех случаях, когда человек ставит перед собою вполне прозаические задачи. Но чем «задача отдаленнее, общее, выше, чем условия ее осуществления сложнее» – тем она безнадежнее, ибо действительное разрешение такой задачи «зависит от бесконечной массы условий, внешних человеку, стоящих вне его власти и расчета и в громадном большинстве даже вовсе ему и неизвестных». Вся память человечества говорит о том, что «с одними понятиями целей и средств для направления своей нравственной жизни человек в этой жизни неизбежно подчинялся всем колебаниям и условностям этих целей и средств» [10: 36–37].
Тем не менее, стремление к высоким целям не угасало – по той очевидной причине, что человек видел в них не просто цели, но идеалы. Не бухгалтерия «средств и целей», но неизменно связанное с идеалами сознание долга составляет истинный двигатель нравственной жизни человека. Составляет несмотря на то, что «действительность всегда представляла и будет представлять, какой бы громадный нравственно-социальный прогресс ни совершался в обществе, своей случайностью, неправдою и неразумностью, постоянный вопиющий протест против идеалов, против их реальности и действенности» [10: 39].
Значит ли это, что нравственный идеализм человека является, по сути дела, иррациональным, даже просто бессмысленным, раз он так явно вступает в противоречие с действительностью? Нет, не значит – но только если в человеке живо сознание того, что безусловный идеал и безусловный долг имеют свою «почву не во внешней опытной действительности, <…> но именно в трансцендентном мире, в котором устранен раз навсегда всякий вопрос об условиях осуществимости, о последствиях и т.п. Идея безусловного долга коренится только в этой области и ей нет места там, где трансцендентный мир вовсе отрицается, и не признаётся ничего, кроме опытной действительности с ее условностью, гадательным “соображением последствий” и целесообразностью, как руководящими волею началами» [10: 40]. А это значит, что иррационален именно претендующий на «рациональность» утилитаризм, который, с одной стороны, выдвигает свои «идеалы», а с другой – отрицает трансцендентный мир, «связью с которым человеческий дух возносится выше всяких сомнений, неправд и лжи земной действительности» [10: 38].
Таким образом, в вопросе о том, существует ли связь земного мира с трансцендентным миром, нельзя забывать о главном – о человеке. Без него никакой связи между этими мирами нет; с ним – связь между ними в определенном смысле существует. Астафьев пишет об этом так: «В этот земной опытный мир помысел о трансцендентном и стремление к нему вносит только человеческий дух, поскольку он сам “не от мира сего”, то есть возвышается над последним с его задачами, интересами и судьбами, освобождается от тесных уз “мира сего” составляющим его внутреннюю силу идеалом. В этом сильном, живом и освобожденном своим безусловным идеалом духе и лежит то царство Божие, о котором сказано, что оно “внутрь нас есть”» [10: 42–43].
Теперь понятно, что Трансцендентное представлено в человеческом духе, хотя и не исчерпывается им. А точнее, оно представлено – как царство Божие, которое «внутрь нас есть» (Лук. XVII: 21) – в душе каждого человека, который является духовной личностью, то есть личностью, открытой Трансцендентному.
Читатель вправе отметить: если религиозный смысл понятия «Трансцендентного» высказан у Астафьева достаточно ясно, то этого не скажешь о философском смысле этого понятия. Соглашаясь с читателем «в общем и целом», подчеркну, однако: из всего, что сказал Астафьев выше, очевидно следующее: мы способны познать Трансцендентное лишь настолько, насколько способны познать человека. Поэтому путь к познанию Трансцендентного проходит через человека, через его внутренний, или имманентный мир. Вот парадокс философии религии: Трансцендентное приоткрывается в имманентном, в душе человека.
С характерным для него пафосом выразил эту «тайну души» (или Подруги) Федор Николаевич Глинка (1786– 1880) в стихотворении 40-х годов, из которого я приведу две строфы:
У души есть свои наслажденья,
У души есть заветный свой мир:
Своя вера – свои убежденья,
У души свой таинственный пир!
……………………………………
Хоть Подругу наш остов телесный
По житейской таскает грязи;
Но Она, как природы небесной,
Все в таинственной с небом связи!
Осознав эту связь, необходимо решить: как приступить тогда к самопознанию человека? Читатель, конечно, уже обратил внимание на то, что Трансцендентное Астафьев называет и «трансцендентным миром», и «трансцендентной силой», и «трансцендентной личностью», и безусловным идеалом. При этом именно понимание Трансцендентного как безусловного идеала открывает ему путь дальнейшего исследования. До сих пор он говорил о личности, устремленной к безусловному идеалу и обретающей в этом устремлении высшее состояние души. Но мы уже знаем, что для Астафьева нравственная личность неотделима от нравственной воли; а ниже мы увидим, что личность есть одно с волей (глава 11). Тогда понятны его слова о царстве, которое «внутрь нас есть»: «Лишь стремлениям нравственной воли <…> открыта и доступна его положительная сущность». Но раз так, то воля имеет глубочайшее значение как акт познания трансцендентного мира – имеет значение веры, «составляющей самое существо нравственной воли, которая сама себя в действительности и знает и реализует, а не отвне получает действительность» [10: 43].
Поэтому следующий раздел своей книги Астафьев начинает со слов: «Вера – вот что составляет самую душу, движущее начало нравственной воли» [10: 54].
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?