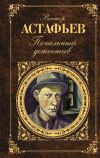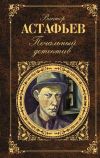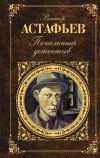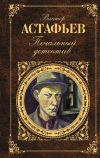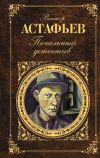Текст книги "Истина и душа. Философско-психологическое учение П.Е. Астафьева в связи с его национально-государственными воззрениями"

Автор книги: Николай Ильин
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Астафьев об этом не говорит, но он фактически подводит читателя к этой мысли.
В заключение этой главы позволю себе краткий экскурс в русскую поэзию, которая, как и любая поэзия, была в первую очередь «поэзией любви». У Алексея Константиновича Толстого есть стихотворение, которое вспоминается мне чаще других стихотворений этого замечательного поэта. Приведу его полностью как пример, подкрепляющий ключевые мысли Астафьева о любви, хотя фактически в форме спора с этими мыслями. Вот это стихотворение:
Ты клонишь лик, о нем упоминая,
И до чела твоя восходит кровь –
Не верь себе! Сама того не зная,
Ты любишь в нем лишь первую любовь;
Ты не его в нем видишь совершенства,
И не собой привлечь тебя он мог –
Лишь тайных дум, мучений и блаженства
Он для тебя отысканный предлог.
То лишь обман неопытного взора,
То жизни луч из сердца ярко бьет
И золотит, лаская без разбора,
Всё, что к нему случайно подойдет.
Поэт пишет о первой любви именно то, что Астафьев говорит о подлинной любви. По мнению А. К. Толстого она – лишь предлог для «тайных дум, мучений и блаженства» – но это и значит, что в ней происходит «уяснение себя как личности», уяснение самое болезненное, но, возможно, и самое глубокое именно в любви. А. К. Толстой отмечает, что она, эта «первая любовь», приписывает своему предмету совершенства, которыми он не обладает, – но это и значит, что она его идеализирует. Наконец, для поэта она – « лишь обман неопытного взора»; но тут же он видит в ней «жизни луч», бьющий из самого сердца и золотящий (то есть снова идеализирующий) то, на что он случайно падает.
Но эти последние, самые чудесные строки содержат и существенную неточность. Первая (и подлинная) любовь никогда не ласкает всех подряд, а напротив, она, как луч, сосредоточена на ком-то одном – то есть, по Астафьеву, исключительна. Просто вблизи настоящей любви становится светлее и теплее даже тем, кому ее свет и тепло не предназначены. Самая же главная ошибка поэта: призыв «Не верь себе!». Напротив, только в такую любовь и имеет смысл верить безоглядно – ибо она никогда не изменит, если не изменит себе самой.
Впрочем, что значат эти ошибки, если красота стихотворения выговаривает истину вопреки «головным» убеждениям поэта, а точнее, ревнивого наблюдателя первой любви!
Глава 7.
Данное мне и поставленное мною. Свобода как самомотивация
Вопрос о свободе воли – естественный вопрос для мыслителя, в трудах которого деятельная воля рассматривается как важнейший элемент душевной жизни. Поэтому еще в середине 1870-х годов Астафьевым был написан обширный «Опыт о свободе воли», который его автор счел, повидимому, недостаточно зрелым или законченным для публикации [40]. Мысли, высказанные в «Опыте», получили дальнейшее развитие в эссе «К вопросу о свободе воли» (1889), на котором мы сосредоточим основное внимание. В этой работе Астафьев уже ясно сознаёт, что «взгляд того или другого философа на свободу воли может служить характеристикой всей его системы и пробным камнем ее важнейших достоинств и недостатков» [41: 271].
Возможно, именно по этой причине судьба вопроса о свободе воли в истории философии, как считает Астафьев, была непростою и «особенно поучительною». Как специальный вопрос он был выделен «из общего метафизического вопроса об основах бытия и действия вообще» только в Средние века. Но при этом «отцы Церкви и моралисты» руководствовались «главным образом нравственно-религиозным интересом» и постепенно отделили вопрос о свободе воли «от его метафизических и психологических корней» [41: 272]. По мнению Астафьева, такое подчинение данного вопроса исключительно религиозно-этическим мотивам и «передача его в специальное ведение богословов, моралистов и даже (как это ни странно!) юристов – не привели ни к чему, кроме почти безнадежной запутанности, произвола и широчайшего простора всяческой софистике» [41: 278]. В качестве примера он приводит тот тупик, в который заводит попытка решить этот вопрос на почве нравственно-юридической, как вопрос об ответственности человека за свои поступки. Сторонники свободы воли утверждают, что эта свобода необходима «для самого бытия нравственности», поскольку было бы бессмысленно одобрять или осуждать человека за поступки, которые он совершил не свободно, а вынужденно, в силу непреодолимого влияния тех или иных внешних или внутренних причин. Однако их оппоненты заявляют, в свою очередь, что из действительно свободной, не определенной никакими мотивами воли могут вытекать лишь поступки, которые «были бы чистым капризом», носили бы по существу случайный характер, так что и в этом случае нелепо говорить о какой-либо ответственности человека.
Разрыв прямой, непосредственной связи вопроса о свободе воли с философией привел, по мнению Астафьева, к изъятию из области философских, спекулятивно-метафизических идей идеи воли как деятельной, творческой силы, как силы самоопределения, открытой нам во внутреннем, субъективном опыте. В результате философия переместила свое внимание на мир объектов, где прямо и непосредственно нам дана не сила, а только движение как «смена объективно-определенных состояний». В этой смене начинают искать некий постоянный фактор и находят его в виде закона причинной связи, который «сводит всякую последующую совокупность состояний на предшествующую, показывая в первой – лишь продолжение или преобразование второй» [41: 274]. Впоследствии закон причинной связи принимает уже не собственно метафизическую, но «чисто научную» форму закона сохранения энергии, не терпящего «никакого исключения в том мире, из которого устранено начало деятельной силы, замененное сохраняющимся неизменно движением», в мире, где всё сущее «есть действие вне его лежащей причины» [41: 274–275].
В связи с приведенными рассуждениями Астафьева уместно подчеркнуть два момента. Во-первых, они содержат, по сути дела, краткий набросок генезиса механистического мировоззрения. Несмотря на предельную лаконичность, этот набросок следует признать достаточно точным. А глубоко оригинальная черта этого наброска состоит, несомненно, в том, что Астафьев связывает торжество механицизма с отсутствием адекватного представления о свободе человеческой воли. Во-вторых, нельзя не отметить изменение взглядов Астафьева на область применения закона сохранения энергии. Если в работах «Психический мир женщины» и «Понятие психического ритма» он не просто допускал применение этого закона в области душевных явлений, но даже видел в нем ключ к пониманию этих явлений, то теперь Астафьев относит его исключительно к миру объектов, то есть и в этом отношении освобождается от пут позитивизма.
Отрывом вопроса о свободе воли от «родной метафизической почвы» объясняет Астафьев и взгляды, согласно которым этот вопрос «для научной мысли навсегда неразрешим», а положительный ответ на него может рассматриваться лишь как «верование сердца» или «нравственный постулат». Такова позиция Г. Лотце и «одного из глубочайших русских мыслителей Ю. Ф. Самарина» [41: 281]. Астафьев считает, однако, что «твердо верить в свободу воли в своей живой нравственной деятельности», но отрицать ее в своем теоретическом мировоззрении – «исход слишком болезненный, отчаянный даже для нашего глубоко больного современного человечества» [41: 281–282]. Подлинное решение вопроса о свободе воли возможно лишь в системе целого метафизического мировоззрения.
Но существует и важная пропедевтическая задача: «попытаться распутать веками запутанный клубок недоумений и ошибок, представляющийся нам результатом истории вопроса о свободе воли». Это позволит если не правильно решить, то, по крайней мере, правильно поставить данный вопрос. И начать следует с того колоссального, по словам Астафьева, недоразумения, которое заключено «в самом названии вопроса, в самом вопросе о свободе воли, как бы предполагающем, что воля, если она есть, если мы ее раз допустили, может быть – или свободна, или несвободна». В действительности, отрицающие свободу «отрицают самую волю <…> отрицают самого субъекта как деятеля» [41: 282]. Воля превращаетсяв«равнодействующую»мотивов,субъект– в «совокупность сменяющихся состояний». Суть же этой подмены состоит в том, что «данные внутреннего опыта, – воля как деятельная сила и субъект как деятель – в их своеобразии устранены, заменены данными внешнего опыта» [41: 284]. Как же совершался этот процесс «подмены и смешения понятий»?
Сознание свободы воли, отмечает Астафьев, является «прежде всего фактом личного сознания», существующим «в форме ли непосредственного сознания, или смутного верования, или представления, или же логического понятия». Но хотя «нет ни одного философа, который бы отрицал этот факт», остается открытым вопрос «об истинности или неистинности верования в свободу воли, о ее действительности или иллюзорности» [41: 285–286]. При этом считалось вполне естественным решать этот вопрос, исходя из «более общих, чем предмет спора, понятий о законах природы, строе всего мира, законах развития духа человеческого, отношении человека к миру и его Творцу-Богу» и т.п. Таким образом, вопрос о свободе воли пытались решить «при помощи положений и законов, заимствованных, как видно, из области широчайшей», «области, объемлющей и мир бессознательного, и мир до– и сверхсознательного», фактически уходя при этом из «области личного сознания (внутреннего опыта), которая одна дает нам и представление о воле и верование в ее свободу. Таков конечный прием учений детерминизма и трансцендентальной свободы, завещанных нам историей вопроса» [41: 287–288]. Вместе с Астафьевым кратко остановимся на сути этих учений, до сих пор сохранивших свое влияние.
Корнем детерминизма, подчеркивает Астафьев, является убеждение в том, что сознание – «плод развития из бессознательного»; в силу этого коренного убеждения детерминизм «сводит область сознания всецело на область бессознательного <…>, а потому и в первой признаёт господство только тех законов, какие властвуют во второй, то есть законов необходимой причинной связи» [41: 289]. Ярким примером, подтверждающим мысль Астафьева, являются слова Фрейда, внушавшего слушателям своих лекций по психоанализу: «Я уже позволил себе однажды предупредить вас, что в вас коренится вера в психическую свободу и произвольность, но она совершенно ненаучна и должна уступить требованию необходимого детерминизма и в душевной жизни» [42: 65]. Итак, выжжем каленым железом науки веру в свободу человеческой воли.
Что касается учения о «трансцендентальной свободе», то оно признаёт единственный акт, «которым всякое существо свободно и один раз навсегда определило уже самые неизменные свойства своего характера» [41: 290]. Этот уникальный акт совершается в «интеллигибельном» мире, то есть в досознательном и вневременном бытии человека. Вся дальнейшая жизнь человека в мире явлений, в мире сознательного существования всецело подчинена тому, какой характер – добрый или злой – он для себя выбрал. Позволю себе добавить: фактически учение о «трансцендентальной свободе» – это учение о «трансцендентальной детерминации» человеческого существования, о том одноразовом «самоопределении», результат которого уже невозможно изменить. Мир такой «трансцендентальной свободы» страшнее мира обычного детерминизма, подобно тому, как учение кальвинизма страшнее обычного атеизма. Добавлю, что в русской философии этот взгляд излагал (следуя Шеллингу) В. С. Соловьев (см. его «Чтения о Богочеловечестве», лекция девятая и др.).
Так или иначе, оба рассматриваемых учения – ягоды с одного поля. Очевиден их общий прием: «хотя мы и находим первое показание о свободе воли в сфере личного сознания, и только в ней же и сохраняем все время это показание <…>, – вопрос об истинности или неистинности этого факта переносится обоими учениями в область бессознательного, до– или сверхсознательного, и оттуда, то есть из области внесознательного, берется решение, будто бы имеющее силу и в области наших сознательных действий» [41: 292]. В результате торжественно демонстрируется иллюзорность свободы воли – демонстрируется благодаря элементарной логической ошибке, известной как qui pro quo.
Но даже если свобода воли – иллюзия, требуется объяснить происхождение этой иллюзии в нашем сознании; причем не просто как одной из многих иллюзий, но как всеобщего представления, глубоко проникающего весь строй человеческой жизни, существующего «и у философа-детерминиста в те минуты, когда он не размышляет о своей системе, а действует» [41: 296]. В связи с этим Астафьев отмечает важный момент. С одной стороны, нет недостатка во всевозможных теориях, предназначенных объяснить «иллюзию свободы», например, «смешением свободы хотения с внешней свободой действия, и принятием второй за первую», или тем, что «сознание открывает известное состояние духа в данную минуту, но не открывает длинных рядов причин, от которых оно зависит» [41: 295]. Более тонкие мыслители (например, Лотце) считают представление о свободе воли не иллюзией в узко негативном смысле этого слова, «но положением, к приему которого мы считаем себя вынужденными общим строем нашего нравственного сознания». Но, с другой стороны, практически все авторы этих и других теорий, признавая, что сознание себя свободным является фактом всеобщим и необходимым, почему-то уклоняются от исследования того, «какова роль этого всеобщего и необходимого факта сознания, – сознания себя свободным, – во всех деятельностях сознания и для его результатов» [41: 297–298]. Крайне настойчиво Астафьев подчеркивает, что «исследование значения “сознания себя свободным” в сознании и для сознания должно быть признано необходимым, к какой бы метафизической или психологической партии мы ни принадлежали, если только мы хотим решить вопрос об истинности или ложности этого верования человечества» [41: 301].
Здесь уместно отметить, что задолго до рассматриваемой сейчас работы Астафьев даже склонялся к мнению, что «все действительное бытие свободы может быть заключается в участии представления о свободе в действительных процессах сознания» [40: 38]. Человек, совершающий тот или иной выбор, может совершать его совершенно по-разному, считает ли он себя свободным в этом выборе или нет. Точно так же, наше стремление к идеалам будет действительно свободным, если мы только верим, что и сами идеалы поставлены нами свободно, а не навязаны «исторической необходимостью» или «историческим откровением» как своим единственным источником [41: 313]. Насколько серьезно относился Астафьев к такому направлению в постижении свободы через идею свободы, говорит и то, что свой этюд «К вопросу о свободе воли» он заканчивает афоризмом, навеянным Гегелем: Не цепи делают раба, а рабское сознанье.
Итак, вот простой выход из положения. Вместе с поэтом Константином Случевским (1837–1904) нам очевидна
В душе великая готовность
Свободной быть самой в себе,
и это освобождает нас от поиска ответа на вопрос, как возможна эта свобода души «самой в себе», внутренняя свобода человеческой воли. Так считал когда-то и Астафьев, но теперь он смотрит на дело иначе. Подчеркнув еще раз значение подхода к проблеме свободы воли через представление о свободе, он уже не считает такой подход достаточным, поскольку «один факт присутствия этого представления в самосознании еще нисколько не гарантировал бы сам по себе действительного бытия свободы, хотя, конечно, найдя это представление в самосознании, исследователь должен был бы признать за ним значение одного из главных деятелей в механизме сознательных деятельностей вообще» [41: 298]. Само слово «механизм» применительно к сознанию показывает, что по такому пути могут идти и противники действительного бытия свободы.
Отказавшись от этого пути – движение по которому носило бы скорее культурно-исторический, чем метафизический и собственно психологический характер, – Астафьев, по сути дела, начинает свое исследование заново, возвращаясь к точной формулировке вопроса о свободе воли. Такая формулировка требует, прежде всего, «раз навсегда строго различать вопрос о свободе действия, осуществления состоявшегося определения воли от вопроса о свободе постановления самого решения воли» [41: 302]. Первый вопрос, «вопрос о свободе действия, о свободе исполнения однажды принятого волею решения», не является, строго говоря, философским вопросом, поскольку касается только «эмпирических условий осуществления воли, – внешних препятствий или содействий этому осуществлению». Хромой человек «не свободен» бегать; но исцелив хромого, мы не получаем ответ на вопрос: свободны или нет его решения бегать или не бегать. «Свобода действия, исполнения, есть свобода внешняя, определенная внешними для самой воли условиями» и потому не затрагивающая свободы воли как таковой.
Точно так же нельзя смешивать понятие принуждения и понятие необходимости. Это различие в определенной степени совпадает с указанным выше, но глубже и тоньше него. Чувство непринужденности, которое мы так ценим в жизни, может скрывать за собою самую жесткую внутреннюю необходимость. Астафьев пишет: «Наши хотения могут быть и субъективно необходимыми, например, неизбежными следствиями нашего данного темперамента, характера, воспитания и т.п.; но, осуществляя эти субъективно-необходимые хотения, вытекающие из нашей собственной, хотящей их природы, мы не сознаём никакого принуждения» [41: 303]. Отсутствие внешнего принуждения, «внешняя свобода» может сочетаться с наличием внутренней необходимости, внутренней несвободы. Этот важнейший момент еще не улавливали древние греки, противополагавшие, как отмечает Астафьев, «лишь определение от вне – самоопределению» [41: 277]; апофеозом же этого непонимания стало знаменитое определение Спинозы. В самом начале «Этики» мы читаем: «Свободной называется такая вещь, которая существует по одной только необходимости своей собственной природы» [43: 362]. Астафьев же ясно понимал, что именно внутренняя необходимость, «субъективная необходимость хотений» является отрицанием внутренней метафизической свободы человека.
Таким образом, от философской проблемы свободы воли должны быть отделены «свобода физическая, свободы гражданская, политическая и др.»; «остается только вопрос о свободе решения воли, о свободе хотения: свободно ли решается человек на такое или иное действие, или нет? Иначе: сам ли сознательный человек, как такой, есть последний источник своих решений – или же его решения и хотения даны ему, помимо его сознательного участия, готовыми, а сознание только узнаёт их, когда они ему даны, и человек таким образом хочет того или другого не свободно, а с необходимостью, хотя, может быть, и не сознаваемою им?» [41: 305].
Мы видим, что парадигма свободы для Астафьева – это сознательное решение, принятое самим человеком. Впрочем, слово «принятое» нельзя признать достаточно точным, так как в нем содержится коннотация с чем-то данным человеку, имеющим свой источник «вне его сознания и воли». И Астафьев находит более точное слово, когда пишет: «Таким образом, весь вопрос сводится на то, даны ли человеку хотения, из которых вытекают его действия, помимо его сознательного воления, или же они не даны ему, а поставлены им, им самим сделаны своими хотениями, повлекшими за собою действие?» [41: 307].
Эти понятия – данное мне и поставленное мною – «нужно брать в самом строгом смысле», подчеркивает Астафьев, и делает ряд важнейших разъяснений, среди которых особого внимания заслуживают следующие слова. Он пишет: «Если всё в человеке, – и его физическая и его духовная природы, со всеми ее наклонностями, стремлениями, понятиями, волениями и т.п. – есть только продукт данных независимо от его воли и сознания причин», «если таким образом все без исключения факторы сознательного деяния человеческого суть только следствия нечеловеческих, естественных, космических причин, и, в конце концов, отдаленные <…> следствия одной последней Первопричины, то, очевидно, нельзя назвать ни единого хотения человека поставленным им, ни единого мельчайшего акта его – свободным его актом». Ничего не говорят о свободе человека и ссылки на его характер, темперамент, «организацию», ибо и «особенность моей организации так же мало зависит от меня, как и факт моего рождения», «как физические и нравственные свойства передавших мне их родителей моих» [41: 308].
Обратим внимание: также и духовная природа человека требует рассмотрения с точки зрения принципиального различия между данным мне и поставленным мною. «Откуда эта его духовная природа, с этой, а не другой определенностью?» – спрашивает о человеке Астафьев. Если «и духовная природа, подобно физической, есть на всякой ступени своего бытия плод развития данных зачатков, среди данных обстоятельств и условий», если «и в духе человеческом, в его сознании, мы не найдем ничего свободно поставленного человеком», то «и духовный субъект, хотения которого определены только его духовною природой, будет несвободен» [41: 309–310]. Тем самым Астафьев решительно дистанцируется от приведенного выше определения свободы у Спинозы, ибо действие, вытекающее из моей природы, еще не является в силу только этого – свободным действием. Совершенно ясно и то, что Астафьев был бы категорически не согласен с модными сегодня рассуждениями о «генетическом коде русского духа», увидел бы в них апологию несвободы, пусть и детерминированной не извне, а изнутри. Такая детерминация является, по сути дела, еще более роковой, безнадежной, утверждающей «рабство человеческого духа».
Вскрывая сущность учений, представляющих человека продуктом всевозможных – внешних или внутренних – «данностей», Астафьев критически отзывается и о взгляде, согласно которому «нравственность имеет единственным источником историческое откровение». Подобное откровение, то есть данная человеку Богом система заповедей, только тогда получает действительно нравственное значение, когда свободно и сознательно усваивается субъектом, уже способным различать добро и зло. Поэтому исполнен глубокого смысла вопрос Астафьева: «Откуда берется сам внешний нравственный закон, если он в субъекте, под ним стоящем, не имеет никакого основания?» [41: 313–314].
Теперь наконец-то, проделав самую серьезную критическую работу [44], Астафьев переходит к формулировке основных положительных тезисов своего учения о свободе воли. Прежде всего, он указывает на то, что «и идеи, и представления, и мотивы сами по себе не суть ни причины, ни достаточные основания, из себя определяющие сознание, соответственно собственной своей силе, – но деятельное сознание само придает им значение своих мотивов, достаточных оснований, причин, – дает им ту определенность, какой они сами по себе, как состояния его, еще не имеют. Не пустым местом игры представлений, мотивов, чувств, не бездеятельным зрителем ее является сознание, но деятельной силой, субъектом, определяющим себя представлениями и чувствами. Не душевные состояния живут и движутся в душе нашей, но душа наша живет, напрягается и работает в них» [41: 352–353].
Прекрасные, по-настоящему глубокие слова, одни из самых важных в русской национальной философии. Обратим внимание, что Астафьев говорит о сознании, а не просто о воле, и хотя воля как усилие остается для него ближайшим «синонимом» сознания, именно последнее (называемое также душою) выходит на первый план. При этом Астафьев в определенном смысле «реабилитирует» понятие причинности. Хотя никакое представление само по себе не может быть причиной, оно может быть поставлено сознанием в качестве таковой, может получить от сознания значение причины, основания, мотива. Заметим: это вполне относится и к представлению под названием «русская идея». Значение мотива нашей деятельности это представление может получить только от национального самосознания; отрицая последнее (как это делал, например, В. С. Соловьев), мы лишает всякого значения и «русскую идею».
Углубляя понимание связи между сознанием и волей, Астафьев подчеркивает, что воля как деятельная сила дана нам «только в области внутреннего опыта, самосознания, ибо в сознании о внешнем мире объектов ничего кроме смены состояний, движений и их комбинаций мы не найдем» [41: 353]. Таким образом, не сознание, направленное на внешний мир, а личное самосознание является истинной формой волевого усилия. Глубина этого самосознания напрямую связана с напряженностью этого усилия. Можно, например, уверенно сказать, что люди с неглубоким национальным самосознанием являются людьми слабовольными, в их душе атрофирован акт волевого усилия.
Этот акт замечателен тем, что в нем дан «тип самоопределения, то есть такого действия, которое не подлежит ни закону механической причинности, ни закону достаточного основания. Усилие, – пока оно остается усилием, – утверждается не определенным своим, данным уже неотменно состоянием, но тем состоянием, которое вызвано его же собственным актом». Этот акт «определяет себя ставимыми им самим состояниями, регулирует себя в самом своем совершении» [41: 358–359]. Следовательно, акт волевого усилия как коренной, неотъемлемый акт деятельного сознания (и особенно самосознания) является актом самоопределения, которое заключает в себе одновременно и самотворение, и истинную саморегуляцию. Таким образом, подводит итог Астафьев, усилие «представляет нам тип Аристотелевых “энергии” и “энтелехии”, – телеологическое начало жизни сознания. Оно – настоящий представитель той определяющей себя по целям конечной причины, о которой сказано, что causa finalis movet non secundum suum esse reale sed secundum suum esse cognitum [45]. И если человек действительно носит в себе, пока он живет и мыслит, эту конечную, самоопределяющуюся причину, то он действительно свободен, сознавая себя свободным» [41: 359–360].
Исследование Астафьева о свободе воли, будучи глубоко интересным и ценным, оставляет, тем не менее, чувство некоторой неудовлетворенности. В немалой степени это чувство связано с ожиданием того, что Астафьев «докажет» нам свободу человеческой воли. Но доказанная, выведенная логическим путем свобода не была бы свободой в настоящем смысле слова. Астафьев, безусловно, приближается к пониманию этой последней уже тогда, когда проводит различие между «данным мне» и «поставленным мною». Правда, у нас тотчас возникает вопрос: почему сознание ставит именно такую, а не другую цель? Однако этот вопрос некорректен, ибо стирает различие между «данным» и «поставленным». У «данного» всегда есть причина, внешняя сознанию; «причиной» же поставленного является само сознание, причиной не механической, а целевой, телеологической, то есть сообщающей тем или иным представлениям силу и значение мотивов или целей. Причем связанное с этим волевое усилие не определяется извне, а определяет себя в самом своем свершении, то есть является подлинным самоопределением.
Естественно, что в этом случае мы отказываемся от поиска внешних сознанию (объективных или бессознательных) «причин самоопределения», поиска, лишенного смысла и к тому же ничего не дающего для понимания конкретных актов самоопределения. Далеко не каждый акт самоопределения приводит к поставленной цели. Например, далеко не все, возжелавшие «всей душой» стать поэтами, – становятся ими, даже положив на достижение этой цели всю жизнь. Мы, правда, находим здесь легкое «объяснение»: у одних есть талант, а у других его нет. Но ведь решить, у кого он есть, а у кого отсутствует (или совсем невелик), мы может только задним числом, уже зная зрелые плоды поэтического творчества. Сказать же что-то наверняка о таланте человека по его первым пробам пера мы не можем, да и сам «кандидат в поэты» может лишь предполагать, что имеет соответствующий талант [46]. Такова цена свободы – у нас нет гарантий того, что наша цель будет достигнута, даже если для этого нет внешних препятствий. Нет рока, который властвует над человеком, но есть свобода как судьба человека.
Можно, конечно, упрекнуть Астафьева в том, что критика взглядов, в той или иной форме отрицающих свободу воли, занимает у него слишком много места по сравнению с изложением собственного воззрения. Сразу отмечу, что он делает это совершенно сознательно, подчеркивая: «Нужно попытаться распутать веками запутанный клубок недоумений и ошибок, представляющихся нам результатом вопроса о свободе воли» [41: 282]. По-видимому, эту отрицательную задачу Астафьев считал основной задачей рассмотренного реферата, а собственные взгляды излагал, так сказать, пропедевтически, как нечто, еще далекое от завершения. Тем не менее, самую суть дела – принципиальное для понимания свободы различие между данным мне и поставленным мною – он выразил достаточно ясно. В чем действительно можно упрекнуть Астафьева, так это в том, что в статье 1889 г. он словно забыл о своем рукописном «Опыте о свободе воли» середины 70-х годов. Между тем, центральная мысль Астафьева получила тогда, в метафизическом плане, очень удачное выражение, несколько смазанное в более поздней работе. Свободное существо, писал он в «Опыте», это существо, «независимое не только от внешних влияний, но и от собственной определенности, и в этом именно парадоксальность понятия свободы» [40: 10]. Такую независимость от себя самого дает человеку самосознание, этот «самый интимный и характерный акт душевной жизни». Уже тогда Астафьев понял: именно самосознание является первичным актом свободы. Намеченная в «Опыте» трактовка самосознания прямо приводит его к важнейшему положению философской антропологии о двуединстве в человеке его человеческой природы и его человеческой личности. Это положение сам Астафьев выражал в словах о том, что «природа человека содержит в себе некоторую двойственность: наряду с внутренней механикой, организацией к природе человека принадлежит еще и самосознание, делающее человека личностью» [40: 8–9]. Мы видим, что Астафьев различает в человеке его «организацию» и его личность; с первой связано то, что дано человеку (то есть его как физическая, так и духовная наследственность), со второй – его способность, учитывая данность, но не подчиняясь ей механически, самостоятельно ставить перед собою свои задачи, цели, идеалы. Правда, Астафьев называет «природой человека» двуединство его «организации» и его личности. Чтобы согласовать это с современной терминологией, достаточно словом «природа» обозначать именно «организацию» человека, и различать в человеке природу и личность. Важнейшее положение философии Астафьева, согласно которому свобода коренится в личности человека, а не в его природе (то есть не в его наследственной «организации»), при такой замене терминологии сохраняет всю свою силу.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?