Текст книги "Поджигатели (Книга 2)"
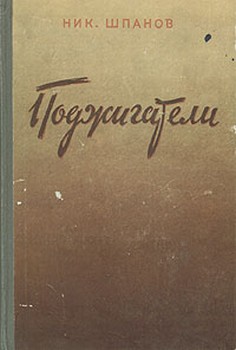
Автор книги: Николай Шпанов
Жанр: Книги о войне, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 28 страниц)
13
Когда автомобиль Гарро въехал на вокзальную площадь городка, выросшего вокруг Вацлавских заводов, сидевшие в машине увидели огромное скопление народа. Все новые и новые группы людей подходили с разных сторон. У многих были в руках корзиночки с провизией. В Либерец уезжали на целый день. Туда стекалось на демонстрации столько народу, что нечего было и думать прокормить всех. Надёжнее было ехать со своей едой. Скоро должны были подойти поезда, специально подаваемые в такие дни для доставки манифестантов. Всех волновал вопрос: как-то пройдёт этот день? Что-то выкинут белочулочники? Чешский и немецкий говоры сливались в оживлённый гул, висевший над толпою.
Чем больше белых чулок появлялось на улицах чехословацких городов, тем многолюднее делались либерецкие сборища. Все шире становились слои общества, посещавшие эти демонстрации единства народов, населявших республику. К неудовольствию Хенлейна, по мере усиления террора, которым его люди старались убить в судетских немцах всякую мысль о возможности сопротивления гитлеризму, число немцев, приезжавших в Либерец, тоже росло из года в год.
Толпа задержала автомобильчик Гарро; людей скопилось слишком много, они запрудили шоссе. Бывало Гарро выезжал в Либерец в форме французского офицера. Сегодня он не решился её надеть. Но почти весь городок знал его в лицо. Ему приходилось то и дело раскланиваться. Иные снимали шляпы при виде колодки хорошо знакомых французских орденов, украшавшей грудь Гарро. Многие чехи все ещё готовы были видеть в нём представителя прекрасной Франции – великого друга чехословацкого народа. Здесь популярность Франции была ещё больше потому, что французским консулом был чех, пользовавшийся всеобщим уважением, доктор Кропачек. Так или иначе, при появлении Гарро большая часть чехов приветливо махала шляпами. Только кое-кто из немцев хмуро отворачивался или, наоборот, с нарочитой любезностью уступал дорогу автомобилю француза.
Тем не менее маленькая «татра» безнадёжно застряла в людском месиве. Кончилось тем, что пассажиры покинули машину, решив переждать, когда поезда увезут часть людей с площади. Но сегодня поезда почему-то задерживались. Железнодорожники, с полным правом гордившиеся точностью своей службы, должны были отшучиваться от нападок сограждан. Им приходилось то и дело бегать к начальнику станции, чтобы узнать, где застряли поезда для манифестантов. Но он также ничего не знал.
Дожёвывая пирожок, он вышел на балкон станционного здания и попробовал шутить. Сначала толпа отнеслась к этому благодушно, но скоро стало ясно, что она ждёт не шуток, а поезда.
Толпа начинала сердиться.
Может быть, начальнику станции самому хотелось поскорее попасть на праздник, а может быть, он уже знал, что такое недовольство нескольких тысяч сограждан. Во всяком случае, он послал дежурного на телеграф.
Толпа притихла, словно боясь заглушить слова, бежавшие по проводам. Взоры людей были устремлены на балкон, где доевший пирожок начальник станции не спеша вытирал усы. Наконец появился телеграфист и передал начальнику депешу. Начальник лукаво подмигнул толпе и вооружился очками. Но, по мере того как он читал, выражение его лица становилось все более растерянным.
От толпы не укрылась нерешительность, с которою начальник станции топтался на балконе.
– Эй, эй, давайте поезда!.. Скоро ли будут поезда? – послышалось снизу.
Начальник станции крикнул телеграфисту:
– Эй, Вацек, принеси мою шапку!
Тот исчез и через минуту вернулся, бережно неся обшитую галунами форменную фуражку. Начальник станции встряхнул её и провёл по тулье рукавом. Может быть, он сметал с неё пылинки, которых не было видно с площади, а может быть, просто старался протянуть время. Потом он надел фуражку и, подойдя к перилам балкона, поднял руку. Вокруг его шеи все ещё была повязана салфетка. Крики утихли. Начальник повернул телеграмму текстом к толпе, словно с площади можно было разобрать хотя бы одну букву. Над толпою пронёсся ропот. Тогда начальник снова надел очки и, не глядя на бланк, громко, прерывающимся от волнения голосом сказал:
– Поездов в Либерец не будет. Таково распоряжение правительства! Либерецкий митинг отменён.
Над площадью было слышно дыхание нескольких тысяч людей. Неожиданно к нему примешался отдалённый гул. Скоро он сделался таким сильным, что покрыл дыхание толпы. Приближался поезд. Он не остановился, только сбавил ход, чтобы принять жезл, и помчался дальше, в сторону Либереца. Все ясно увидели в окнах вагонов каски полицейских.
Гул негодования пронёсся над толпой.
Начальник станции поспешно нырнул в балконную дверь и через какую-нибудь минуту появился на площади. На голове его, вместо фуражки с галунами, была шляпа, – такая же, как на тысячах мужчин, заполнявших площадь. Все поняли, что он превратился из должностного лица в частного гражданина, чтобы иметь возможность принять участие в обсуждении удивительного события: правительство запретило собрание в Либереце; правительство послало в Либерец поезд с полицейскими, чтобы помешать собранию!
Голоса, обсуждавшие происшествие, делались все громче. Толпа разбилась на группы. Многие требовали посылки телеграммы президенту. Кто же, как не Бенеш, должен стоять на страже интересов демократии, кто, как не он, ответствен за их нарушение?! Уж не выдумали ли и это новшество английские лорды и французские министры, чтобы угодить ублюдку Гитлеру?
Кое-где раздавались голоса, пытавшиеся доказать, что отмена праздника – простая мера предосторожности, имеющая целью избежать столкновения с белочулочниками. А к чему могло бы привести такое столкновение в городе, расположенном у самой границы, должно быть ясно всякому благоразумному человеку.
Но благоразумных, желающих выслушивать эти убеждения, нашлось немного. Голоса протеста раздавались все громче. Тут распахнулось окно пивной, выходившее на площадь, и на подоконнике появился радиоприёмник. Голос диктора бесстрастно бросал слова, заставившие толпу притихнуть. Все лица обратились к репродуктору. Повидимому, заканчивая начатое ранее сообщение, диктор проговорил: «…Чехословацкое правительство вновь обращается к британскому и французскому правительствам с последним призывом и просит их пересмотреть свою точку зрения. Оно делает это, веря, что защищает не только свои собственные интересы, но также и интересы своих друзей, дело мира и дело здорового развития Европы. В этот решительный момент речь идёт не только о судьбе Чехословакии, но также и о судьбе других стран и особенно Франции».
Диктор умолк. Из репродуктора слышалось только монотонное гудение.
Кто-то в толпе крикнул:
– Браво, Бенеш! Долой капитуляцию! Да здравствует свободная и независимая Чехословакия!
– Да здравствует независимая республика! – крикнуло сразу несколько голосов.
Им ответили другие:
– Долой Чемберлена!
– Позор Франции!
Эти возгласы покрыли все остальные.
Во вот чья-то рука подвинула рычажок настройки, и диктор заговорил громче:
«…вкратце смысл британского ответа на ноту нашего правительства сводится к абзацу британской ноты, который мы передаём полностью и без комментариев: „Правительство его величества просит чехословацкое правительство спешно и серьёзно взвесить все последствия, прежде чем оно создаст ситуацию, за которую правительство его величества не могло бы принять на себя ответственность“.
Голос диктора был покрыт криками с площади:
– Мы не хотим никаких величеств!
– Чехословакия не нуждается в няньках!
Но, как живой человек, воспользовавшийся минутной паузой, диктор начал своё сообщение, заставившее мгновенно умолкнуть даже самых крикливых:
«Полностью публикуем депешу Москвы советскому послу в Праге: «Первое: на вопрос Бенеша, окажет ли СССР, согласно договору, немедленную и действительную помощь Чехословакии, если Франция останется ей верной и также окажет помощь, можете дать от имени Правительства Советского Союза утвердительный ответ.
Второе: такой же утвердительный ответ можете дать и на другой вопрос Бенеша, – поможет ли СССР Чехословакии, как член Лиги наций, на основании статей 16-й и 17-й, если в случае нападения Германии Бенеш обратится в Совет Лиги наций с просьбой о применении упомянутых статей.
Третье: сообщите Бенешу, что о содержании нашего ответа на оба его вопроса мы одновременно ставим в известность и французское правительство».
Рядом с лакированным квадратом репродуктора появилось возбуждённое лицо человека с седыми усами. Все сразу узнали в нём начальника станции. Высоко держа шляпу, он крикнул:
– Теперь Даладье некуда деваться. Слава Москве! Сталину на з дар!
И толпа дружно прогремела:
– …здаррр!.. здаррр!..
– Нас предают в Лондоне!
– Нас предают в Париже!
– Мы хотим защищаться!
– Пусть нам дадут оружие!
– Пусть нам дадут оружие, мы будем защищаться!
Опираясь о плечо начальника станции, на подоконник взобрался такой же седоусый человек и, потрясая кулаком, прокричал:
– Мы будем защищать Чехию, мы будем драться за республику. Пусть нам дадут оружие! – Он кричал по-немецки, он был немец. Его знали тут все. Толпа ответила ему радостным приветствием.
Но вот в толпе послышался смех, громкий, истерический. Он был так пронзительно громок, что его услышали во всех концах площади, и словно мгновенный испуг заставил всех затихнуть.
Хохот оборвался и сменился задыхающимся воплем:
– Защищаться?.. Одним против всех – против Гитлера, Чемберлена, Даладье, против всей сволочи всего мира? Нет, это наш конец.
Кричавший так же истерически-громко разрыдался.
Прежде чем толпа успела выразить своё отношение к этому неожиданному заявлению, на балконе станции появился Гарро.
Его встретили пронзительными свистками, единодушным криком:
– Долой Францию!.. Позор французам!
Гарро стоял бледный, вцепившись в перила, и ждал, когда стихнут крики. Наконец ему дали говорить.
– Друзья мои, чехи и немцы, я вместе с вами кричу: позор! Позор предателям чести Франции, позор изменникам слову! Но клянусь вам словом солдата: Франция не виновата в этом позоре. Виноваты те, кто предаёт её в целом так же, как каждого из вас. Ваш позор – позор всех честных французов, ваше несчастье – несчастье Франции. – Гарро перегнулся через перила и, казалось, готов был прыгнуть в толпу. Он с возрастающим возбуждением прокричал: – Старый французский солдат, сражавшийся рядом со многими из вас за честь Франции и за свободу вашей республики, я хочу сохранить право называться французом, хочу сохранить право на ваше рукопожатие – я буду с вами до конца, что бы ни случилось, хотя бы сам Даладье пришёл сюда вместе с Гитлером. Моя пуля будет первой, которая пронзит грудь ренегата. Клянусь вам, друзья мои, тысячи французов станут в ваши ряды, как они стали недавно в ряды бойцов Испанской республики, вопреки воле наших продажных и глупых министров. Да здравствует незыблемая дружба наших великих народов, да здравствует верность и честь! – Он отогнул лацкан своего пиджака и, показывая толпе вдетую в петлицу розетку почётного легионера, крикнул: – Пусть это будет залогом моей верности клятве, которую я даю сейчас Чехословацкой республике. – С этими словами он отколол красную розетку, поднёс к губам и бросил в шляпу. За нею зелёную ленточку с пальмовыми ветвями – знак военного креста, а там следующую и следующую – все ленточки своей разноцветной колодки. Он поднял шляпу над головою, чтобы её видели все. – Я возвращаю это правительству Франции как знак презрения к нему.
Через минуту он появился на крыльце. Сотни рук тянулись к нему с выдернутыми из петлиц ленточками французских орденов. То были боевые ордена, заработанные чешскими солдатами на полях сражений Европы. На глазах некоторых стояли слезы, но они все же бросали свои ленточки в шляпу Гарро. Красные, зелёные, бело-синие.
Гарро глазами отыскал в толпе Кропачека и подошёл к нему через расступающуюся толпу.
– Прошу вас как французского консула принять это.
И он высыпал содержимое шляпы к ногам ошеломлённого чеха.
Несколько мгновений толстяк смотрел на разноцветную кучу, закрывшую носки его башмаков, потом в испуге отступил.
– Что вы, что вы, господа!.. Я не могу, я никак не могу… Господа, я слагаю с себя обязанности консула Франции… Я не могу, никак не могу, господа, исполнять эти обязанности… Представлять господина Боннэ и прочих?.. Нет, господа!
Он снял шляпу и поклонился толпе. Толпа аплодировала.
Внезапно шум смолк. Все лица обратились к одной из улиц, выходивших на площадь. Оттуда слышался ритмический шаг идущих в строю людей. И тут же снова заговорил репродуктор:
«Гитлер призвал полтора миллиона резервистов». И все.
Слышалась дробь тяжёлых шагов из улицы: рррах, рррах, рррах, рррах…
Словно аккомпанемент к сообщению радио.
Рррах, рррах…
Вот достойный ответ проклятому крикуну Гитлеру: он ещё только призвал своих башибузуков, а чешские солдаты уже подходят к границе!
Рррах, рррах…
Покраснев от усилия, Кропачек взобрался на тумбу и, раздувая светлые усы, крикнул:
– Славной чешской армии на здар!
– Здаррр… здаррр… здаррр!.. – бурею пронеслось над площадью и вдруг оборвалось: из улицы показался отряд. Ряды ног в белых чулках, с голыми коленками поднимались, как одна, и с треском обрушивали на мостовую подкованные подошвы: рррах, рррах… рррах, рррах…
Навстречу ему, из противоположной улицы, донёсся такой же угрожающий стук: рррах… рррах…
Приближался второй отряд.
Кропачек недоуменно озирался со своей тумбы, поворачивая голову то к одной, то к другой колонне фашистов. Он понял, что сейчас произойдёт то, чего правительство хотело избежать в Либереце. Повидимому, хенлейновцы давно готовились к этому дню. В руках у них виднелись стальные прутья и резиновые дубинки. Но прежде чем он сообразил, что же, собственно, следует сказать или сделать, кто-то сильно дёрнул его за рукав, и он должен был спрыгнуть, чтобы не упасть.
– Сейчас же уезжайте, – повелительно бросил Цихауэр.
– Да, да, живо домой, дядя Януш, – подтвердил вынырнувший тут же Ярош. – Здесь будет жарко.
Он рассмеялся, показав все зубы, и, махнув рукой на прощанье, побежал за Цихауэром.
Они с трудом прокладывали себе путь к пивной, где появился вытащенный на улицу столик. Столик был мраморный, на тонких железных ножках. Он угрожающе раскачивался при каждом движении взобравшегося на него грузного чеха. Чех что-то с натугою кричал, но его никто не слушал. Все взоры были обращены на появившихся с двух сторон хенлейновцев.
Возле самой пивной Цихауэр и Купка нагнали Зинна, так же усиленно, как они, работавшего локтями.
В это время грузный чех, убедившись, вероятно, в том, что его всё равно никто не слушает, неловко спрыгнул со столика. Вместо него на столике сразу появился другой оратор. Едва увидев его, Цихауэр остановился как вкопанный: он узнал Золотозубого.
– Это гестаповец, – сказал он Ярошу и толкнул локтем Зинна, чтобы тот посмотрел на оратора, Зинн тоже сразу узнал щуплого немчика в помятом дорожном плаще, мутным взором кокаиниста обводившего толпу, и тоже сказал Ярошу:
– Это гестаповец.
Ярош с двойным усердием заработал локтями, но когда ему оставалось преодолеть всего несколько рядов людей у самого столика, он почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Посмотрел в том направлении – и сразу узнал Штризе. Прежде чем Ярош сообразил, что происходит, Штризе одним прыжком оказался у столика и, спихнув с него обезумевшего от страха Золотозубого, погнал его толчками в сторону. Можно было подумать, что он беспощадно избивает немчика, но Ярош отлично видел, что Штризе старается поскорее увести Золотозубого к улице, где стояли, пока ещё недвижимые, ряды хенлейновцев. Ярошу, вероятно, так и не удалось бы пробиться к Штризе, если бы на помощь не пришёл Зинн.
– Разве вы не видите? – крикнул он. – Немец спасает провокатора.
Толпа расступилась, и Ярош очутился рядом со Штризе, но тот, бросив на произвол судьбы Золотозубого, поспешно кинулся к хенлейноецам и исчез в их рядах. Отдал ли он какую-нибудь команду, или все было условлено заранее, но белочулочники тотчас ринулись на площадь.
Зинн вскочил на шаткий мраморный столик. Вокруг него сгрудилось несколько человек. Через минуту к ним присоединился и Гарро.
Из распахнувшихся окон пивной послышались звуки раз битого пианино. Звонкий баритон Зинна, усиленный микрофоном, полетел над площадью:
Тяжёлые тучи над чешской землёй,
И вороны кружат над Прагой,
И чешский народ на решающий бой
Выходит с безмерной отвагой.
По мере того как напев доходил до возбуждённой толпы, голоса подхватывали его:
Ни шагу назад, ни шагу,
Смелее, смелее вперёд!
Да здравствует древняя Прага,
Да здравствует чешский народ!
Песня вацлавцев все более мощным напевом неслась вслед отступившим в улицы хенлейновцам:
И пусть нас железным охватят кольцом, —
Кто вольного к рабству принудит?
Не будет народ под нацистским ярмом,
И Прага немецкой не будет!
Радостно и грозно гремел припев:
Ни шагу назад, ни шагу,
Смелее, смелев вперёд!..
Все чаще слышались крики:
– Дайте нам оружие!
– Оружия!.. Оружия!..
Вокруг площади звенели стекла витрин, трещали двери. Из окон в хенлейновцев полетели стулья, кастрюли, тарелки. Ярко вспыхивало на выглянувшем солнце стекло бутылок, которые женщины швыряли в гитлеровцев.
– Оружия!
С этим криком толпа, сминая хенлейновцев, чулки которых давно перестали блистать белизной, устремилась к ратуше.
– Пусть Бенеш даст нам оружие!.. Смерть врагам республики!.. Позор Франции! Долой Чемберлена!.. Судеты должны быть чешскими!
Старинная низкая дверь, выходящая на маленький балкон ратуши, отворилась. Опираясь на костыль, на балкон вышел бургомистр, рослый старик в старомодном чёрном сюртуке. Он поднял костыль и торжественно расправил длинные седые усы. Когда крики стихли настолько, что можно было слышать его голос, он крикнул:
– Дорогие сограждане… чехи! Правительство объявило дополнительный призыв. Многих из вас отчизна призывает в ряды армии.
Громкое «ура» прокатилось по улицам.
Бургомистр снова поднял костыль, и его надтреснутый старческий голос бросил в толпу первые слова национального гимна. Одни подхватила его, другие неистово кричали:
– Позор Парижу! Позор Лондону!
– Не будет народ под нацистским ярмом, и Прага немецкой не будет…
– И Тешин тоже… Тешин должен быть чешским!
И, словно угадывая то, что происходило в этом маленьком пограничном городке, пражское радио спокойным голосом диктора посылало в эфир:
«…если бы войска Польши действительно перешли границу Чехословацкой республики и заняли её территорию, Правительство СССР считает своевременным и необходимым предупредить правительство Польской республики, что, на основании статьи второй пакта о ненападении, заключённого между СССР и Польшей 25 июля 1932 года, Правительство СССР, ввиду совершенного Польшей акта агрессии против Чехословакии, вынуждено было бы без предупреждения денонсировать означенный договор».
Репродуктор на секунду умолк и затем сказал:
«Мы передавали ноту Советского правительства правительству Польши».
Гарро порывисто обнял стоявшего рядом с ним Кропачека и восторженно заявил:
– Неужели Париж капитулирует и после этого?!
14
Рузвельт опустил книгу на укутанные пледом колени и откинулся на спинку шезлонга. Вокруг царил такой мир, что не хотелось даже читать. Жёлтые листья с едва уловимым шорохом падали на землю. Сквозь наполовину оголённые ветви деревьев виднелись белые колонны дома.
Эти колонны! Он помнил их столько же, сколько самого себя.
Да, были ведь времена, когда он пробирался сквозь кусты и молодую поросль деревьев, воображая, что не может быть ничего более огромного, чем этот парк, боясь заблудиться в «джунглях» и не найти вот этих самых белых колонн родного дома. С тех пор молодые деревья шестьдесят раз теряли листву и одевались новою. Они стали большими и тенистыми, иные даже высохли и их спилили, а на их месте посадили новые. Он смотрел на дом, где родился, на парк, где рос и играл, и ему казалось, что решительно ничего не изменилось в мире и он, Рузвельт, попрежнему, как маленький мальчик, боится заблудиться в зарослях. Оттого, что он стар и сед, ему не менее страшно, чем было, и он ещё больше боится не найти дорогу к дому с белыми колоннами.
Его веки сомкнулись сами собою, и голова откинулась на изголовье. Длинные пальцы лежали, бледные и неподвижные, на зелёных клетках пледа. Этот плед был единственным ярким пятном посреди усыпанной жёлтыми листьями поляны.
Гопкинс сразу увидел Рузвельта и свернул с дорожки.
Рузвельт сквозь дрёму слышал его приближающиеся шаги и узнал их. Но ему не хотелось возвращаться из мира далёких, грустных воспоминаний в суету деловой действительности. Эта действительность вставала вокруг него тёмным лесом, наполненным неожиданностями; и этот лес был страшнее воображаемых джунглей раннего детства. Президент слышал, как Гарри присел рядом, как сунул под себя зашелестевшую пачку бумаг, щёлкнул зажигалкой. Ему казалось, что он слышит даже мысли Гарри, размышляющего над тем: будить ли президента из-за срочных депеш?
Рузвельт упрямо не поднимал век, хотя от мечтаний уже не осталось следа. С шелестом бумаг в мозг ворвались мысли о тысяче препятствий, которые нужно было преодолевать каждый день, чтобы провести сквозь бури корабль Штатов, не утопив его вместе с грузом золота, в котором есть и его собственная доля.
Он был из тех капитанов, что являлись пайщиками в деле, – капитанов, которые терпели тяготы своей профессии не за жалованье, а потому, что боялись доверить кому-нибудь другому драгоценный груз. Не было бы ничего легче, чем сдать бразды правления недовольным, подсиживающим его на каждом шагу. Но что случится, если он им уступит? Они доведут команду до бунта – и тогда пиши пропало. Матросы поднимут красный флаг, не признавая ни авторитета хозяев, ни их прав на корабль. Офицеров выкинут за борт. Пайщики превратятся в таких же нищих, обыкновенных людей без дворцов и дивидендов, как сами матросы. И первым лишится всего капитан: и паев, и корабля, и его золотого груза. Нет, не ради такого финала стал он за руль корабля Америки!
Не дать офицерам погубить груз, не дать взбунтоваться команде!
Что же, пожалуй, нужно возвращаться к водовороту европейских дел, в который непременно будут втянуты Штаты, если начнётся буря…
Он чуть-чуть раздвинул веки и, не шевелясь, взглянул на Гопкинса. Тот сосредоточенно курил и смотрел куда-то в глубину парка, словно забыв под действием окружающего покоя, зачем пришёл. Рузвельт осторожно потянул к себе книгу, намереваясь подшутить над Гарри, но тот заметил это движение и приветливо улыбнулся:
– Так сладко спали, что не хотелось будить…
Спал?! Хорошо, пусть Гарри думает, что он спал.
– А на свете опять случилось что-нибудь, что не даёт вам сидеть спокойно? – с улыбкой спросил Рузвельт.
– В этой Европе все время что-нибудь случается, – неприязненно сказал Гопкинс. – Право, Франклин, они совершенно не умеют жить.
– Нечто подобное приходило мне в голову о моих родителях, когда я лет шестьдесят тому назад сидел в самодельном вигваме, среди этих вот самых деревьев, и удивлялся отцу, который предпочитал скучную фетровую шляпу боевому убору команчей.
– А сейчас мы смотрим, раскрывши рот, как европейцы размахивают томагавками.
– В общем все живут, как умеют, и всем кажется, что они живут недурно, – заключил Рузвельт, – пока в их дела не начинают путаться посторонние.
– У каждого должна быть своя голова.
– Вы же сами жаловались, Гарри, что Ванденгейм по уши залез в немецкое болото и что из-за этого расквакались лягушки в Европе.
– Я и не беру своих слов обратно. Но мне кажется, что Европа из тех старушек, которым не прожить без полнокровного и богатого друга дома.
– Кое у кого на том материке есть тоже шансы разбогатеть.
– Я знаю, Франклин, на кого вы намекаете, но, честное слово, если дело идёт о соревновании с Советами, то я на стороне Джона.
Президент посмотрел в глаза другу.
– Мне что-то подозрительна защита, под которую вы вдруг взяли этого разбойника.
Он захлопнул все ещё лежавшую на коленях книгу и отбросил её на стул.
– Какую ещё гадость вы принесли там? – Рузвельт потянул за угол пачку бумаг, на которых сидел Гопкинс.
– Если верить Буллиту…
– Самое неостроумное, что мы с вами можем сделать, – с неудовольствием перебил Рузвельт.
– …Гитлер не отступает ни на шаг от своих требований, и англо-французы не выказывают намерения удержать его от вторжения в Чехию.
Рузвельт сделал усилие, чтобы сесть, плед упал с ног; Гопкинс заботливо поднял его и положил обратно. Рузвельт потянулся было за палкой, но тут же с раздражением махнул рукой.
– Все ещё не могу привыкнуть к тому, что лечения в Уорм-Спрингс мне хватает уже не больше чем на два-три месяца… Какая дрянная штука старость, Гарри. – И тут же улыбнулся: – Чур, это между нами.
Он откинулся на спинку и сделал несколько беспокойных движений рукой. Такое волнение находило на него редко и никогда на людях. Единственным, перед кем он всегда оставался самим собою, был Гопкинс. Но даже в его присутствии минуты несдержанности бывали краткими. Рузвельт быстро брал себя в руки.
Подавляя вспышку раздражения, он сказал:
– Меня поражает близорукость англичан и французов. Неужели там не понимают, что тигра нельзя ублаготворить мышиным хвостом? И Ванденгейм и остальные должны понимать, что война не будет изолированной европейской, – она утянет нас, как водоворот, потому что не может не втянуть.
– Они рассчитывают взять своё в драке.
– В конце концов есть же среди нас люди в здравом рассудке! – в возмущении воскликнул президент. – Нужно быть совершенными кротами, чтобы, подобно нашим изоляционистам, воображать, будто чаша может нас миновать, если она перельётся через край.
– Они этого и не воображают, – осторожно заметил Гопкинс. – Они только хотят уверить в этом других.
– Тем подлее и тем глупее с их стороны воображать, будто среди полутораста миллионов американцев не найдутся такие, которые выведут их на чистую воду.
– Это одна сторона глупости, есть и другая – более опасная: втянуть нас в игру в первом тайме, Франклин!
– Кто же, по-вашему, Гарри, должен начать игру?
– Думаю, что начнут её всё-таки немцы, несмотря ни на что.
– А с той стороны?
– Может быть, для начала чехи, может быть, русские – не знаю. Да и не в этом дело. Важно, чтобы мы могли вступить в игру только в решающий момент, когда ни у кого из них уже не будет сил довести дело до конца.
– А что вы считаете концом игры?
– Порядок… относительный порядок в мире. Когда можно будет хотя бы на пятьдесят лет вперёд уверенно предсказать, что революций не будет. И я считаю, что это станет возможно только при одном условии: мы вступаем в игру только в решающий момент и забиваем решающий мяч. Мы должны выйти из игры такими, словно только разминали ноги.
– Чтобы снова драться?
– Драться-то будет не с кем. Наше дело будет тогда только присматривать, чтобы выдохшаяся команда не отдышалась раньше, чем это будет нужно нам.
– Нет, Гарри, – решительно воскликнул Рузвельт, – вы, чересчур оптимистически смотрите на вещи. Есть ещё Англия…
Черты Гопкинса отразили недоумение.
– Вы думаете, её нельзя заставить разумно смотреть на вещи?
– Только до тех пор, пока вы не станете посягать на целостность империи.
– Не может быть и речи, чтобы англичане могли вечно сидеть на половине глобуса, присосавшись, как спрут, ко всем материкам, – с решительным жестом сказал Рузвельт.
Опершись подбородком на руку, он, нахмурившись, смотрел в сад и, казалось, забыл о Гопкинсе, но вдруг оживился:
– Послушайте, Гарри, мне кое-что пришло в голову: принесите-ка вчерашнюю папку Кордэлла, я её так и не просмотрел. Он говорил, что там есть подробное политическое донесение Керка.
– Я знал, что это вас заинтересует.
Гопкинс привстал и вытащил из-под себя бумаги. Отобрав одну из них, протянул президенту, остальные положил на траву.
– Керк пишет, что позиция Советов остаётся попрежнему ясной и твёрдой. Они готовы к выполнению своих обязательств в отношении чехов.
– Так что же ещё нужно Даладье? – начиная раздражаться, спросил Рузвельт.
– Одно единственное: не позволить советским войскам войти в Западную Европу.
– Я их понимаю… я их понимаю, – машинально повторял президент, пробегая глазами бумагу. – Но не думают же они, что дело дойдёт до войны, если Гитлеру будет ясно сказано, что вместе с французами выступят русские.
– Вероятно, они именно этого и боятся. А предоставить Красной Армии роль освободительницы Европы… – Гопкинс пожал плечами.
– Д-да… – Рузвельт почесал бровь. – Ну, до этого дело не дойдёт, не может дойти. Я достаточно понял шакалью природу Гитлера: он подожмёт хвост от настоящего окрика. Только не нужно перед ним расшаркиваться, – это опасно, так как открывает всю игру. – Он задумался и как бы про себя повторил: – Только не расшаркиваться… Знаете что…
Гопкинс ждал, но президент молчал. Он продолжал напряжённо думать, наконец медленно проговорил:
– Вот что, Гарри: если ни Париж, ни Лондон не хотят понять, как нужно действовать, им покажет Вашингтон.
Гопкинс сделал протестующий жест.
Президент улыбнулся и успокоил его мягким движением руки.
– Мы сделаем это, не дразня гусей, а Гитлер получит то, что нужно. Возьмите-ка перо, Гарри… – И, подумав, продиктовал: – «Президенту Калинину, Москва. Мистер президент, по мнению правительства Соединённых Штатов, положение в Европе является столь критическим и последствия войны были бы столь гибельны, что нельзя пренебречь никаким демаршем, могущим содействовать сохранению мира. Я уже обратился в срочном порядке с призывом к канцлеру Германии, президенту Чехословакии…» – Рузвельт остановился и подумал. – Одним словом, Гарри, пусть Кордэлл сам ставит там всё, что нужно по смыслу, а в заключение напишет: «Правительство Соединённых Штатов полагает, что если бы глава СССР или советского правительства счёл необходимым немедленно обратиться с подобным же призывом от собственного лица – собирательный эффект такого выражения общего мнения даже в последнюю минуту мог бы повлиять на развитие событий». – Рузвельт снова сделал небольшую передышку. – Пусть Кордэлл сам все это отредактирует.
– И всё-таки, Франклин, я не облекал бы этого в форму вашего личного послания президенту Калинину.
Рузвельт удивлённо посмотрел на Гопкинса.
– Вы же понимаете, что речь идёт обо всём нашем корабле, – проговорил он. – Его нужно спасать от глупых претендентов в капитаны.
Молчание длилось долго. Оба думали о своём. Наконец Гопкинс, стараясь скрыть раздражение, спросил:
– Значит, телеграмма Керку?
Рузвельт посмотрел ему в глаза и усталым движением поставил в углу листка свои инициалы. Заметив, что Гопкинс достаёт новую бумагу, Рузвельт закрыл глаза.









































