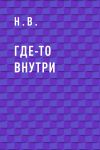Текст книги "Две повести о любви и отчаянии"

Автор книги: Николоз Дроздов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Две повести о любви и отчаянии
Николоз Дроздов
Дизайнер обложки Тая Королькова
© Николоз Дроздов, 2023
© Тая Королькова, дизайн обложки, 2023
ISBN 978-5-4496-2297-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ЛЮБОВЬ, ПОХОЖАЯ НА СОН…
Глава 1
Древние мифы, оказывается, не врали, утверждая, что красивейшая среди всех богинь возникла из морской пены. Теперь я был в этом уверен, собственными глазами увидев ее, выходящую на берег.
Прекрасное в своем естестве, удивительно пластичное, подобно скульптурным девам античности, доведенное природой до совершенства тело, будто вытесанное каким-то древним греком из паросского мрамора. Хотя можно было также предположить, что соткано оно некими фамильными мастерами из особых сортов китайского шелка – такой гладкой и нежной была ее кожа. Прямые, длинные, ниспадающие ниже плеч роскошные каштановые волосы, не голубые, а темно-синие, цвета моря глаза, симметричные, чувственные губы и идеальное лицо красавицы, точно сошедшей с полотен живописцев эпохи Возрождения. Это было нечто.
Я стоял как истукан и смотрел на нее разинув рот, не в состоянии шелохнуться, и, наверное, не сдвинулся бы с места даже под угрозой немедленного расстрела. Когда это неземное создание поравнялось со мной, наконец-то меня заметив, то оно вдруг произнесло:
– Чего уставился, mudила?!
Рот у меня раскрылся еще шире и не закрывался довольно долго.
* * *
Именно так начался первый день моей взрослой и самостоятельной жизни.
Мне было неполных семнадцать, месяц назад я окончил школу. Учеба, честно говоря, никогда не доставляла мне особого удовольствия, да я особенно и не старался, но где-то с восьмого класса вдруг возомнил, что наделен литературным даром, и стал сочинять рассказы. Показал пару из них старшему брату, чем немного его озадачил. Повертев бумажки в руке, он изрек: «Я думал, ты даже своей фамилии правильно написать не можешь». Более лестного отзыва о своем творчестве услышать мне не довелось. Раз, на каком-то школьном торжестве, решил рискнуть и вызвался на публичный дебют. Выбрал, как мне казалось, лучшую свою новеллу. Когда закончил чтение, встретило меня гробовое молчание и полное недоумение зала. Не знаю, что удивило слушателей больше: то, что я вообще читать умел, или же то, что за хреновину им прочел. Во всяком случае, от дальнейших публичных выступлений я отказался, как и от литературных опытов в целом, тем более что к тому времени уже бредил кинематографом и к моменту получения аттестата зрелости на все предложения родителей сдать экзамены в какой-нибудь институт отвечал непреклонным отказом и просил лишь одного: устроить на работу в «Грузия-Фильм». Любую.
Что им оставалось делать – скрепя сердце они малость постарались, и я, таким образом, был определен помощником к Сократу Джорджия, режиссеру весом в центнер с лишним, снимавшему свою дебютную короткометражку «Трое у моря». Группа его уже находилась на съемках в Алахадзе, диком уголке абхазского побережья с сосновым бором на берегу, и я ему, в помощниках вроде бы не нуждавшемуся, свалился как снег на голову в середине лета. Немного подумав, он определил мои полномочия: я должен был будить гримершу в шесть утра и отводить к актерам с интервалом в четверть часа. В семь начинались режимные съемки, пока солнце стояло невысоко, в середине дня они прерывались и возобновлялись уже под вечер, ближе к закату. Гостиницы как таковой в деревне быть не могло, мы снимали комнаты в частных домах, благо, до любого из них было рукой подать, проблемой оставался подъем ранним утром под звон будильника, который, треща во всю мощь, лишал сна не только меня одного. И Юра, помощник оператора, в комнату к которому меня подселили, и костюмерша Софья, квартировавшая за стеной, благодаря безотказному действию этого акустического агрегата равнозначно меня возненавидели.
Сценарий фильма, экземпляр которого мне вручили, оказался полным отстойником. По сюжету в летние каникулы на море двое молодых людей поочередно пытались прельстить прекрасную незнакомку. Один из них был атлетически сложенным, но совершенно недалеким, самовлюбленным красавчиком, другой – вдумчивым, серьезным и весьма эрудированным, но на вид неприметным очкариком. Девушка поначалу вроде бы симпатизировала первому, однако, убеждаясь по ходу действия в его никчемности и пустоте, отдавала свое сердце второму, высокоморальному и очень правильному юноше. Диалоги в этом эталоне драматургического совершенства мало чем походили на разговорную речь моих сверстников. Со сленгом супермена вроде было еще ничего, а вот тягомотина интеллигента, нашпигованная прописными истинами, никак не вязалась с ситуацией – действие ведь разворачивалось на пляже, а не на семинаре комсомольских активистов. От такого зануды девушке, следуя логике или интуиции, нужно было держаться подальше, лучше даже бежать от него со всех ног, почему она сделала все с точностью наоборот, так и осталось для меня загадкой. Как и вопрос, с какой стати автор сценария (вроде меня в восьмом классе) решил заняться именно литературой, а не чем-то иным, и вдобавок – что надоумило Сократа взяться за экранизацию этой абсолютнейшей глупости. Видимо, с головой у этих ребят было не все в порядке. Однако высказать свое мнение вслух я не решался.
Наша съемочная группа, интернациональная по составу, количеством тянула на целую роту. Директор картины с секретарем-машинисткой, заместителем, администратором, бухгалтером и кассиршей. Режиссер с двумя ассистентами и помощником в моем лице. Два актера и актриса с мамашей. Оператор с ассистентом, помощником и «кранмейстером», отвечающим за стрелу на операторском кране и за тележку с рельсами для плавных съемок проездов. Художник в единственном числе. Звукооператор с помощником, гримерша, монтажница, костюмерша и реквизитор. Фотограф. Квартет бригады осветителей с прожекторами и бесчисленными связками кабелей. Пятеро водителей, обслуживающие два восьмиместных уазика, бортовой газик для транспортировки различного оборудования, тонваген – фургон с аппаратурой для записи звука и лихтваген – уродливое техническое чудо на колесах, генератор, вырабатывающий электрический ток для осветительных приборов. Плюс разнорабочие аборигены и массовка из числа отдыхающих.
Вот в такую попал я компанию в день своего дебюта в большом кино. С командировочным удостоверением в чемодане, прибывший на поезде в город Гагры и встреченный водителем уазика с открытым верхом, большим охотником почесать язык армянином по имени Вартан, был доставлен им прямо на место съемок. Именно там я молча и лицезрел сцену, в которой героиня фильма, искупавшись, выходит из моря на берег. Чем она закончилась, известно.
Глава 2
Хотя в это трудно было поверить, но та, что показалась мне возникшей из морской пены небожительницей, оказалась девочкой всего пятнадцати лет от роду. Что я о ней подумал после того, как она нарекла меня тем самым словом, пожалуй, вряд ли стоит повторять. Потому что мое первое умозаключение, составленное в основном из подборки непечатных слов, было тоже не совсем справедливым.
Забегая вперед, скажу, что девочка эта, подобно Афродисии, также носящая античное имя – Медея, была не просто красивой. Сократ в свое время, заметив ее в уличной толпе, подобно мне, впал не то в ступор, не то в транс, хотя был родом из Батуми и на симпатичных девушек успел вдоволь насмотреться с самого детства. К тому же он заканчивал ВГИК, где учились все будущие кинозвезды. Но ничего подобного до сих пор не видел. Однако ему пришлось приложить максимум усилий и довести до нулевой отметки личный ресурс терпения, прежде чем он уломал ее сняться в этом идиотском фильме. В отличие от девчонок своего возраста, Медея к миру кино относилась с абсолютным равнодушием и шанс в одночасье стать кумиром всех сверстников и сверстниц воспринимала чуть ли не с иронией. Нельзя было однозначно назвать ее плохой или хорошей, она не была ни дрянью, ни тем более ангелом. В ней совершенно естественно уживались внешне божественно женственная натура и внутренняя вульгарность, какое-то мужланство, вырывающееся наружу, точно лава из кратера вулкана, как правило, в приступах внезапной и вроде бы беспричинной агрессии.
Возможно, последнее было защитной реакцией на тотальный интерес, проявляемый к ее особе представителями противоположного пола всех возрастов, без исключения. Тогда девочка, вместо того чтобы красоваться или кокетничать с ними, как это присуще женским особям, начинала действовать наоборот – показывать им свой оскал, наподобие волчицы или дикой собаки динго. Казалось, что ей не упрощала, а только усложняла жизнь собственная красота, она пыталась утвердиться вовсе не ею, а силой своего характера, стараясь сломать, обидеть, унизить, наказать, всецело подчинить своей воле каждого, кто имел несчастье ей чем-то не понравиться. Но всего этого я пока не знал и лишь поглядывал на нее издалека, не решаясь приблизиться, с равным чувством благоговения и неприязни, как на какую-то диковину.
Жизнь моя тем временем шла своим чередом. Я перезнакомился со всеми, вскоре утвердившись в качестве полноправного члена съемочной группы, нареченной Сократом «ударной фабрикой грез», хотя фабрика эта, по моим наблюдениям, работала уж точно не как отлаженный голливудский механизм, скорее, наподобие его антипода, со сбоями, накладками и курьезами. Однако мне было в радость познавать новую жизнь, доселе совершенно неведомую. Итак, поднятый будильником на ноги ровно в шесть, я, наспех одевшись и умывшись, бежал будить гримершу, гарну дивчину, чуть старше меня, смешно выговаривавшую грузинские слова на свой украинский лад. Спустя минут пятнадцать мы с Галиной, которая, вышагивая впереди, оставляла за собой шлейф аромата свежести, в первую очередь отправлялись к Темуру, парню, который играл в фильме интеллигента. По причине, что наши визиты он воспринимал гораздо лояльнее, нежели его экранный соперник, которого в жизни звали Мераб. После визажа полусонного супермена уже без моего сопровождения Галя шла к взрывоопасной старлетке, и делала это она с такой охотой, будто ее ждала гильотина.
Далее, собрав наконец вместе дуэт актеров с актрисой, что казалось делом простым лишь тому, кто им никогда не занимался, я усаживал это трио в кабриолет Вартана. Адскому водиле оставалось покрыть расстояние примерно в двести метров, чтобы доставить нас до пляжа, где и проходили все съемки. Галина, отправляющаяся туда своим ходом, как правило, опережала наш моторизированный график минут на двадцать.
Съемочная площадка жила жизнью кочевого цыганского табора, временно решившего осесть в приглянувшемся месте. Меланхоличный фотограф, нытик по имени Вилен – укороченное от «Владимир Ильич Ленин» – фиксировал рабочие моменты фильма. Обожавший всевозможные ракурсы, в объективе своего аппарата обычно он видел следующее.
Режиссер и художник, оба важно восседали на складных стульях. Тедо, долговязый, тощий и весьма экспрессивный, вечно жестикулирующий, делал в своем альбоме раскадровки, демонстрируя их Сократу, который, по обыкновению, был в темных очках, дымил трубкой, сопя и утвердительно кивая головой. Ассистент Каца и помощник Юра, установив на штатив камеру для оператора Акакия, замеряли рулеткой расстояние от помеченных колышками на песке начальных и конечных точек движения актеров в кадре. Их действия вызывали протест помощника звукооператора Симона, который занимался тем же, определяя периметр чувствительности микрофона на жерди, которую он еле удерживал обеими руками.
Звукооператор Нэмо, визуальной особенностью которого была кривая шея с головой, от рожденья повернутой чуть влево и вниз, настраивал аппаратуру в своем фургоне и орал оттуда своему помощнику: «Два шага влево!.. Теперь четыре вправо!..» Симон выполнял команды, неуклюже двигаясь с вытянутым «журавлем», и непременно сталкивался то с Каца, то с Юрой.
Акакий Захарович, самый старший по возрасту и самый немногословный в группе человек, сидел под зонтом, дающим тень камере, и чертил на песке какие-то каракули, думая о чем-то своем. Чуть поодаль от эпицентра главных событий четверка осветителей манипулировала фанерными щитами с наклеенной на них фольгой, ловя солнечные лучи, и, хохоча, ослепляла ими друг друга. Двое из них, Виталик и Гога Биджамовы, были братьями, двое других, Битбуновы – просто однофамильцами. Все являлись представителями древнего и славного ассирийского этноса, носителями семейных традиций, продолжателями дела дедов и отцов, прельщенных в свое время престижностью данной профессии.
Были они ребятами уникальными, парадоксальными с точки зрения законов физических явлений, наподобие живых громоотводов. Их столько раз било током при исполнении своих служебных обязанностей, что они полностью к нему адаптировались. И если бы, не дай бог, кому-нибудь из них было суждено закончить свою жизнь на электрическом стуле, это американское изобретение в их случае не сработало бы. Своими щитами во время съемок они подсвечивали лица актеров, вызывая тем самым недовольство последних, у которых благодаря получаемому эффекту постоянно рябило в глазах. Но виноваты были не ребята, а пленка, цветная, низкочувствительная и посему требовавшая большего света. Отблесками солнца от фольги на щитах он и добывался.
Белокурая гримерша Галя с веснушчатой монтажницей Нуну вели свою великосветскую беседу, как правило, в два голоса одновременно. Эти неразлучные улыбчивые подружки были девушками бойкими и за словом в карман не лезли, но, в отличие от некоторых из женской половины группы, они ни с кем не ссорились, не матерились и не пили водку. Поэтому и были мне наиболее симпатичны.
Когда наконец, благодаря моим с Вартаном усилиям, актеры попадали на свои рабочие места, отныне заниматься ими предстояло уже ассистентам режиссера – Левану, смуглому молодому человеку по прозвищу Индус, и Лие, картавящей женщине неопределенного возраста в соломенной шляпе. Любимым выражением ее было – «Мне все равно», но ввиду того, что буква «р» у нее звучала как «г», нетрудно представить, что в итоге получалось. Леван первым делом вручал актерам бумажки с текстом тех эпизодов, которые в данное утро снимались. Эти тексты в четырех экземплярах под его же диктовку накануне обязана была печатать машинистка Клара, секретарь директора группы. Актеры усаживались на песок, и начинался процесс читки вслух, сначала с листа, дальше уже – без. Благо, монологи были примитивны до той степени, что запомнить их смог бы любой одноклеточный, так что времени на репетиции не особенно тратилось. Вызубрившие свои роли актеры спустя полчаса были готовы к экранным подвигам.
Лия выводила их на съемочный объект, расставляя или рассаживая согласно раскадровкам художника Тедо, хотя ей лично было «все г’авно». Сократу – не всегда, а лишь в случае сложности сцены – приходилось отрабатывать с ними определенные жесты и добиваться нужных интонаций, объясняя и демонстрируя, как это следовало делать. Оператор Акакий просил актеров показать ему свои передвижения в кадре, иногда корректируя их. Последним штрихом Галя припудривала всем троим лбы, носы и подбородки, чтобы не особенно блестели. Сократ, вынув на пару секунд свою трубку изо рта, брал в руки рупор и выдавал в него сакральные слова: «Внимание! Мотор!..» Перед камерой и журавлем с микрофоном шустро возникала рыжеволосая Нуну, произносила смешливым голосом: «Кадр сорок шесть, дубль один!» – и хлопала своим нумератором. В один и тот же день могли сниматься сцены, относящиеся к началу, середине и концу фильма. Хлопок нужен был ей для того, чтобы впоследствии при монтаже синхронизировать звук с артикуляцией актеров в кадре. Далее Сократ, так же посредством рупора, изрекал: «Начали!..» – и уж после этого начинались съемки. Продолжались они часов до двенадцати, если до того наша небожительница не закатывала истерики, а когда солнце достигало зенита и в воздухе появлялась так называемая дымка, прерывались до шести вечера.
Эти свободные часы использовались каждым по собственному усмотрению. Можно было поплавать и позагорать, отоспаться в тени сосен, поиграть в волейбол или пофлиртовать с отдыхающими диким образом девушками. Обедать мы шли в столовку цитрусового совхоза, меню которой составляли блюда из курятины, поставляемой местной птицефабрикой: суп, поджаренные ножки, печенка, яичница. И компот. В четверг, рыбный день, нас кормили ухой и жареной ставридой с рыбозавода. Никто на однообразие рациона не жаловался, скорее, наоборот, ведь плата за комплексный обед была символичной: один рубль. На мою зарплату можно было съесть пятьдесят таких обедов, хотя она и была самой низкой по тарифному разряду, зато в отличие от остальных не облагалась налогами, по закону я должен был получать все сполна. К тому же мне выплачивали суточные – 2,60 в день. Жить можно было, если бы не одно «но».
Каца, ассистент оператора, малосимпатичный субъект, раз предложил мне сыграть в буру. Я ответил, что не умею. Он сказал, что научит, это легко. И научил. Поначалу мне на удивление везло. Потом Каца объяснил, что вообще играть следует на деньги, пусть небольшие, но раз счет идет на них, то и глупостей в игре делается меньше. Я счел сказанное логичным, но теперь мне уже страшно не везло, и таким образом в общей сложности я проиграл ему сто рублей – все наличные, выданные мне родителями. А заодно, в счет долга, и месячную зарплату, которую пока не получал. И все это именно во время двух перерывов между съемками, за какие-то шесть-семь часов, в тени сосен под шум набегающих волн. Романтика.
Виталик с Гогой, братья, издалека наблюдавшие за моей последней невезухой, по пути в столовку поинтересовались, на сколько именно сван меня наказал. Услышав названную сумму, они переглянулись и в унисон адресовали мне два слова: «Вот дурак!» А потом Виталик рассказал краткую биографию этого типа – Каца. Рос мальчик в горах Сванетии, и у него никогда не было игрушек. Кроме одной, своей собственной, пониже живота. Играться ему приходилось только с ней, поэтому она у него со временем выросла до колен. Окончив школу и решив продолжить учебу, подался в столицу к родственникам. Дядя его, увидев как-то эту игрушку, глубоко призадумался и наконец сказал племяннику, что не учеба ему нужна, а дело. И просветил, какое именно: ублажать этой игрушкой разных озабоченных дам далеко не первой молодости. Не безвозмездно, разумеется. Дядя был не дурак, парень вскоре обрел не только в своем дворе, но и во всем квартале статус универсального дамского утешителя. Одна из них, видимо, самая им осчастливленная, и устроила его в киностудию, чтобы всякий раз иметь поближе к себе.
– Вот и тебя он трахнул! – закончил рассказ брата Гога.
– Он катала, жулик, – добавил Виталик. – Больше с ним не играй, а то проиграешь еще жену и детей.
Да, подумал я тогда, с юмором у вас, ребята, безусловно, все в порядке.
– Я ведь холостой, – сказал им в ответ.
Глава 3
Но на дальнейшем моем картежничестве в тот день был поставлен крест. Видимо, не терпящие обмана и несправедливости братья Пижамовы (в группе иначе их и не звали) сразу же поделились полученной информацией кое с кем из представительниц слабого пола, далее новость стала распространяться вокруг со скоростью звука. А уже поздно вечером, после окончания съемок, оператор Акакий, отведя в сторонку своего ассистента Каца, влепил ему такую затрещину, которую невозможно было не услышать в радиусе пятидесяти метров, а после дал еще и пинка, приказав тотчас же вернуть все малолетке. Именно так меня и назвал.
Следует добавить, что слово Коки Захарыча было вроде неписаного закона для всех, будь то директор картины, режиссер или даже сумасбродная Медея. Хотя говорил он реже остальных в нашей киношной команде. Уважали его прежде всего потому, что он был старшим по возрасту, прожив непростые сорок с лишним лет, но в особенности же за то, как Акакий их прожил. Выросший на улице блатным мальчишкой с понятием «не бойся, не надейся, не проси», повзрослев, он стал еще более отчаянным подростком. Кровожадным и беспощадным на криминальных разборках, хотя никогда не причинял зла матерям и сестрам своих самых заклятых врагов, грабил и терроризировал только подонков и богатых, лупил и калечил исключительно виноватых, защищал младших и ни разу в жизни не нарушил своих принципов.
Однажды на какой-то сходке его незаслуженно оскорбил авторитет в законе. Кока мог бы запросто придушить того, но сдержал себя, ибо тот был старше и по годам, и в воровской иерархии. Он молча вынул из кармана нож, открыл его, положил свою ладонь на стол и разом, со всей силой, вонзил в нее острое лезвие по самую рукоятку. Рука будто бы навсегда прилипла к столу, однако Кока спокойно вытащил нож из раны, забрызгав все вокруг кровью, и так же молча ушел оттуда прочь. Авторитет, понявший смысл поступка, оценил его, но все же усмотрел в нем некую опасность для себя на будущее и, когда пару недель спустя Кока с друзьями отправился на очередное дело – потрясти зарвавшегося торговца краденным, сдал их всех с потрохами. В момент, когда барыга, отдав пришедшим драгоценности и деньги, клятвенно уверял их, что больше у него ничего нет, нагрянули оперы. В завязавшейся перестрелке погиб милиционер, всех подельщиков забрали. Кока получил семь лет и отсидел их от звонка до звонка. Выйдя на волю, он к прошлому возвращаться не стал, а подался на киностудию, попросив знакомого оператора взять к себе в помощники. Тот, зная всю подноготную Коки, задал вопрос: зачем? Кока ответил: хочу научиться снимать. И научился. Без опыта, без образования он видел в объективе камеры мир таким, каким не видели его дипломированные, лучшие из лучших операторов. Вот именно за все это люди его и уважали.
Каца без особого энтузиазма вернул мне восемьдесят рублей, пояснив, что остальное потратил. Я не возражал, сказав лишь, что никому не жаловался. Он ответил: «Знаю». На следующее утро, подойдя к Коке Захарычу, попытался поблагодарить его. Тот отмахнулся и посоветовал: «Лучше играй в футбол».
Но и в футболе я был не шибко силен. Как правило, по воскресеньям нашу съемочную сборную вызывала на поединок команда местного молодняка. Местом ристалища становился сельский стадион, который вполне мог сойти за трек для мотогонок по пересеченной местности. Меня ставили в нападение на левый край, и когда изредка я получал пас, то мчался вперед по самой кромке поля во всю мощь, на которую был способен. И, домчавшись до нужной точки, пытался сделать подачу в штрафную площадь на Мераба, где наш центровой был на голову выше всех защитников. Бегать-то я умел, но вот подавать с левой ноги – нет, следовательно, и подачи мои почти никогда не находили адресата. Пользы, короче говоря, команде не приносил. А на правый край меня не переводили, потому что в этой зоне играл Симон, самый шустрый среди нас на поле. Темур, бывший стражем ворот, кстати, тоже знал свое дело, отбивая иногда, казалось бы, безнадежные мячи. Смотреть на него в такие минуты, конечно же, доставляло мне удовольствие, но слушать его уже потом, после футбола или в перерывах между съемками, было куда интереснее.
Темур был парнем что надо, выделяющимся среди других какой-то особой тактичностью. Я с первого дня к нему привязался. Сам он лишних вопросов задавать не любил, но о чем бы ты ни спросил его, на все у него находился ответ, хотя своей образованностью ни перед кем не кичился. В обычной жизни – студент филфака университета, будущей специальностью выбравший французскую литературу прошлого века. Стендаль, Гюго, Флобер были его любимыми писателями. Гюго, кстати, моим тоже. Но их он не трогал, а первый наш разговор начал, просветив меня относительно Великой французской революции. Сказал: «Один умный человек написал: „Революция – вещь сумасшедшая, и нечего удивляться, если умалишенные поведут по улицам своих врачей и санитаров в смирительных рубашках“». Я, однако, удивился, и даже очень, ибо в учебниках истории подобного не читал. Он добавил: «Все революции пожирают своих детей. Французская была событием, о котором при Людовике Шестнадцатом мечтали многие французы. Тех, которые мечтали больше других, революционеры первыми поволокли на эшафот. Аристократов. Единственное, что порождает всякая революция, – это террор». Я удивился еще больше, ибо полагал, что революции, как Великая французская, так и Великая Октябрьская, совершались исключительно ради справедливости на земле, во благо простых людей, народа. Так нас учили. Произнес это вслух, на что получил ответ: «Когда вернешься домой, сходи в библиотеку и найди книгу Анатоля Франса. „Боги жаждут“ называется. Может, тогда поймешь». Я обещал.
Однажды, задумавшись над тем, каким образом он оказался в нашей компании, спросил, чем его прельстило кино.
– Кино как вино, – услышал в ответ. – Захотелось попробовать.
Темур помнил наизусть в русских переводах стихи Шарля Бодлера, Поля Верлена и Артюра Рембо, поэтов, о существовании которых до сих пор я и не подозревал, и теперь мой гипоталамус впитывал, точно губка, волшебные образы их рифм. Дал мне маленькую книжку Рембо, который особенно меня поразил. Оказывается, занимался он стихотворчеством всего четыре года, а «Пьяный корабль», свой шедевр, написал, будучи моим ровесником. «Как луна беспощадна, как солнце черно!..» – без конца повторял я вслух, не переставая удивляться. Потом этот странный малый поэзию забросил, поставив целью сколотить миллион, укатил в Африку, где вскоре добился своего, разбогатев на торговле оружием. А умер он в 37 лет, как Пушкин и Маяковский.
Честно говоря, мои контакты с образцами изящной словесности ограничивались классикой из школьной программы плюс тем, что настоятельно рекомендовали прочесть родители, и, кроме того, модными тогда Ремарком, Хемингуэем, Стейнбеком да еще повестью Василия Аксенова «Звездный билет», напечатанной в журнале «Юность». В «Билете» этом окончившие школу ребята удирали из дома в поисках чего-то нового, чего не хватало им в постылой жизни. Очередную дилемму решали, подбрасывая монету: орел или решка. Это было нечто иное, чем пичкала нас официальная литература, поэтому, ассоциируя главного героя с собой, я с журналом не расставался. Дал почитать Темуру, ему тоже повесть понравилась.
Темур многое знал не только о революциях и поэзии. Он рассказывал мне о жизни Винсента Ван Гога и Поля Гогена, любимых им художников, о которых слышать-то я слышал, но, признаться, открывал для себя также впервые. Между тем, по его словам, эти двое, больше чем кто-либо еще, оказали никем не оспариваемое влияние на всю живопись последующего, нашего века, исключая творцов социалистического реализма в искусстве. Никаких иллюстраций у него, естественно, не было, но я будто зримо уже представлял их полотна, исходя в основном из мотиваций и странностей сумасшедших гениев. Думал об отрезанном ухе, приступах безумия, подсолнухах и брутальных мазках Ван Гога, о Гогене, считавшем цивилизацию болезнью, бросившим работу служащего банка и оставившим семью, чтобы уплыть в Океанию, взять в жены молодую таитянку и написать там лучшие свои картины.
Общение с Темуром, видимо, поставившим целью ликвидацию моей полной дремучести, возымело действие, перевернув в моем сознании все вверх дном. Собственная уникальность, в которой я почему-то до тех пор не сомневался, была мною же поставлена под большой вопрос. Да и завышенное мое самомнение исчезало куда-то само по себе. Рассказчиком он был бесподобным. Я подумал как-то, что если бы в фильме он говорил с героиней о том же, о чем и со мной – о литературе, поэзии и живописи, а не повторял без конца какие-то идиотизмы, тогда ей, естественно, и следовало влюбляться в него по уши. Согласно сценарию же он должен был нести какую-то чушь о «романтике третьего семестра» (студентов на месяц отправляли собирать урожай с целинных земель Казахстана) и пудрить девушке мозги цитатами философов марксизма. Но по замыслу сценариста именно такая эрудиция открывала ему путь к завоеванию руки и сердца красивой незнакомки… наслаждающейся морским бризом и солнечными ваннами!
Попытался я было достать и Тедо в надежде услышать от него еще что-нибудь для меня новое о художниках и живописи. Поначалу спросил, нравится ли ему Гоген. Тедо как-то странно взглянул на меня, сомкнул ладони руки так, что косточки в них хрустнули, после разомкнул и стал судорожно ими размахивать.
– «Забава злого духа», «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда идем?»! Возможно ли, чтобы эти картины человеку не нравились? – нервно переспросил он. – Ты-то откуда его знаешь?
– Темур рассказал. О нем и Ван Гоге.
– Что именно?
– Что если бы не они, искусство двадцатого века было бы совсем другим.
– А импрессионисты? А Сёра, Модильяни, ранний Пикассо?
– Не знаю, – ответил я. – О них он мне ничего не говорил.
Тедо снова начал махать своими длиннющими руками, теперь прямо перед моим носом.
– Послушай, – сказал. – Если ты интересуешься живописью, начни с самого начала. Иначе мысли в твоей голове смешаются, как смешались языки народов, возводивших Вавилонскую башню. Возьми простенькую книжку по истории искусств и внимательно ее прочти. Потом найди что-нибудь посложнее. И так дойди до самого сложного. По-другому тебе ни черта не понять. Тем более Гогена.
– А у вас кто самые любимые художники? – спросил я.
Не задумавшись и даже вроде успокоившись, он ответил, как мне показалось, на китайском:
– Хиеронимус Босх и Питер Брейгель Старший.
Больше я ему не надоедал.
С Сократом было проще. Этот увесистый, добродушный и разговорчивый человек вечно носил с собой портфель, но я не видел, чтобы он им пользовался, хотя бы раз его открыл. Однажды втихаря от хозяина это сделал наш шутник Мераб, не обнаружив там ничего, кроме томика Пушкина. Пушкина он заменил обыкновенным кирпичом, и Сократ, не обращая внимания на то, что портфель его заметно прибавил в весе, продолжал по-прежнему всюду таскать его с собой, неизвестно с какой целью. Возможно, он полагал, что темные очки и курительная трубка в комбинации с этим портфелем придавали ему особую творческую респектабельность.
Сократ учился в мастерской Довженко, хотя своим учителем считал Сергея Эйзенштейна11
Известные советские кинорежиссеры и педагоги.
[Закрыть], самого именитого советского режиссера. Называл титаном и с удовольствием делился со мной примерами его новаторских открытий. Из написанного о «Броненосце» можно было составить целую библиотеку, воспевали оды этому шедевру «великого немого» все киноведы поголовно, и не одни они, а кому только было не лень, что лично у меня отбивало всякую охоту его смотреть. Но Сократ заинтриговал, рассказав о том, чего я знать не мог. Кульминация фильма – на мятежном корабле вспыхивает революционное восстание. Толпа горожан с берега неистово приветствует это событие. Все взгляды – и людей на пристани, и матросов на палубе – обращены вверх, ибо на мачту торжественно взмывает революционное красное знамя. Естественно, фильм был черно-белым, но знамя – действительно красным. Эйзенштейн раскрасил его от руки в каждом экземпляре фильма. Именно благодаря такому фокусу трепещущий красный флаг над броненосцем производил на зрителей ошеломляющий эффект. «Потемкин» триумфальным шествием прошел по кинотеатрам всего мира, а международная ассоциация критиков признала его лучшим фильмом в истории кино.