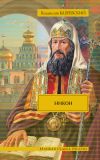Текст книги "Порубежники"
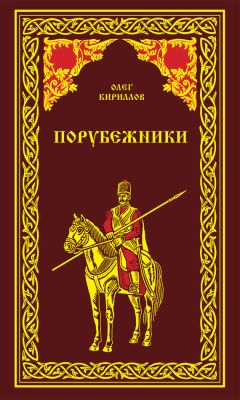
Автор книги: Олег Кириллов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Олег Кириллов
Порубежники
© Кириллов О.Е., 2011
© ООО «Издательский дом «Вече», 2011
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
Часть первая
Бела Город
Глава 1
В Пушкарной слободе надрывно орали петухи. По улице, ныряя в ухабины, проскрипела подвода с дежурной сменой пушкарей. Лохматая татарская лошадка, потряхивая гривой, ходко тянула нелёгкий груз: до десятка здоровых мужиков угнездилось на нескольких охапках сена, громко обсуждая привычные бытовые дела:
– Ох и меды варит Тимохина баба. Век бы от ней не отходил…
– Гляди, он кургузый-кургузый, а клешнёй своей как загребёть.
– Так я ж не про енто, я про меды.
– Ну-ну…
– А телка вчера чуть было не стерял… Залез, зараза, в терновник…
– Не, кадки ходко идуть… Мы с кумом до десятка надысь продали.
Дорога лезла на крутую Сторожевую гору. С неё сползала расплывчатая сизая дымка, цепляясь за кусты на склоне, забираясь в промоины, прямуя к берегу Весёлки, где россыпью, как попало, раскидались хаты и землянки Жилой. На Московской горке иная картина – здесь слобода, с крепкими купеческими и служилыми домами, с заборами из штакетника, с лабазами в кирпиче. Улицы тут почти прямые, дерева разрослись, весной малинник цветёт. Жиловскую голытьбу здесь не любят, а, поймав вечером, бьют. Слободские гордятся достатком и тем, что испокон века отсель идут служилые. Ещё при Иване Васильевиче, когда на месте города была малая крепостица, пришёл из Москвы пятисотенник стрелецкий Никодим Славин со товарищи. Стал на удобном склоне ставить избы для сидельцев, копать рвы да волчьи ямы на той горе, что над Донцом. При нём гарнизон вырос до шестисот человек. При Борисе Фёдоровиче, вместо слабых шести фальконетов, которыми разве что волков пугать, крепостица обзавелась двадцатью пушками и очередной набег хана Ахмата крымского отбила успешно и с прибытком: отхватили у крымчаков табун запасных лошадей.
При Алексее Михайловиче Тишайшем навалилась на город беда. Выведав про укрепления на Сторожевой горе, крымский воевода Рашид-бей не стал гнать свою конницу на пушки, а, выведав броды через мелкую Весёлку, ночью перешёл через неё со всей ордой и обозами и ударил на город с запада, с той стороны, где закрывали его лишь земляные рвы и насыпи. Порезвились тогда татарские сабельки, шесть тысяч одного полону увёл Рашид-бей.
На пепелище явился из Москвы стольник Антипьев. Пришли с ним четыре сотни стрельцов да две солдатские роты из полка генерала Трауернихта. Летом на берегу Весёлки застучали топоры: на северном склоне стрельцы под командой пятидесятника Фаддея Болховца стали ладить слободу. Речка хоть и широка и привольна, да мелка, потому и ход Рашид-бею открылся. На всех бродах поставили рогатки, копали рвы супротив конницы. Антипьев рассудил здраво: на свои огороды стрельцы татарина не пустят. Слобода растянулась вдоль берега Весёлки на полторы версты. Антипьев ездил в Москву, государь звал его к себе на беседу, подписал указ про строительство города. В том же году пришёл первый обоз с бездельными людишками: волею государя московский воевода князь Телятьев велел отлавливать на базарах и у храмов дудочников, плясунов и иной люд, промышляющий «всяческим развеселением» москвичей. Коль вольным хлебопашцам, изъявившим желание отправиться распахивать и всячески обихаживать Дикое поле казна выплачивала немалую сумму в три рубли и пять денег на обзаведение, то бездельный люд получал лишь по три деньги на рыло. По всей Руси от Москвы до Бела Города ползли шумные обозы со скоморошьими бубнами, пляшущими медведями, дудошными оркестрами. По пути бездельные обчищали огороды, уводили коней, да и невест, бывало, умыкали с-под родительского глазу. Потому следующий обоз местные встречали заставами, будто от татаровей, запрещали становища в сёлах, норовили нежданных побыстрее спровадить за пределы.
И в Бела Городе вольные селились либо в слободе, либо в посадах окрест. Бездельные же рыли землянки на южной стороне Весёлки, между городом и Сторожевой горой. Редко кто в первые годы обзаводился домом: ещё с десяток годов береговая полоса у Сторожевой утрами курилась синими дымками, будто из земли выходящими. Постепенно здесь возникали нехитрые жилища: столбы обивали крепкими слегами, на них вязали хворост, а потом всё это мазали глиной снаружи и внутри. Городские чинили всякие препоны бездельным, искавшим приработки в богатой слободе. Тамошним парням было обидно, что их девицы во всём предпочитали речистых и весёлых бездельных, умеющих и сплясать и песню спеть, и разговором развлечь. Поселение бездельных вскоре стали называть Жилой слободой, и вскоре она тоже стала давать городу и ратников, и пахарей, и мастеров деревянного дела. Лучшие в городе сёдла делали в Жилой, как и обувку для воев, здесь же появились иконописцы, привлекшие к себе учеников. Здесь же пристава завсегда искали воров и грабителей: неуёмный жиловской характер не в силах были сгладить ни года, ни смена поколений. Десятские метили дома в Жилой особыми знаками, чтоб при ночных облавах знать, где искать буяна, да только понапрасну: порядка при застройке тамошних улиц не блюли, и как найти вход-выход из жиловских закоулков, никто не ведал. Случалось и незнаемое – неведомое доселе, когда самих десятских потемну батогами потчевали. Потому и случалось: коль нырнуло краденное с вечера в Жилую – считай, там кануло, потому что следов его не сыщешь ни в жисть.
Между слободой и берегом Весёлки – сам город. Плац, храм Святых Петра и Павла, солдатская казарма, стены которой почти до крыши заросли крапивой и лопухами, большой ров, по берегам которого в деревянных станках стояли пушки. Со времён Антипьева ров не чистили, и там стыла зелёная ряска – со звонкоголосыми лягушками. За плацем десятка три казённых домов, сделанных московскою модою из глиняного камня, на огне обожжённого. Тут же два питейных заведения купца Селина, воеводский дом, несколько пакгаузов, куда, до отправки в Москву, складывали трофейный скарб и подушное мыто. Ныне в пакгаузах гнездились тучи воробьёв да галки, а добра, тем более трофейного, там уже годами не видалось. На восточной, что к Донцу, стороне города, добра немало. Там купеческие лабазы, почитай, как воеводские дворцы. Торгуют в Бела Городе прибыльно и обильно. Здешний купец хваткий, знает все ходы-выходы, бывал в Персии, Крыму, до франков и италийцев добирался. В промежутках меж войнами воеводы то и дело затевают баталии с купцами, потому и меняются, почитай, ежегодно. Сумел воевода обратать купца – в соболях начинает ходить, не сумел – возвращается в белокаменную, а там его, глядишь, и в железа, сердешного, в зависимости от того, какие поминки всучил московским дьякам купчина.
В этой, близкой к Донцу части города с первым лучом солнца шумят, волнуются каждодневные базары. На пристань с кочей вываливаются диковинные товары. В постоялых дворах у реки кого только не встретишь: и турка, и алана, и малоросса. Болтают, видали даже китайца, однако тут и сбрехать могли. И что удивительно: Рашид-бей весь город спалил, даже мазанки в слободе не пощадил, а вот что касательно пристани, лабазов, постоялых дворов – пальцем не тронул. Товары, ясное дело, выгреб до донышка, а строений – ни-ни.
Широк, могуч Донец. Привольно катит желтоватые воды свои, легко несёт на игривых волнах и торговые кочи, и струги казацкие, с низовьев Дона добравшиеся сюда с трофейным турецким товаром, и лёгкие челноки рыбарей. С горы над рекой в утренних туманах видятся дальние сказочные города, диковинные корабли в клубах белого салютного дыма. Под стенами города принимает Донец в свои объятия ласковую, игривую Весёлку, рождённую в глухих лесах таинственного Чёрного бора, возникающего от города и дотянувшегося до дальнего Хотмыжска. Под белыми скалами рождаются там мощные родники, где вода сладка и живительна. Меж лесистых холмов бежит она, торопится, бурлит на перекатах и успокаивается только здесь, у Бела Города, слившись с Донцом, затерявшись в его волнах на этот раз уже навсегда…
Вот-вот появится солнце. Пока что на горизонте вместо него только полукруглое светлое пятно, окаймлённое туманами. Будочники в последний раз перекликнулись охрипшими голосами:
– Славен город Курск!
– Славен город Яблонов!
– Славен город Хотмыжск!
– Славен Белый Город!
Наступало утро 11 сентября 1688 года.
* * *
Зосиму Станиславовича Шацкого разбудил сон. Будто он – не он, а комолый жеребец. Будто сидит на нём верхом ближний человек правительницы Софьи Алексеевны Фёдор Лявонтьевич Шакловитый и витой нагайкой стегает по бокам. Рад бы сбежать Зосима Станиславович, да на ногах будто гири кто повесил. Криком кричит он, молит седока о пощаде, а тот всё стегает да стегает. От собственного крика и проснулся. Сел на край кровати, перекрестился:
– Чур-чур… вот нечистая сила… приснится же такое.
Жена отозвалась тревожно:
– Чегой-то криком исходишь? Ай приснилось что, свет мой?
– Приснилось, Прасковьюшка. Будто всю ночь в жеребцах ходил, да всё под Фёдором Лявонтьевичем.
– Ай беда. Может, пора поминки посылать?
– Недавно шесть возов отправил. Приучишь – потом наплачешься.
– Оно так, – согласилась жена и выпростала из-под одеяла тяжёлое рыхлое тело. Села рядом, накручивая на ладонь седоватую жидкую прядь.
– Охотников на Москве ой как много на чужое. Вон хотмыжский Лаврентий самому Василь Васильичу князь Голицыну, сказывают, днями двадцать возов отправил. Может, и тебе не Шакловитому, а Голицыну поминки слать? Не обмишуриться бы?
– Ништо. Фёдор Лявонтьевич силёхонек ныне. Князь Василий – он кто? Петух при дворе. А Фёдор Лявонтьевич все дела благословясь вершит.
Сказал в голос и испугался. Страшные слова сказал, смертные. Не бабу петухом топчет князь Голицын, а правительницу Софью Алексеевну, благодетельницу, заступницу и покровительницу. Без неё безродный Зоська Шацкий стал ли бы тем, кем он есть? В двенадцать годов в родном Бжесце хлеба вволю не едал, а ныне разносолы не в душу. Да что хлеб? Кто мог ему нагадать такую судьбу? Взлёт за взлётом, даст Бог, и дальше здоровье правительницы будет в порядке. Молодая ещё. Вот примет корону… А до той поры только проклятый язык может всё поломать. Вон как силён был князь Масальский, за одним столом с правительницей бражничал, а ляпнул сдуру, что дед её по материнской линии Иван Михайлович Милославский в междуцарствие после смерти Тишайшего немало нагрёб из государственной казны. И что, где теперь князюшка? В морозном Пустозёрске пребывает, лишённый чинов, званий, а главное местностей, имущества то есть. Беднее бедного теперь, а раньше на золоте едал, из хрусталя пил. Вот он, язык, что может с человеком сотворить.
Подозрительно глянул на жену, застывшую в ужасе. Вскочил, наклонился, приблизил своё лицо к её лицу, зашептал:
– Не слыхала ты ничего, слышь. Не слыхала. Коль меня поволокут, то и тебе погибель. Поняла?
– Поняла, батюшка, – бормотала Прасковья, – поняла. А как же? Бес дёрнул, бес. И слыхом я не слыхала. Только мольбы коленопреклонённые возносил при мне, только мольбы…
– То-то, – облегчённо вздохнул, прошёлся по горнице в одном исподнем, остановился у окна. Во дворе повариха Авдотья, растопырив голые до плеч руки, ловила гусыню. Птица убегала, переваливаясь с боку на бок, испуганно гоготала, хлопала крыльями, но Авдотья умело загоняла её в угол, к забору, и, наконец, ужучила. Наклонившись с задранным подолом, открыла полные красивые ноги.
«Хороша, – подумал воевода, – сладка, небось? Надо бы заглянуть как-то».
Подошёл к зеркалу. Глядел на него маленький толстый человечек с большой лысой головой, короткими ногами. Бугристый лоб, оттопыренные уши. А ведь когда-то был иным. Тонкий. Гибкий, ноги обтянуты замшевым трико. У него всегда были красивые ноги. Когда лицедействовал при дворе княгини Сангушко, он всегда надевал тонкое трико. Как на него смотрели тогда дамы! А потом князь приказал выпороть его на конюшне и прогнать. Куда ему было идти тогда? Ему, сыну малороссийского реестрового казака и матери-польки, судомойки на кухне князя. Отец, стороживший княжеский парк, смог тогда только передать ему небольшую сумму денег. Он наверняка погиб бы в нищете, ибо что может пятнадцатилетний юноша с сорока злотыми в кармане среди злого и хищного мира. Он был обречён либо погибнуть, либо самому стать таким, каким был окружающий мир. Он не потратил свои злотые. В тот же вечер он подстерёг пьяного жолнежа, возвращавшегося из шинка в казарму, и тяжёлым камнем ударил его сзади по затылку. В карманах убитого нашёл он кошелёк с двумястами злотых и золотое колечко в синей коробочке. Когда денег не стало, он попытался сдать ювелиру колечко, был схвачен и вскоре оказался в тёмной готической комнате бжесцького замка перед столом, за которым сидел отец Сигизмунд. Он сразу согласился на всё и уже через несколько дней надел сутану слушателя иезуитского коллегиума. Он был прилежным учеником и два года учил то, что считали нужным преподать опытные учителя.
Перед выпуском его привезли в закрытом дормезе на окраину Бжесца. Отец Сигизмунд оставил его посреди гулкого зала и, уходя, толкнул легонько в спину. Он рухнул на колени и опустил глаза так, чтобы видеть только каменные плиты. Его предупредили об этом заранее.
Потом над ним раздался голос. Это был голос старого человека. Голос человека, привыкшего повелевать:
– Сын мой. Ты прошёл посвящение. Ты укрепил свои силы знаниями. Ты укрепил силы своих рук и ног. Ты научился мыслить и осуществлять то, что тебе поручают. Готов ли ты к испытаниям?
– Готов.
– Готов ли ты ради блага ордена и святой римской церкви беспощадно бороться с их врагами?
– Готов.
– Готов ли ты пожертвовать жизнью и судьбой своих близких ради осуществления предначертаний ордена и святой римской церкви?
– Готов.
– Мне нравится то, что ты отвечаешь не задумываясь. Это говорит о том, что цели и задачи ордена стали тебе близки. Ты поедешь на восток, туда, куда уже два столетия назад ушли отцы-миссионеры. Они вложили первые кирпичи в здание, которое уже стоит. Мы оторвали от язычников и еретиков, которые называют себя православными, значительную часть их паствы. Но этого мало. В противоборстве с могучей Азией нам нужны души всех народов, которых история отторгла от Европы. Они должны уничтожить своих идолов и стать у подножия святого римского престола. Они должны стать заслоном перед Азией и телами своими закрыть Европу. Ради достижения этой цели тебе разрешено всё: вступать в лжеверу, таить в своём сердце преднамеренный грех, лжесвидетельствовать, богохульствовать, сокрушать то, что тебе дорого, даже если это догматы святой матери нашей римской церкви. Отныне ты должен стать своим и понятным тем людям, в страну которых ты идёшь. Провинций Руси, которые приняли унию, должно становиться всё больше и больше. Нам ясно, что для созревания зловещих сил в Азии, способных сокрушить Европу, остаётся немногим более ста лет. Мы должны предотвратить угрозу. Ради этого работают на восточных землях тысячи наших людей. Ты будешь их встречать, и ты будешь знать, как их распознать в многолюдном мире. Однако если твоей жизни при встрече с иным нашим посланцем будет угрожать опасность – орден даёт тебе право убить его. Таким же правом обладает и он, помни об этом. Отныне твоя задача в этом мире скромна и проста: вложить свой кирпич в возведение здания, которое знаменовало бы исполнение предначертаний ордена. Ты будешь один. Но в то же время ты никогда не будешь один. Рядом с тобой будут стоять такие же посланцы ордена, исполняющие подобную миссию. Именем его святейшества папы я призываю тебя к свершению подвига. Иди!
Он ушел своей, как теперь стало ясно, очень кружной дорогой. Вначале в Малороссию, в Чигирин, ко двору недавно ушедшего из этого мира неистового Богдана. Юрась Хмельницкий, Иван Выговский – именно при этих гетманах начинал он свой путь. Его вели чутко и правильно. В нужный момент он не поддавался измене и оставался с теми, кто держал руку Москвы. Так он оказался, в конце концов, в свите гетмана Ивана Самойловича. Невидимая сила постоянно подталкивала его на правильные выверенные решения, и вот уже помощник генерального писаря Зосима Шацкий едет с личным письмом гетмана к думному дьяку Фёдору Лявонтьевичу Шакловитому, человеку в Москве заметному и влиятельному. Тут невидимые покровители расстарались, и Шацкий уже не вернулся к своим обязанностям при зыбком и переменчивом гетманском дворе. Зато в Разбойном приказе появился новый подьячий, в статусе невёрстанного, то бишь без жалованья государева, с доходом из одной писчей деньги.
Впрочем, доход по службе нового подьячего интересовал мало. Вскоре купил он по случаю домок на Пороховой, завёл кухарку, комнатных, сторожа. Каждый месяц приходил к нему вечерней порой молчаливый человек и молча выкладывал кожаный мешочек с золотыми монетами, иной раз талеры, иной – голландские гульдены. Как-то раз Шацкий проследил обратный путь ночного кассира. Следы его затерялись в Немецкой слободе. Больше у Зосимы к этим вопросам интереса не было.
Осенью 1668 года женился он на дочери купца Котятникова, девице неприметной и глуповатой, зато тестя приобрёл важнецкого: Иван Прохорович был вхож к самому Артамону Сергеевичу Матвееву, ближнему боярину двора, к мнению которого прислушивался и Алексей Михайлович. Приданое было богатейшее, и вскоре Зосима перебрался в каменный особняк в Китай-городе о пятнадцати комнатах, возведённый европейским строем, специально откупленным по случаю замужества дочери Иваном Прохоровичем у генерала Трауернихта. В приданое пошло и сельцо Луговое, что на порубежье, невдалеке от Бела Города.
Детей Бог не дал. Годы ушли на то, чтобы обжиться в чужой стране, корни глубокие пустить. Сподобился два раза предстать пред светлые очи Артамона Сергеевича, и, хотя никому ничего не докладывал, с момента первой встречи ежемесячный мешочек стал вдвое тяжелей. В приказе о нём теперь говорили с завистливым уважением: «Сильненький».
Интриги вокруг него разбивались мощным именем Матвеева. В ежедневной молитве на сон грядущий поминал он имя покровителя своего, призывая милость господню для продления лет его.
Однако смерть Алексея Михайловича всё изменила. Вступление на престол Фёдора Алексеевича стало сигналом для жесточайшей борьбы около трона. В один из вечеров два человека в тёмных накидках постучали в ворота китайгородского особняка.
– Кого Бог несёт?
На оклик сторожа ответили грубо:
– Открывай, пёс смердящий.
Во дворе один из пришедших распорядился:
– Доложи хозяину – пусть немедля спустится сюда.
В дом не пошли.
Когда напуганный Зосима колобком скатился к лестнице, один из гостей приоткрыл край накидки. Шацкий ахнул:
– Фёдор Лявонтьевич…
– Тихо! – Шакловитый отдёрнул руку, которую собирался поцеловать Зосима и предупредил: – Никто здесь меня видеть не должон. Веди в горницу!
В горнице именитый гость сам погасил несколько свечей, оставив одну, что была на стене у стола. Сел спиной ко входу. Второй гость, надо понимать пришедший для охранения, прислонился около двери. Шакловитый, ястребиным взглядом пронизывая собеседника, сунул руку в карман. Вынул простенький перстенёк с чёрным квадратом, пересечённым двумя белыми полосами, показал Шацкому:
– Покажь свой!
– Я зараз. В тайном месте держу, – пролепетал Зосима и кинулся из горницы. Ужас сковал его. Коли и Шакловитый из иезуитов, тогда… Ой, мамоньки, да как же такое статься-то может?
Он вернулся и положил свой перстень перед гостем. Тот кивнул на лавку:
– Садись.
Теперь они сидели друг перед другом. Всемогущий дьяк разглядывал Зосиму так, будто видел его впервые. Потом обвёл взглядом горницу, кашлянул:
– Обжился.
То ли спросил, то ли подтвердил. И сразу в карьер:
– Артамошку Матвеева давно ли видал?
Ужас снова плеснулся в душе Шацкого. Отца-благодетеля, кормильца, имя которого в доме поминалось с придыханием, вот так…
– Давно видал, давно. Запрошлым месяцем звал к себе.
– Козни какие не являл ли супротив государя аль ближних?
– Не ведаю… Ни слухом, ни помыслом не являлось сие.
– А ты подумай.
Ох, мать честная. Как в мире всё поворачивается. Он, служа в Разбойном приказе, знал, как всё такое вершится. Знать, спета песенка Артамона Сергеевича, коль Фёдор Лявонтьевич так речь ведёт. Не обмишуриться бы. Голова-то одна, новую, коли что, не прирастишь…
От этой шутки чегой-то стало ему самому смешно. Вона как со страха великого словесами-то играется. Никогда бы не разумел за собой такое.
А в глазах Шакловитого метнулась гроза:
– Што надумал. Лайдак? Гляди мне…
– Так… Словеса пустые в мыслях тешу.
– А ты в голос… А то ведь не погляжу на перстенёк-то.
– Про то ведаю – упавшим голосом сказал он и Шакловитый успокоился.
– Ладно. Вижу, что словеса твои и впрямь пустые. Надумаешь что про разбойные дела Артамошки, – немедля ко мне. Розыск по нему объявлен.
Шакловитый поднялся, запахнул накидку, пошёл к двери. Шацкий катился за ним следом, соображая великую перемену в своей жизни. Знать, конец и тестю Ивану Прохоровичу. Ибо пользовался милостью Артамона Сергеевича безмерно: сукна для мундиров солдатских полков закупал, недавно аглицкие ружья из-за моря начал возить, обувку в немцах покупал. Прибыль через благорасположение Матвеева имел великую и немереную. Как бы огонь, ныне возгорающийся, не опалил тестюшку. А ну как и его кусанёт, Зосиму? Всё бывает в таких делах. Вот недавно дворянина Кружалина на правёж взяли, так мало того, что сам голову потерял, но и родню всю под корень. Всех на Бел-озеро, а имущество до последней сохи на государя отписали.
Обошлось вроде бы мягко. На Матвеева ничего не нашлось, и его просто убрали. Когда утром явился он для доклада государю, навстречу вышел боярин Родион Матвеевич Стрешнев и зачёл царский указ, полчаса назад написанный постельничим Иваном Максимовичем Языковым вкупе с комнатным стольником Алексеем Тимофеевичем Лихачёвым: «Указал великий государь быть тебе на службе в Верхотурье воеводою».
Однако дальше пошло строго. Не успел доехать Матвеев до Верхотурья, как в Лаишеве нагнал его полуголова московских стрельцов Лужин и потребовал выдачи на правёж Ивана-еврея и карлу Захара. Забрали и лечебник, по которому пользовали больного царя Алексея. Вскоре Шацкий узнал, что оба взятых сказали всё что нужно, и начались аресты в Москве. Ивана Прохоровича увезли ночью, а утром пришёл пристав и начал опись рухляди и счётных книг. То же было и с имуществом Матвеева. Через два дня в Разбойный приказ пришёл список всех приверженцев Матвеева в городах и весях, всех его назначенцев, в том числе немалое число воевод в украинных городах, где надо было крепить воинскую силу. Два часа список этот пролежал на столе у Шацкого, и за это время внёс он самовольно в него три фамилии: Петра Недождева, воеводу яблоновского, чьи хутора Мухин и Панков лежали как раз посередине меж его, Шацкого, хуторами Луговое и Бондаренков; Ивана Крупина, служивого дворянина Счётного приказа, три года назад пытавшегося взыскать с него, Зосимы, мытное за провоз из польской стороны восемнадцати возов с рухлядью, а также иерея Косьму, матерно ругавшего подьячего, после того как коляска последнего обдала грязью святого отца на улице. На хутора Шацкий уже давно вострил зубы, уж больно неудобственно разделяли они его две маетности. Не раз чертил на бумаге он свои и соседские наделы вкупе, мечтая о богатом куске, приобрести который не мог и не хотел. События разворачивались быстро: уже через два дня, вручив своёму непосредственному начальнику дьяку Сазонову жирную поминку, Шацкий получил приказ выехать в Бела Город, а затем в Яблонов. В Бела Городе он должен был взять стрельцов для ареста Недождева, ибо воевода яблоновский числился человеком решительным и храбрым, с татарами рубился лихо и яблоновские стрельцы могли запросто не выдать его на правёж. Потом предстояло идти к Шакловитому с поминками за недождевские хутора.
Случилось всё не по делу. Недождева взять не удалось. Стрельцы из Бела Города действовали вяло: яблоновский воевода известен был по всей засечной черте, а если точнее, то и по всему порубежью, как храбрый воин. Кто-то из Москвы, а может, и из Бела Города известил его о беде. Ушёл он из Яблонова с семьёй и немногими людьми. Нагнали в чистом поле. Шёл не в Дикое поле, как было бы во благо делу, а к Москве. Видать, хотел отстоять свою правоту. И, видать, имел на кого-то из сильненьких надежу, потому что ещё года два возникала балачка про неясную гибель одного из лучших порубежных воевод. Не просто достались и вожделенные хутора. Три раза большие поминки пришлось возить Шакловитому, прежде чем удалось получить высочайший указ. Да и то не от царя Фёдора, а уже от правительницы Софьи. Но одна большая промашка всё же случилась. Ушёл пащенок Недождева, Ванька, малец сам по себе незаметный, но главное, ушёл со всеми бумагами, с вожделенной жёлтой сумой, про которую в Бела Городе Зосима узнал досконально. Достали бы его, да ехал, на беду, немчин посольский из Крыма с охраной сильной. В его карету и вскочил проклятый недоросль. Потом узнавал Шацкий про того немчина. Не заезжал в Москву, миновал её, попрямовал с Курска прямо на Смоленск, а то можно было бы ещё раз рискнуть. Оставалось надеяться, что сгинет пащенок в немцах, пропадёт, однако время от времени всё же вспоминал про живучее недождевское отродье, и сердце придавливала тоска: как оно повернётся, ведь не молодеет он с годами, разума больше, но сил-то всё менее становится.
Ох, не просто прожито всё это. Царь Фёдор умер двадцати одного года от роду. Крикнули царём малолетнего Петра. Тут же появилась многочисленная нарышкинская родня. В царских палатах уверенно зазвучал голос матери отрока – Наталии Кирилловны. Шакловитый неделями не ночевал дома, договариваясь со стрелецкими полковниками в пользу сестры Петра – царевны Софьи, умом наделённой мужеским и твёрдым. Затаилась вся родня Милославских.
Но самой главной бедой был приезд из ссылки Матвеева. Артамон Сергеевич возвращался победителем, ибо именно он сосватал за царя Алексея дочь скромного смоленского капитана Наталию, родившую Петра. Ждали расследований и расправ. Заказывали в храмах молебны во спасение Языковы, Лихачёвы, Стрешневы, Хитрово и многие другие фавориты фёдоровского царствования, не спалось ночами и Шацкому: а ну как выведает грозный Артамон про все зосимовские художества в эти годы? Как-то поздно ночью явился Иван Прохорович в драном мужицком армяке, в лаптях, нечёсаный, вшивый. Два дня парился в бане, ругаясь чёрными словами, часами сидел за медовухой, уставясь в сторону, не отвечая на вопросы дочери и зятя. Иногда громыхал тяжёлым кулаком по столешнице:
– Будя! Напановались. За всё спрошу, за всё…
И всё ж, видать, не до всего докопались при Фёдоре. Что-то оставалось у тестюшки, ибо через три дня ходил он в новом нарядном кунтуше, в новых же польских сапогах на каблуках, при бобровой шапке. Ночевать являлся пьяный, орал на прислугу, грозился:
– А ну я вас, нехай Артамон Сергеич прибудет.
И нехорошо поглядывал на зятя, будто знал, что за ним имеются грехи.
Вечером накануне 12 мая, когда ожидался приезд Матвеева, к Шацкому опять пришёл Шакловитый. Они отошли в тёмный угол двора, и дьяк кивнул на дом:
– Тестюшка, небось, в хоромах?
– Нету пока. Не пришёл. Лют до крайности.
– Главного волка поджидают. Завтра в Москве будет.
– Что ж станется, Фёдор Лявонтьевич? Что будет?
– А что будет? Коль на волка волкодава не выпустим, читай за упокой. Тебе яблоновский воевода припомнится, убиенный зазря. Небось, душегубствовал, про завтрашний день не думая? Хоть в храм сходил? Ждёт тебя геенна огненная на том свете.
– До того света далеко, – робко сказал Шацкий, – на этом грешном как бы управиться.
Шакловитый усмехнулся:
– Разумен. Вот что тебе скажу. Завтра по заре запрягай лошадей и кати волку навстречь. Падай на колени, обувку ему губами мусоль, слезами обмывай не жалея. Стань с ним поручь. День и ночь будь рядом. Слушай. Верный человек от меня придёт, ему для меня обскажи всё.
– Опасно. Ведь шкуру сдерёт, коли откроется.
– А и так твоя шкура ныне под ветерком. Хоть так, хоть эдак. Ты уж сторону одну бери. Только смекай: Петька нынешний во младенчестве, всем правит мать его да её братцы. А в стрелецких полках, да и Бутырском солдатском, народ кипит от нарышкинского самоуправства. Не успели Фёдора схоронить, а Нарышкины уж заплечных дел мастеров вербуют. Нынче из Углича Никитка Басурман прибыл. Он одним ударом кнута до костей и кожу, и мясцо сымает. Из Смоленска Федотку Рылова выписали. Тоже хват. Ты что, думаешь, их на маслёну звали?
– Бр-р, – только и смог выдавить из себя Шацкий.
– То-то, – сказал Шакловитый, – теперь твоя стёжка-дорожка рядом со мной и иными, кто милости при Фёдоре ложкой хлебал. Дело наше законное и правое, мы не воры, мы за порядок и правду. Есть Софья – царевна, есть Иван – царевич. Оба младенца Петьки старше и права имеют також. Ты понял меня? Завтра кати встречь волку. Да ниже кланяйся, старик по глазам читать умеет.
Как обсказал Шакловитый, так и сделано было. На дороге из Троицкого монастыря встретил Шацкий возок Матвеева. Бухнулся в ноги высокому седому старику, вышедшему в сопровождении сына. Мусолил сапоги искренними лобызаниями:
– Батюшка наш… безвинный страдалец… прости всех нас за муки твои тяжкие.
Постарел Матвеев. Слеза блеснула в глазах. Раньше бы ожёг пронзительным взглядом, прошёл мимо. Нынче поднял Зосиму с пыли дорожной, отёр лицо:
– Ну что ты, чадо. Господь сподвигнул возвернуться ради дела правого супротив замыслов кровавых. Авось выдюжим.
И прилип к Матвееву Зосима. С ним ходил во дворец, где опального вельможу приняла царица-мать. Рядом с ней увидел Шацкий царя: насупленный мальчишка в ярком кармазинном кафтане и красных сапожках не слушал разговоры взрослых, а азартно следил за тем, как над седой головой Матвеева кружила надоедливая дворцовая муха.
– Ишь, самодержец, – ухмыльнулся про себя Шацкий. – Да тебя, паря, допрежь того, как ты в человеки вылупишься из младенчества, ещё годов пять ножичком достать можно. А пять годков – это, брат, ба-а-а-льшой срок. Десять годков самодержцу, разум ещё не проснулся.
В тот же день Матвеев посетил патриарха. И если при разговоре с царицей Шацкий слышал всё от первого до последнего слова, то в покои патриарха Матвеев вошёл один. Зосима сунулся было следом, но боярин сурово одёрнул:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?