Текст книги "Порубежники"
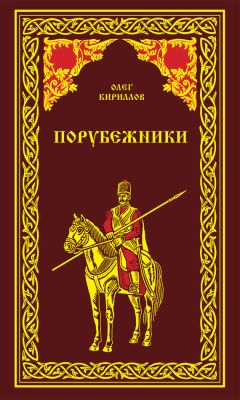
Автор книги: Олег Кириллов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Глава 3
В трактире было шумно. Удачно проторговавшиеся гости, трудники, дружной стайкой молчаливо занимавшие угол, бездельный народ, где-то раздобывший случайную деньгу и торопившийся от неё избавиться, – все сгрудились за столами в просторном низком помещении. Сновали половые – мордастые ребята, ловко управляясь с подносами, заодно приглядывая за порядком и за тем, чтобы получившие еду и питьё не сбегали в открытую дверь, не заплатив. За стойкой на высоком табурете, чтобы видно было всё происходящее, возвышался целовальник – рябоватый мужик с раскосыми глазами, известный в городе просто как Степаныч. Фамилии его не знал никто, да и ни к чему было её знать, так как все были ему что-то должны, всем он охотно давал деньги в рост, не забывая при этом составлять хитрые бумажки, по которым заимщик потом залезал в кабалу. Были случаи, когда по его навету в городской долговой яме высиживало по пятнадцать-двадцать человек: в его доме постоянно трудился мастеровой люд, которому завсегда находилась работа. Бывало, что за долги трудилась вся семья, и Степаныч одалживал рабочие руки и приставу, и десятским, и иным чинам, с которыми держал самые лучшие отношения. Поговаривали, что в молодости промышлял он на дорогах с кистенём и немало душ христианских загубил, однако всё это могло быть и злостным вымыслом тех, кому напрочь закрыт был доступ к его стойке. Желающий выпить звал полового, тот бежал к стойке и докладывал Степанычу. Хозяин долго оценивал незнакомого, прежде чем доставал штоф. Перекусить было проще, тут половой сам решал вопрос о состоятельности клиента. Квас давали бесплатно, прямо из бочки, но бочка тоже стояла рядом со стойкой, и жаждущий с кружкой обязан был опять же подойти к Степанычу, который ястребиным оценивающим взглядом щупал каждого. Порядок в трактире был образцовый, земляной пол подметён и намазан коровьим кизяком, посыпан мелко рубленным осоковым листом, окошки чисто вымыты, на половых свежайшие рубахи и фартуки. Если возникал конфликт, половые немедленно решали его старым испытанным способом, в результате нарушитель тишины или заведённого здесь порядка оказывался на улице, притом степени виновности тоже подразделялись. Шумного просто выводили на крылечко, взяв под руки. Зато неплательщику, сумевшему выпить без оплаты, грозил целый набор карательных мер, самой щадящей из которых был вынос его на руках, ритмичное раскачивание руками половых и выброс с крыльца.
Когда Трифонов зашёл в трактир, здесь завершалась очередная житейская драма, участником которой оказался Панкратий, всего полчаса назад расставшийся с Никитой. Двое половых, ухватив стрельца за ноги, пытались грохнуть его головой об пол. Панкратий вопил во весь голос, вращал налитыми кровью глазами, корявыми чёрными пальцами пытался зацепить порты обидчиков. Посетители занимались своими делами: к подобным сценам здесь привыкли, и только ближние косили взглядом, покачивая головами сочувственно. Никита ухватил стрельца за ноги тож, рывком вырвал его из рук половых и поставил на ноги:
– Вы чего, робята?
Половые стушевались. Трифонова знали все, связываться с ним опасались даже самые отчаянные. Заметив заминку подчинённых, Степаныч закричал из-за стойки:
– Будь здрав, Никитушка. Подь сюды, я тебя шафранной угощу. Только привезли. Аль медов курских испробуй.
– Погодь, Степаныч. За что Панкратия мордуют?
– Панкратия? За дело, Никитушка, за дело. Везде должон быть порядок. Матюша, обскажи всё как было.
Матюша, здоровенный парняга с толстыми красными губами, за что по-уличному звался Губошлёпом, пояснил:
– Пришёл он, штоф заказал. Визигу тож. Квасу выдул две кружки. Говорю: плати четыре деньги, а он даёть три. Остальные в жменю и в рот. Вот деньгу и вышибаем.
Панкратий молча кивал головой, боясь открыть рот. Второй половой явно ждал этого момента, готовясь перехватить руку, в которую стрелец вынужден будет сплюнуть монеты.
– Степаныч – крикнул Никита – ты же знаешь его жонку. Она ж его за деньгу замордует. Прости ты ему, Христа ради, ту деньгу. Коль трудно, давай я тебе верну. Мужика жалко.
– Ладно, – криво усмехнулся Степаныч, – отпустите его, ребята. Нехай шкандыбает. Только чтоб без деньги сюда носу не казал, слышишь, Панкратий? Вот при всём мирском собрании, чтоб разговору потом не было.
Стрелец кивнул головой, пошёл вглубь помещения, отыскал своё рядно и выскочил на крыльцо. Потом заглянул снова:
– Никитушка, век за тебя молить буду Господа… Зараз детишкам сладости пойду куплять.
– Эй, – крикнул Степаныч насмешливо, – гляди теперь не забреди в трактир к Мустафе. От него в портах не вырвешься. Это я християнскую душу понимаю. Он же басурман, хоть и крещёный.
Никита подошёл к стойке, опёрся на неё локтем:
– Спросить тебя хотел, Степаныч. Что балакают про мамкину кончину? Небось, знаешь?
Степаныч стрельнул взглядом:
– Что я могу знать, Никитушка? Болтають всякое. Чему верить – это ж дело трудное. Иные толкуют, что батяня твой пришиб под горячую руку, сам знаешь, какова длань-то у него. Только про это я не верю. Сколь годов как голубки ворковали. Даже люди дивились. Не-ет. Похоже, хвороба какая-сь случилась. Ты ж тогда в Курске уму-разуму набирался. Нет, не знаю я ничего, Никитушка.
– Врёшь, Степаныч. Рази я не знаю, что ты убогим, либо бездельным людям, а також старушкам приплачиваешь? К тебе, что ни вечор, со сказками люди идуть. Ладно, я тебя понять могу: с батяней тягаться опасно. Как медведь, придушит. Скажи про Ульяну. Как бате в душу вошла? Кто свёл, зачем свёл?
Целовальник глянул внимательно:
– Простоват ты, Никитушка. Чего ж искать по бокам, коли оно вот перед тобой? Кто такая Ульянка? Четвёрта дочка у бондаря Свирида. Одни лапти на четверых. А тут богатство, хоромы, слуги. Головка-то кружанулась. Не всё, так хоть ломоть от сытого куска отвалится. А сватов сроду на неё не было. Вот в грех и вошла.
Никита не успел ничего сказать в ответ. Сзади стариковский скрипучий голос медленно, с трудным придыханием, произнёс:
– Не бери грех на душу, не бери. Не плети понапрасну на девку. Чиста Ульяна. Чиста. В те поры служил в конюшне у Аникея. При мне всё было. А ты языком метёшь незнамое.
Из-за стола сзади встала странная фигура. Крохотного росточка дедок с жидкими волосиками. Слезливые глаза, замызганный ремешок на голове, лапотки на чистых онучах. Строго глянул на Никиту:
– А ты, малец, не слухи шукай, а отцу в глаза глянь прямо. Отцу верь, а не вертухаям.
– Кто ты, дед? Я тебя не знаю.
– А чего б ты меня знал? Нас на дворе у Аникея много было. А ты в палатах обретался. Вспомни, как с отцом на Ахтырку ездил да на обрыве у Донца кони понесли. Вот при вожжах тогда я и находился. Дед Макар я. А ишо по-уличному дедом Будкой кличут.
Никита мгновенно вспомнил этот эпизод. И впрямь, на облучке тогда сидел малый коренастый мужичок, почти карла. Заметил тогда, что при неприметном росте ручищи были у него могутные.
– Руки покажи, дед.
– Вспомнил, – засмеялся Макар, – вспомнил. Вона руки мои, гляди. Были когда – свои.
Он протянул ладони, искромсанные шрамами и давними ранами. Пальцы были побиты, искривлены, видать, срастались как попало. На левой руке мизинца как вообще не было.
– Кто тебя так, дедуня?
– А у бати спытай. Зверь он, твой батя. Только на Ульяну не греши. Вот тебе мой сказ.
– Ты же говорил: отцу верь.
– И зараз говорю. Аникей за деньгу со света сживёт, но кривды не терпит. Не знаю того, чтоб слово пустое молвил. Под его слово большие деньги шли. На краю не слукавит, перед Богом скоро ему стоять.
– Ты что, колдун?
– Какой я колдун? Пожил много. Поживёшь – и ты всё к месту поставишь.
– Ты, дедка, выпил своё и иди, – сказал Степаныч, – иди с Богом.
– А ты меня в спину-то не пихай. Я коль пью, так деньги плачу, – с достоинством сказал дед и пошёл к двери.
– Вона, богатей, – поддразнил целовальник, – приходит с деньгой, на заедку нету. Только на стопик и хватает. Ты его, парень, не слухай. Зловредный дед. Он на погосте у гультепы навроде старосты. Опасный народ. Твой папаня его когдась на правёж двинул. Дивлюсь, как до сей поры не сквитался с ним дедок этот. У него-то гультяев сотни две будет. И оружные. Даже пристав с ним не связывается. А десятские по сумеркам погост двадцатой дорогой обходят.
Никита думал, как возобновить дальнейший разговор на интересующую его тему, потому что целовальник на прямой вопрос отвечать явно не хотел. То ли боялся, то ли клонил его самого, не говоря прямо, к нужному для него, Степаныча, выводу. Дескать, вот тебе мои сомнения, а дале думай сам. Задумавшись как подступиться к прерванному разговору, Никита пропустил появление в трактире трёх новых людей. Зашли стрельцы, снаряжённые по-походному, с пороховыми ладунками у поясов. С палашами и мушкетами за плечами. Одежда в пыли, лица покрасневшие от встречного ветра и солнца. Двое постарше, а один совсем молоденький, безусый.
Подошли прямо к стойке. Старший, кинув целовальнику алтын, коротко распорядился:
– Мяса жареного, мёду по кружке, кваса тож.
Заметались половые. Мигом согнали бездельных с крайнего стола, скатёрку прибросили, поволокли яства. Пока стрельцы трапезовали, в трактире стояла почтительная тишина. Своих знали, а эти были чужие. Через плечо вензеля, знать, московские. Степаныч, разглядев амуницию, шепнул Никите:
– Стремянной полк. Видать, кого-сь несёт в наш Богом забытый град.
Перекусив, стрельцы встали, старший подошёл снова к стойке:
– Хоромы воеводския далече ли?
– Да тут, рядком… И на коня садиться неча. Вот туды, до плаца. А там самая заметная хоромина, с башенкой. Никак война, служивый?
– Нет, не война, – неохотно ответил старшой.
– Гостей ждите, – улыбчиво ответил молоденький.
– Не болтай, Рубахин, – осёк старший.
Забрали сдачу и, топая сапожищами по ступеням крыльца, ушли.
Степаныч, явно озабоченный, торопился закончить неудобный разговор с Никитой:
– Так что, Никитушка, ничего тебе дельного сказать не могу. Сам кумекай. Праздно дело залезать в отцовския да сыновния справы. Отколь-нибудь да язык-то прищемят, а? Или не так?
Больше здесь не выпытаешь. Торопливо попрощавшись, Никита подался восвояси.
Едва только могутная фигура парня скрылась за дверью, к целовальнику подошёл неприметный ярыжка в длинном тёмном одеянии:
– Что, Степаныч, пытает? Душа горит?
– Горит-горит. Искра будет, точно.
– Нехай. То во благо. Чего стрельцы-то маячили?
– Стремянные. Как бы не Василь Василич в наши края собрался. Слыхать, в Воронеже был, теперь в Курске. Как бы до нас не заглянул.
– То не ко времени, – озабоченно сказал ярыга, – пойти да сказать хозяину надоть. Глядишь, через воеводу выведает?
– Хитрит воевода, – сказал Степаныч, – ой, хитрит. С приездом твоего хозяина из хором не выходит. Хворым сказался. Ждёт, чтоб вылезло, с чем приехали?
– Скоро вылезет, – усмехнулся ярыга.
– Никак с указом?
– А ты как думал? Мой ведь просто так в наши места не явится. Ему в первопрестольной на улицах поклоны бьют.
– Важный человек, – согласился Степаныч.
– То-то, – ярыга подмигнул, приблизил прыщеватое, землистого цвета лицо к волосатому уху Степаныча, прошептал: – За Трифоновыми гляди. Ба-а-а-льшое дело затевается. Глядишь, и тебе перепадёт.
И скользнул за дверь. Целовальник выждал минуту, потом кликнул мальца. Рыжеватый парнишка с остреньким смышлёным личиком подскочил мигом, будто ждал этого зова прямо тут, за занавеской.
– Петюня, – прошептал Степаныч, – беги зараз до воеводского дома, кликни Ушакова… Стрелец высокий такой, с усами седыми. Скажи, что был тут у меня Жигайло, проговорился, что Шацкий с указом явился. С каким – не знаю. Понимаю, что важнецким. Нехай князю-воеводе поведает. Да гляди, к хоромам воеводским не сразу беги, покружи малость. Особо гляди, чтоб поблизости Жигайлы не было. Опасный человек. На аршин в земле видит. А Ушаков завсегда в будке, при воротах. Не зови на улицу. Ныряй до него во двор. Этот ворон, сказав тайное, могёть присесть где-нибудь и выследить. Тогда нам пропадать. Ты понял?
– Чего же не понять? Обкручу, не бойся.
Когда сын ушёл, Степаныч шустро скинул фартук, шепнул что-то половому и через двор выскочил на плац. Пересёк его, трусцой обогнул церковную ограду, потом напрямик через огороды посадских. Сердце колотилось, когда, выскочив на горку, присел среди порыжевших лопухов. Отсюда как на ладони видны были хоромы Шацкого, двор, ворота, крыльцо. Было за обед, припаливало на удивление не осеннее солнце, гудел шмель, натыкаясь на сиреневые цветы, пожухлые от ночных холодов. Цвет обманывал его, а наживы не было, и он кидался из стороны в сторону, сердясь на окружающий мир.
Ишь ты, подумал Степаныч, с тревогой вглядываясь в дорогу, ещё рассуждая о божьей твари, с цветка на цветок порхающей в поисках пищи, не знающей ещё, что скоро быть дождям, потом морозам, и сдыхать шмелю, может, под этим же лопухом. Все под Богом, под судьбиной ходим, только человек малость невеличку постиг, а иным не дадено.
Тёмная фигура вывернулась из-за угла дома и сноровисто двинулась к воротам хором Шацкого. Вот он, Жигайло. Значит, не следил. Значит, попрямовал сюда, чтоб о разговоре известить своего хозяина. Ну и ладно. Бережёного, как известно, и Бог сберегает.
Довольный собой, Степаныч спустился с горки и тем же путём, только на сей раз степенно, попрямовал к трактиру. По пути вспомнил, что оставил наедине с заказанным штофом двух подозрительных, в чьих карманах могло не оказаться оплаты. Щемящая тоска сдавила сердце, и он ускорил шаг, надеясь на то, что Матюша доглядит.
Меж тем, проскользнув в ворота, Жигайло, мимо задремавшего казачка, полез по лестнице в дом. Заглянув туда и сюда, в третьей горнице отыскал он Шацкого, читающего «Записки» Цезаря. Хозяин был в нарядном аксамитовом халате, в котором особо видно наблюдался его сытый, подпирающий грудь, животик.
– С чем пришёл?
– Погодь, дай отдыхаться. Гонцы до воеводы. Стремянные.
– Вона как. Никак Василь Василич, княж Голицын, до Бела Города собирается. Слыхал я, устроил в Воронеже смотр полкам.
– Как же с Трифоновым быть? Продаст ведь всё. Ныне пристава друга нашего Рефат-аку чуть было не застукали. Упредил я его. Молодец, халат приметный бросил, сам на коня и через Сторожевую восвояси. А тридцать мушкетов увезли в казарму стрелецкую. Как бы воевода не снёсся и государевым коштом у купца мушкеты не скупил?
– Что ж делать?
– Так указ у тебя. Авось от Васьки прикроет?
– Ты говори, да не заговаривайся. Как ты, тля приземная, на Оберегателя такие слова кидаешь? Вознёсся?
Жигайло, усмехаясь, склонил голову. Знал хозяина вдоль и поперёк. Знал цену таким выкрикам, знал истинное состояние его души и очертания намерений как нынешних, так и будущих. Они были созданы друг для друга, чтобы вместе воплощать в жизнь задуманное, и уход одного из них из содружества менял в их жизни всё. И хотя Шацкий, поймав на себе понимающий и чуть насмешливый взгляд друга и слуги, иногда, испугавшись, метался в обдумывании планов устранения слишком много знающего Жигайло, потом, остыв, понимал, что без такого помощника он мало что сможет сделать. Кузьма знал всё, кроме той стороны жизни хозяина, которая была связана со знаменитым перстнем. Он понимал, что есть в жизни Шацкого ещё что-то, до чего он так и не дошёл своим изворотливым умом, много раз пытался понять, разведать, вникнуть, но хозяин цепко хранил свою главную житейскую тайну.
Сейчас, после последних слов, они надолго задумались. Шацкий глянул на Жигайло, мигнул рыжими ресницами:
– Паша-черкес жив ли?
– Брали. Ныне отпустили.
– Ну что, сходишь к нему?
– Надо бы.
– Говоришь, указ прикроет?
– Да что, Голицын за каждого купчишку горой?
– Не скажи, в ту войну он войску кормами для коней помог. Грамота охранная у него.
– А коли он пересыл?
– Вот-вот… и татарин настоящий будет. «Слово и дело» крикнем. Иди к немому, иди, только гляди мне, по лезвию ходим. Мне-то ничего, а вот с тебя шкуру сдерут.
– Не пужай. Пужаный давно. Пошёл я.
Спускаясь по лестнице, почесал затылок, хмыкнул:
– Цезарь… Чучело ты, а не Цезарь. Без Кузьки тебе уже давно бы в пытошной жилы мотали. Так-то, хозяин.
За воротами, оглянувшись по сторонам, попрямовал к пристани.
Глава 4
Ввечеру Аникею чуток полегчало. Неонила, жена Ермоша, уже не выносила из горницы тазик со студёной водой, мочила в нём тряпки, прикладывала к могучей волосатой груди хозяина. Ульяна сидела с другой стороны, держа в своей руке тяжеленную пятерню Трифонова, слёзы застилали всё вокруг, губы опухли, волосы не убраны и рассыпаны по плечам. Кончалась жизнь, построенная на её грехе, и теперь она корила себя за то, что решилась когда-то совершить то, за что вот уже сколь времени судил её весь город.
Аникей задыхался. Воздуху не хватало. Уже открыты были все окна; Неонила помахивала над лицом его тряпицей, изредка вытирая со лба холодный пот. Боль давила тяжко, сопровождая каждый вдох, пеленала грудь, будто стальными обручами. Слабость вползала в руки, делала их каменными, бесчувственными, ноги распухли, а стук сердца отдавался в висках.
– Никитка пришёл ли?
Аникей спрашивал про то уже, пожалуй, в десятый раз, поднимая на Ермоша красные слезящиеся глаза. Тот наклонялся над изголовьем, успокаивал:
– Зараз будет Никитушка. Твёрдо обещал.
– Ох, напасть, ох не поспею… – бормотал Аникей, пытаясь приподняться над подушками, но сил уже не было, и он тяжело откидывался назад, захлёбывался подступающей слюной, замолкал на короткое время, чтобы через несколько минут забыть. Как бы опомнившись, снова поднимал разбухшие веки:
– Никитка пришёл ли?
Один раз, повернув голову к Ульяне, долго глядел на неё, пытался что-то сказать, чмокал губами, как бы пережёвывая рвущиеся слова, наконец, выдавил:
– Касатушка моя… Прости, коли что? Что ж ты без меня-то?
И вдруг, насупив брови, к Ермошу:
– Братом ты мне был, не слугой… На тебя надежда, на тебя… Дитё моё подними, ничего не жалея. Ульянушку от беды прикрой. Гляди, я оттоль глядеть буду.
– Уймись, Аникушка, уймись. Крест целовал ведь… Не первый год меня знаешь.
– Вороньё надо мной, вороньё, – бормотал Аникей – над головой моей кружат. Вижу, чую смрад поганый. Господи, защити, дай приют душе грешной… – и вновь делал попытку приподняться над подушками. – Никитка пришёл ли?
– Зараз будет, – утешал Ермош, сам уже не веря в это, кляня себя за то, что отпустил от себя Никиту утром. Надо было на колени пасть, но вести парня к отцу. Поверил словам шалопута, а он опять где-то по солдаткам шлёндает. Днём видали его в трактире… Виданое ли дело, при таких годах уже дорожку в трактир торит. Что ж потом будет? Шалопут, право слово, шалопут.
Никита вошёл в горницу нежданно. У порога глянул на отца, шагнул раз-другой. Кинулся вдруг к постели, стал на колени, приник губами к отцовской руке. Морщины на лбу Аникея разгладились, слеза тускло блеснула на щеке:
– Пришёл…
– Прости, батя. Не знал про беду такую. Прости.
– Ничего. Ермош, останься…
Женщины встали и тихо вышли. Ермош, как прежде, стоял у изголовья хозяина, вцепившись узловатыми пальцами в спинку кровати. Слеза тоже пробилась: тыльной стороной ладони украдкой стёр её. Груз неимоверной тяжести свалился с его плеч, теперь всё становилось привычным, хозяйский сын под родной крышей, дело не умрёт, крепкое хозяйство не рассыплется, уж об этом он порадеет. Сколь годов был больше управителем, чем приказчиком, ибо Аникей дома не сидел. В какие только страны дальние не ходил. Торил пути непривычные, незнаемые. В том и секрет заможности его, в том и причины лютой зависти тех, кто на печке лежит, а жить хочет припеваючи.
– Похоже, отгулял я, Никитка… – Аникей глядел на сына и видел в нём черты первой своей жены, Елены. Сам он чёрен как придорожный грач, а вот сын пошёл в мать, русоволосый, кожа белая. Только глаза отцовские, чёрные, будто уголья, да брови, не глядя на то, что из отрочества только вышел, а уж раскустились густой чернотой. Красивый мужик будет, подумалось горестно, вот только внуков от него не дождаться, видать. Проклятый тать, выскочил из-за соседнего воза и дубиной со всего маху по грудям. Коли бы не бехтерец, сразу бы концы. А тут до дому дошёл, товар доставил. А ведь свой же, славянин, нанёс предательский удар. Когда выпалил ему в грудь из пистоля, свалился на землю, крикнул: «Ой, Марысю…» Видать, наречённую вспомнил. Ушли тогда, оставили всех, кого пометили пулями, прямо на дороге. Не заслужили честной могилы.
– Почто ученье-то оставил, сынок? Без наук и грамоты ныне не можно.
Никита молчал. Учился в Курске у монахов справно, писал, читал, географию и риторику осилил. Отец Памфилий даже куртуазные исторические бывальщины сказывал: про цезарей, про князей великих, своих и иноземных, про князя Александра, который дерзко на владычество миром замахнулся, да надорвался и сгинул в дальних землях из-за гордыни своей. Может, и порадовался бы отец тому, что познал и математику, и чертёжную премудрость, да не к месту ныне про то говорить. Думал, что не так плох отец: днями сказали ему, что сам спускался в баньку, парился там, а уж он-то знал, что значит отцовская парная. Немец-негоциант, года два тому привезший в Бела Город гамбургский товар, после отцовского паренья еле выполз на четвереньках и долго лежал на подстилке у бани, шёпотом повторяя:
– О майн готт… о майн готт…
Герр Уве прожил тогда у Трифоновых всю зиму, и к весне Никита уже бойко шпрехал по-ихнему, и негоциант охотно с ним беседовал про обычаи в Московии, про будущее здешнего края, обильно наделённого лесами, реками, по которым сподручно торговлишку вести. Лазил по обрывам по весне, откопал в глине тёмно-красный камень, цокал языком и возбуждённо доказывал Никите, что сей камень есть предмет для выплавки железа, что надо строить здесь железоплавительную мануфактуру. Отец тогда махнул рукой:
– Какое тут железо? Нам бы с лесом справиться, с лёном, хлеб вот некуда везти, меды у нас знатные, посуда глиняная така, что заглядишься. Годов пять тому возил в Тьмутаракань, так вмиг разобрали, хоть и в тех местах умельцы знатные.
– Посылал в Курск я, чтоб поспрошать про твою учёбу… Жалели отцы святые, что рано ушёл. Сказывали, младень головатый. Много превзошёл, до горяч больно, нетерпелив…
Никита молчал. Он видел, как тяжело было говорить отцу, с каким трудом выговаривал он слова. Сейчас ругал себя за всё содеянное: за то, что перечил родителю, что рвался из дома в мир, где соблазн был на соблазне, что поступал почти всегда наперекор, наслушавшись уличных сказок про свою могутность. Вернуть бы всё. Даже Ульяну готов был простить отцу, понимая, как тяжко в самой зрелости потерять жену, хозяйку, домашний лад.
Пауза тянулась долго. Никита понимал, что отец экономит силы перед тем, как сказать главное. Глядел в его осунувшееся лицо, ставшее вдруг таким незнакомым, непривычным, расслабленным. Всегда воля отца была непреодолимой силой, его большое тело было источником какой-то внутренней энергии, а тут всё рушилось, прежними оставались только глаза, и то притуманенные болью.
– Скажу тебе, сын, то, что ты знать должон непременно. Напоследок был я в немцах. Проторговался изрядно. Главное, получил грамоту самого ихнего курфюрста, Августа именем. Принимал он меня самолично, беседу вели. Свёл меня с ним тот немчин, что у нас зимовал, Уве. Грамота сия у Ермоша запрятана. Береги её, с нею нам в немцах завсегда прибыль иметь… Теперь об ином. Ворон вьётся над домом нашим, Никитка. Ворон истинный, поганый. Знаю того человека много годов. Опасен, потому что умён и пределов христианских не имеет. По натуре своей дьяволу служит. Моя хворь подвигнула его до нашего порога. Немалые деньги плачу, чтобы знать про каждый его шаг. Успех мой в немцах дразнит их. Хотели бы товары прибрать под себя. Что замыслили – не ведаю, однако человек сей опасен чрезмерно. Полагаю, тебе перед ним стоять, а здесь кулаком не возьмёшь. Защитою нам охранная грамота князь Василь Василича Голицына, кою Ермош прячет вместе с немецкой грамотой. Два дни назад, понимая замыслы недругов, велел я Ермошу кое-что из золотишка, камешки и иное отвезти в тайное место. Вспомни бабушкин домок, куда мы с тобой ездили в отрочестве твоём. Иное Ермош покажет.
– То пустое, батя… Ты о вороне говоришь. Хочу знать имя его, чтоб перья выщипать, голову под крыло свернуть, пух над землёй развеять…
Аникей усмехнулся:
– Коли б можно было силой-то кулачной?! А то ведь чужой силой могут сломить, оружной силой, волей державной. А имя тому ворону Кузька Жигайло. Цену ему знаю, потому как когдась имел с ним дело. Спорый он на ум да на дело тож. До перьев его ещё добраться нужно. Сила за ним. Подьячий разбойного приказа Шацкий, погубитель воеводы яблоновского Недождева, крепкую руку в Москве имеет. Потому и мыслю я не слабовата ли рука князя Голицына супротив этих двух будет? За Шацким сам Шакловитый, который на Стрелецком приказе сидит, который розыском ведает и всеми пытошными на Москве. Вот что противу нас с тобой ополчилось. Потому и надумал я главное из дома увезти, чтоб не остался ты голым-босым на белом свете.
Тоска сдавила сердце Никиты. Только сейчас, после слов отца, понял он, что может обрушиться на их дом. И первая молодецкая храбрость как бы ушла бесследно.
– Что ж делать-то, батя?
– Допрежь всего, на волю Господню положиться. Господь не выдаст. Погодь, про то ещё побалакаем… Ох, тяжко… Будто грудь гвоздями бьют. Мать твоя, коли захворала нежданно, одна была. В Астрахани с обозом я пребывал. Она-то, голубка, и застудилась, коли к куме Анисье в Хотмыжск санями ездила. За десять дён и померла в горячке. Я вернулся, а её уже отпели. В ярости кучера Макарку в пытошную отдал, в погубительстве крикнул. Потом отошёл, к воеводе сходил, отпустили мужика, хоть и покалечили. Отступного дал, чтоб греха на душе не иметь, да видать, много нагрешил. Мать твоя, допрежь уйти, письмо мне написала и с Ермошем передала. Ермош, дай сыну письмо сие.
Приказчик полез за пазуху, вынул чистую тряпицу, развернул её и протянул Никите клочок вощёной бумаги. Он сразу узнал мамины каракули, грамоты сильно не знала, однако писала свободно: «Свет мой, Аникеюшка! Видать, не склалось нам до старости вековать. Нету тебя, нету сыночка мого Никитушки, кровиночки нашей. Хворь одолела, проклятая. Ныне позвала отца Фому, чую, соборовать надо. Не плачь, родимый, волю Божью не одолеешь. Молю тебя об одном. Неспособный ты один-то. Сильный, да неспособный. Тебя в гневе остудить надо, а то ведь с пылу натворишь многое и неправедно. Тебе во гневе рука ласковая, чтоб остудиться, в разум прийти, и тогда ты всё одолеешь. Не будет коло тебя руки моей ласковой, и боюсь я, что во гневе и недомыслии пустишь ты в разор семейное гнездо наше. Потому молю тебя, после меня пригладь Ульяшу, подруженьку мою, да только допрежь трёх годов опосля меня к венцу её не веди. Сыночку слово моё передай. Такой же, как ты, во гневе. А я за вас молитвой святой престол Господень орошу, слезами праведными тож. Прости, любушка, что покидаю тебя в земной юдоли».
Ниже была приписка: «Сыночек ненаглядный мой, кровиночка моя, Никитушка. Прости мамку, что не соблюла до мужеска времени. Держи крепко руку батюшки свово, тяжко ему без меня будет. Прости. Твоя мамка».
Плечи Никиты вздрагивали от сдерживаемых рыданий. Ермош видел, как пальцы парня вцепились в одеяло, наброшенное на отца, слёзы беззвучные и обильные катились по щекам. Аникей, сказав длинно и трудно, лежал с закрытыми глазами, лицо его было суровым и скорбным. Ермош вдруг подумал, что сейчас он похож на диковинного зверя льва, коего в ранней молодости видел в Суроже. Показывал его всем желающим арабский купец, показывал за большие деньги, но народ валил валом. Зверь сидел в клетке, а бездельные лезли к нему напрямки, и льву приходилось время от времени мощным прыжком и громким рыком отгонять и людей, и собак, исходивших неистовым лаем. Пока Аникей был здоров и в силах, к нему боялись приближаться, сейчас же, видя, что ослабел, тянут руки. Никита же телом могуч, да умом младень. Рыком ещё может, а вот грозного прыжка покудова нет. Испугаются ли рыка недруги? Похоже, что нет. Только бы Аникей выправился.
Аникей открыл глаза, выпростал руку, положил её на лохматую голову сына. Оба были недвижны. Потом Никита невнятно сказал:
– Прости, батюшка, прости окаянного… Наломал дров.
– Таковы мы, Трифоновы, – с неожиданной усмешкой вымолвил Аникей, – и батя мой таким был. До двадцати годов меня вожжами потчевал. Ладно… Ещё одно дело до тебя, сынок. Ульяна на четвёртом месяце… Брат аль сестра будет у тебя. Коли что, тебе их обихаживать с матерью ихней.
Аникей понимал, что это известие будет для Никиты не менее тяжёлым, чем то, что касалось смерти матери. Потому был удивлён, когда парень сказал почти что сразу:
– Про то не тревожься. Слово в том даю. Только рано тебе самому уходить. Рано. Не будет того, верю, что не будет.
Аникей часто-часто заморгал. Видно, в очередной раз слеза пробила. Лёгкости такой от сына не ждал.
– Ермош, Никитушка, на вас вся надёжа.
Ермош молча стал рядом с Никитой на колени. Кряхтя, Аникей снял с шеи крест, протянул его приказчику. Перекрестившись, тот сказал:
– Клянусь именем Христовым, что николи не переступлю волю твою, Аникей, брат мой названый. До дыханья последнего буду верно служить сыну твоему Никите и чаду, доселе не рождённому, в чреве матери ныне пребывающему. Никогда не покушусь ни на дом их, ни на хлеб их. В том целую святой крест. Аминь.
Он прикоснулся к кресту губами, но с колен не встал.
Рука с крестом была теперь у губ Никиты.
– Святым именем Христа, господа нашего, клянусь никогда не выходить из воли родителя моего, а коли случится с ним беда, обещаюсь волю его свято охранять и брата или сестру мою, Богом данную, и матерь их, хранить и лелеять, как матерь природную свою, и делить с ними поровну и дом, и хлеб, и всё, чем Господь наградит меня в бытие. Названого брата батюшкина, Ермолая Тихоновича, клянусь слухать, как отца родного, и быть с ним в совете и согласии. В том целую крест святой.
– Любо! – Аникей выдохнул, а не сказал это слово. Прикрыл глаза, затих. И Никита, и Ермош продолжали стоять на коленях у кровати, боясь пошевелиться, боясь потревожить больного, в надежде, что его сморит долгожданный сон.
Аникей лежал, прикрыв глаза, и чувствовал на душе облегчение великое, будто нёс на плечах тяжесть, а тут взял и сбросил её. Пришло умиротворение, потому что ссора с сыном не давала ему надежды на то, что оставит за собой всё завершённым; так бывает, когда мастер ладит хоромы, сводит стены, крышу набивает, да в самый главный момент нужда заставляет бросить незаконченность для разгула непогоды. И на душе тяжко, когда уходит и видит недоделанным дело своё, открытое ветрам и дождям, морозам и вьюгам. Другое дело, когда, отойдя от строения, видит он, что рук и ума дело его готово к борьбе с любой грозой и вьюгой, что не развеют шальные ветры всё, что соорудил он за годы. И хотя боль терзала его по-прежнему, что-то облегчилось, что-то ушло, будто подмога подступила из надвигающейся темноты.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































