Текст книги "Порубежники"
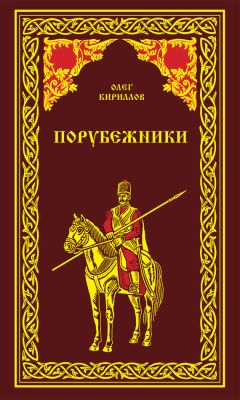
Автор книги: Олег Кириллов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Вспомнил, как достал на зимнем заснеженном поле воеводу Недождева. Отстреливался до последнего, дал уйти жене и сыну. Жёнку, правда, Жигайло из мушкета достал на излёте, а сын ушёл. Подошёл к Недождеву, который лежал на мёрзлой земле, пуля попала в живот, и помирал воевода, но в памяти был.
– Ну, и чья взяла, Петька?
Воевода держал руку на животе, кровь сочилась сквозь пальцы, лицо будто мелом вымазано.
– А и твоя не возьмёт, Шацкий. За всё с тобой сочтутся.
– Кто? Двое мы с тобой здеся, у меня два пистоля в руках. Ты ж аки червь к земле припал, тебя уже нетути. Пальцем двину, и нету для тебя юдоли земной. Понимаешь ли сие?
– А и твоя не возьмёт. Меня ведь и такого до смерти боишься. Сын мой ведь всё видал, и пока он жив, – и я в свете белом завсегда проти тебя стоять буду, – слова вырывались с хрипом, с кровавым бульканьем на губах, а глаза смотрели твёрдо, почти с торжеством. – И вернусь я, чтоб с тобой поквитаться, и найду тебя, изменщика, обманом в души пробравшегося. Артамон Сергеича продал, сие тебе тоже вспомянется.
– Откуда знаешь?
– А вся земля знает. Кровь на тебе святая.
– Врёшь, никто сие не ведает. И ты уйдёшь и никому не скажешь.
Недождев страшно рассмеялся. Было жутко видеть умирающего, который в зимнем заснеженном поле раскатисто смеялся, будто издевался над ним, Шацким, владевшим зараз безраздельно его жизнью. Показалось на миг Зосиме, что покайся теперь перед ним униженно воевода, не стал бы губить его, потому что раскаяние гордеца и храбреца, пред которым не раз бегали ордынцы, искупит перед ним, Шацким, все мнимые прегрешения воеводские. Но тут же утвердился: нет, землица между ними, живые хутора с холопами, всезнание Недождева и страшная тайна про Матвеева, нет, не жить Петьке, не жить.
Поднял пистоль, навёл на лоб воеводы. Тот глядел дерзко и смело, будто не пуля ему грозила, а зыбкий снежок.
– Сын мой Ваня тебя сыщет, изменщик. На краю света ушёл он от тебя, Шацкий. Теперь ночами не спи, жди…
– Врёшь, – кричал Шацкий, – врёшь… Вдогон пойду, отыщу, растопчу, в пыль сотру…
– Опоздал, христопродавец, – хрипел умирающий, – опоздал…
Вывернулся из-за спины Жигайло, глянул секунду, поднял пистоль.
– Ты чего с ним балакаешь? Нету его, помер.
И выпалил в лицо воеводе.
Потом Зосима не раз вспоминал эту ночь. Было ещё немало таких ночей, но та стояла перед глазами многие годы. Искал недождевского пащенка и в Курске, и в Смоленске, в Киеве тож. Пропал бесследно. Может, сгинул, может, в дальних краях гребёт где-сь на невольничьих галерах? И хорошо. Без него спится спокойней. Когда уходил, было ему четырнадцать, сколько теперь? Из волчонка уже в волка матёрого вырос.
Много раз передавал с приходившими к нему с поручениями, что пора уходить с сей земли, но каждый раз ему отказывали. Нужен он в Московии, великую миссию несёт на себе, о нём знает даже его святейшество папа Иннокентий XI и шлёт ему своё благословение. Нужно ему это самое благословение, если каждый день ходит в тени от дыбы.
Ненавидел Московию. Видел её жестокость, живучесть, стойкость её воинов, нетребовательность к жизни. Всё передавал. Однажды посланца напоил и стал жаловаться: не отзывают, сколько годов уже прошло, терпеть нету мочи. Посланец, благодарный за приют и отдых, сказал ему, что Святой престол относится к посланцам своим на Восток, как к миссионерам, которым нет возврата. Кардинал Пичелли недавно сказал о таких, как он, жестокие слова: пусть они врастают в народы, куда их послали, пусть пускают там корни, пусть, умирая, создают ту почву, на которой вырастет потом могучее дерево истинной веры. Если каждый, проживший в Московии жизнь, подарит свет истинной веры хотя бы сотне новообращённых, тень собора Святого Петра упадёт на всю еретическую землю до самого Тихого океана. «Мы вечны, – сказал кардинал, – нам некуда спешить, и мы не торопимся, потому что рано или поздно придёт наш час».
Он не хотел становиться частью питательного слоя для будущих католических дерев. Он хотел жить полноценно, заставляя служить себе других. Он знал, что ни от Рима, ни от ордена не уйти, и потому служил им преданно и верно.
Судьба не послала ему детей, и поначалу он скорбел о сём, но потом понял, что для его образа жизни – это благо. Привязанность к детям могла привести к привязанности к народу той земли, что носила его, поила водой, злаками кормила и иным. Он хотел быть свободным от всех химер, главной из которых считал привязанность к чему бы то ни было. Он смеялся над словом «вера», хотя в трудные минуты взывал к Богу.
Он всегда считал, что ему не хватает безоглядной решимости, и потому ценил таковую в Жигайле, способность ярыги переступать любые границы для достижения цели. Уже двенадцать годов они были вместе, и аскетизм помощника, готовность жить как попало, спать где придётся – всегда восхищали его. А между тем Жигайло уже давно был как бы не богаче его самого, уж больно много всегда прилипало к его цепким загребущим рукам. Куда уходили его деньги, где была его маетность, в каких краях, этого не знал никто. Для всех он жил в захудалой каморке с засиженным мухами стеклом, сам варил себе еду, носил один и тот же лапсердак, чем-то похожий на монашескую рясу, заштопанный и застиранный, серо-чёрного цвета, очень удобного для неприметности. Где жил и родился, какова была его жизнь до встречи с ним, Шацким, никто не ведал, и попытки Зосимы как-то разведать эту сторону его жизни всегда натыкались на открытую враждебность.
Вылез из подвала Никодим, покашлял:
– Слышь, хозяин, что делать-то с рабом божьим будем? Коли спрошать, так давай, коли сымать, так скажи. Висеть ему на дыбе неспособно, руки потеряет. А ведь кормилец.
– Руки-руки, – взорвался Шацкий, – тут голову того и гляди потеряешь.
– Твоё дело, – Никодим ещё пару раз кашлянул и снова полез в подвал.
Радовало и тревожило то, что со стороны базара не слыхать ничего. А ведь там трудятся люди. Днём сегодня сам глядел двери лабазов. Старый морёный дуб, железные поперечины вперехлёст, малые дырочки для ключа с отвесом. Откроешь только когда выбьешь, вырубишь дверь.
Зацокали копыта. Верховой. Наверное, от Жигайлы. Встал, чтобы встретить, и у калитки почти столкнулся с самим ярыгой:
– Ты что?
– Хто-сь игры с нами играет. Люди вкруг шныряют, то голос подадут, то свистнут, то заорут в голос: «Люди! Берегись! Тати»; кинемся – никого нема.
– Ножами их, ножами…
– Так нету. Как сквозь землю.
– Что сделали?
– Один сломали. Грузят. Другой взялись крушить.
– Грохот, небось?
– Так топорами ж. А Христоня что?
– Висит.
– Добить бы.
– На дыбу захотел? Нет, я не дурак. Про пытку сказать можно, что обмишурился, а вот чтоб прибить – нет, тут другое.
– Будто в первый раз, – насмешливо вставил Жигайло. – Ладно, то твоё дело. Зараз возы пойдут наперво.
– Что взяли?
– Сукна, прилады бабския, обувка.
– Мушкеты ищите, мушкеты.
– Ищем. Кто бы знал, в каком лабазе из шести.
– Ну иди.
– Пойду, только гляди, коли что, чтоб со съезжей вынул. На душе неспокойно. Я нюхом завсегда пакость чую.
– Не боись. Указ-то – вот он.
Жигайло исчез за калиткой. Тотчас же конский топот возвестил Шацкому, что помощник отбыл. Эх, ночки не хватит, чтоб всё подобрать. Подводы уйдут на мел-гору, что за слободой, там в овраге уже давно пещерка приготовлена. В его дворе ничего не будет, не дурак. Вторым ходом пойдут на казённый пакгауз, там уже писцы сидят, ждут. Коли что вот вам, для казны старались. Третью ходку опять в овраг, четвёрту – в пакгауз. Мушкеты тоже поделят: казне помене, ему поболе – Рефат-ака друг старый.
Меж тем подводы с базара уже ушли. Когда Жигайло соскочил с коня – добивали вторую дверь. Старались пришлые люди, цыгане, кои в кузнечных делах мастера. Их же подводы пригнали для второй ходки: ждать, пока первые возвернутся – накладно по времени. Старшина ихний, Бужак, – старый знакомый Жигайлы.
– Скоро ли?
– Стараемся, князь, стараемся. Не торопи. Говорил тебе, давай ещё двадцать подвод дам.
– Знаю тебя, половина в табор уйдёт.
– Я ж тебя не спрашиваю, какая половина мимо пакгауза уйдёт?
– То не твоё дело.
– Ай, боярин, нельзя так. По рукам ударили – верь.
Затрещала вторая дверь. Стук топоров смолк, начали ломить.
И тут вспыхнули фонари. Вот так, сразу, десятка два. Из темноты выбегали стрельцы, вскидывали мушкеты. Десятские начали вязать цыган, холопов Шацкого. Двое здоровяков накинулись на Жигайло, заломили руки. Один, тяжко дыша чесночным духом, затягивая верёвку на запястье, приговаривал:
– Пойдём зараз, милый, на балачку… тама тебя, татя ночного, с петелькой посватают.
Жигайло боролся, пытался головой ударить в лицо обидчику, но получил тяжкий удар кулаком по шее, после чего голова загудела, как чугунный котёл.
Отдавая приказы, подошёл Антон Мучицкий. В воинской справе, в кольчуге, два пистоля за поясом.
– Вона кто командует? – Жигайло понимающе усмехнулся. – А не боишься, староста, что дорого тебе сие скажется?
– Не грозись, тать нощной, не грозись.
– Указ царский…
– Указы днём сполняют, а не нощью, во тьме, да по оврагам.
Сердце у Жигайлы захолонуло: и про то ведает. Не совладал с собой, сказал-таки:
– Должок за мною, староста…
– А ты не грози. Ну-ка, Анисим, дай ему под ребро, чтоб покорней был.
Опять звезданули по голове. Шагая среди кричащих и стенающих цыган в съезжую, Жигайло со злостью думал про Шацкого: небось, зараз спать пойдёт, а мне до утра клопов кормить. А утром опять незнаемое. Как оно повернётся?
У съезжей стыла малая кучка людей. Когда подошли – узнал возчиков с тех подвод, что пошли в меловой овраг. Стерегли их гарнизонные казачки. Есаул подошёл к Мучицкому:
– Этих куда, Антон Савельич?
– Возьми к себе в казарму. Зараз писца Никешина позову. Расспроси подробно про воровство ночное, да пусть Никешин все сказки со стараньем запишет. Утром князь Василью в граде быть, ему и обскажем всё.
«Неужто всё», – подумалось Жигайле, когда вместе с цыганами заталкивали его в душный вонючий подвал, где уже были какие-то люди, недовольно ворчавшие на новоприбывших. Ступая на руки, ноги, животы, получая пинки в спину, отыскал он место посвободней, присел, привалился к стене. В тесном помещении шёл жестокий передел жизненного пространства, стояла ругань, потом пошли угрозы. Он старался не думать про завтрашние события. На воле Шацкий с указом правительницы, и он не допустит его, Жигайлу, до дыбы. А тогда…
«Ладно, Антошка, – подумал он про Мучицкого, – за мной не пропадёт. Гляди, я тебе нонешнюю ночь припомню».
С тем и задремал.
Глава 8
За десять вёрст от Бела Города князь Голицын пересел из кареты на коня. Полковник Цыклер засмеялся:
– Маршалы короля Людовика садятся на коня только перед битвой. Русские полководцы боятся, что их увидят едущими в карете.
– Да нет, Иван Максимович, не про то забота у меня. Весной полки вести на орду, а уж осенью слухи ходят: обезножел, дескать, князь Василь Василич, хвори его одолели.
– Слыхал и такое.
– То-то и оно. На Москве и сокола вороной сделают.
Дошли бы от Обояни ходко, если б не обоз. Потому и просидел в Курске всю седмицу, его из Москвы ожидаючи. Везли пушечный припас для Бела Города, Хотмыжска, Яблонова и Ахтырки. Не хотелось войска весной отягощать обозами. Придут налегке, а припас с осени запасён. Ныне стрелецкие полки уже с пищалями не ходят. Не то время. И орда не та. Вот в шведах новые пушки закупили, стреляют примерно. Пушкарей обучили. По весне опять в поход, а чтоб конфуза не вышло, как в прошлый раз, думать про будущие баталии надо нынче и стёжки-дорожки торить. Рыскали по Дикому полю лёгкие казачьи отряды, пути до Перекопа вымеряя, маршрут считая, чтоб и корм лошадям, и воям отдых. В тот поход то ли запорожцы, то ли ордынцы степь подпалили. Воды нету, корма людям тоже, лошади сотнями сдыхали. Без боёв войну проиграли. Ныне не то будет. Ранней весной травы сами подожжём, чтоб сухое выгорело, а к походу зелень наросла. Она огню не подвластна.
Посмеиваются над ним в иных домах. Царевниным спальником кличут по-за глаза. А всё потому, что ночами ходит он в царские покои, потому что делит ложе с правительницей, и тому иные дивятся, а иные злобствуют. Иноземцы величают его принцем-консортом, и сие по сути верно, ибо государственные дела, всю тяжёлую ношу, взял он на свои плечи. Одно отличие: не муж и жена они с Софьей, – и одно тому препятствие: нарышкинский отпрыск, которого сгоряча, после бойни 1682 года, вместе с хворым Иваном, объявили царём. Взяла бы Софья корону на себя – не было б препятствий к их совместному правлению. Ныне всё зыбко и неопределённо. Шакловитый уже давно требует новой кремлёвской бойни, он, князь Голицын, как может сему противостоит, ибо варварство ему чуждо, на идеях высоких воспитан, перед Богом ответствен. С тревогой наблюдая за тем, что творится в Преображенской слободе, где днём и ночью марширует потешное войско неугомонного Петра, Голицын и сам поверил в то, что вернись он победителем из нового крымского похода, корона сама упадёт к его ногам. Сколь тому примеров история знает как в просвещённой Европе, так и в дикой Азии! Владыки любят встречать своих победивших полководцев, но они же и знают, что каждый из триумфаторов, победив в битве, становится на самой верхней ступеньке у трона. Захочет – и нет владыки. И немало тех, кто захотел и сам уселся на престол. Московский же престол ныне – место шаткое и пустое. Шапка Мономахова кому велика, а кому и мала, потому и пылится в безделии.
С восемьдесят второго года держит державу в своих руках. В восемьдесят третьем пришёл на Москву француз Депрей, ордена иезуитов высокое лицо. Много вечеров тогда проговорили, и каждый раз Голицын изумлялся тому, как хорошо нашим языком изъясняется француз, как прилежно изучил он историю Руси, её нравы и обычаи. После сих бесед Василь Василич ещё более укрепился во мнении, и до Депрея им владевшим: Руси надо определиться, с кем дале быть, с Европой, вершины наук постигшей, либо с Азией, накапливающей миллионы будущих воев и ждущих новых Аттилу и Чингиз-хана.
Депрей открыто говорил, что Русь Европе не нужна. В ней много азиатского, непонятного для Европы, много непредсказуемого и дикого. И она страшит ещё оттого, что многолюдна и просторна. Голицын возражал, что народ её трудолюбив и неприхотлив, что Русь, одолев науки, станет примером морали, книжного благоденствия.
– Поймите, князь, – говорил Депрей, – всего, что производит земля на всём её пространстве, не хватит на её народонаселение. Кто-то будет есть больше, чем другие, – это закон, и его не изжить, значит, кто-то будет есть меньше. Судьба и Бог, зародив земную жизнь, дали всем одинаковый шанс. Нельзя упрекнуть Европу, что она вырвалась вперёд, овладела знаниями, великим опытом управления, создала орудия защиты, стала посягать на собственность других. Это законно. Завоеватель ни у кого не просит разрешения прийти и взять твою собственность, а то и жизнь. Это примат силы. Европа устояла против первого приступа Азии и теперь сама пошла туда. Но мы знаем, что Азия собирает силы, что она рано или поздно получит наши орудия защиты и разовьёт их до совершенства. И тогда у неё, гиганта с немыслимыми возможностями, появится соблазн захватить крохотную Европу, взять её богатства, её благодатную землю, раздавить изнеженный в холе и достатке народ.
– Почему вы так думаете? А если найти с Азией общий язык, если примирить их и вашу веру?
– Вы мечтатель, князь. Сделать то, что вы говорите, – значит разделить на всех то, что даёт земля. Значит сделать всех нищими и голодными, значит остановить прогресс и потратить завоёванную веками цивилизацию на корки хлеба, которых всё равно не хватит на всех.
– Что же остаётся?
– Остаётся то, что продиктовано разумом. Русь, без помощи Европы, не сможет стать сильной. Но Европа сделает её сильной только при выполнении главного условия: Русь должна стать заслоном Европы против Азии. Вы постоянно должны быть обращены лицом на восток, но не на запад. Вы должны быть нашим непреодолимым рубежом, и тогда мы сделаем всё, чтобы Москва крепла и рождала новых солдат.
– Это главное условие. Значит, есть другие?
– А как вы думали? Но не тревожьтесь, при соблюдении одного главного и простого условия всё уладится.
– Хотелось бы знать, что вы имеете в виду.
– Вы должны принять покровительство Святого престола.
– Это невозможно.
– Почему? Мы не требуем от вас отказа от основополагающих религиозных постулатов. Мы говорим: живите своей религиозной жизнью, но слушайте то, что говорит Рим. Не торопитесь с возражениями. Православие – компромиссная религия. Она допускает ересь, она не противостоит мусульманству, она надеется на торжество добра. К чему это привело? Византия – светоч православия – легла под копыта коней османов, иные православные страны Балкан уже давно осенены полумесяцем и славят Аллаха. Рим же двести с лишним лет противостоит исламу и не потерял ничего. Ни одна страна католического вероисповедания не стала исламской. Это ли не доказательство нашей силы?
– Погодите. Православие – это основа существования Руси. Уберите его – и нет Руси. Православие – сие великий щит нашего народа.
– Мы дадим вам иной щит. И меч дадим. Подумайте, князь. Если вы примете нужное решение – возможно возникновение на Руси новой царственной династии. Имейте в виду, если вы не примете нужного решения, его примут другие.
– Кого вы имеете в виду?
– Хотя бы царя Петра. Вы знаете, что в его нынешнем окружении немало служителей нашего ордена. Я вам верю, потому могу назвать даже некоторые имена: это капитан Франц Лефорт, это капитан Карстен Брандт и другие. Как вы понимаете, у нас есть право выбора.
– И всё же вы ставите страшные условия: уничтожение православия приведёт к крушению Руси.
– Ну и что? Пусть вместо одной громадной, плохо управляемой страны будет три, пять стран. Пусть будет восемь. Разве в этом дело? Посмотрите на Европу. Кому мешает то, что одни государства исчезают, а появляются другие? Кому мешает то, что государства превращаются в провинции других государств? Никому, потому что единство Европы гарантировано папской властью.
– Однако Европа уже во многом протестантская.
– Это временно. Посмотрите, германские государства уже заплатили за свою измену Риму расколом и раздроблением. Они воюют друг с другом.
– Католические страны тоже воюют. Сколько десятилетий противостоят друг другу две католические державы – Франция и Испания?
Возражал он Депрею яростно, хотя понимал, что на Руси менять что-то надо. Что до выбора пути – тут не спешил. Не много в Московии людей, образованных в такой степени, как он. В словах иезуита было много правды, но и лжи немало. Стороны нуждались в дальнейшем изучении возможностей и намерений друг друга. Однако Депрей настойчиво требовал хотя бы первых шагов, и Голицын уступил: через Москву ушли на восток, в Китай, несколько десятков иезуитских миссионеров. Голицын сделал всё, чтобы об этом не узнал патриарх Иоаким, однако старец уже через седмицу сказал при встрече:
– С огнём играешь, князюшка… Гляди.
И в словах, и в глазах Иоакима была явная угроза. А ну как с амвона возгласит? Его ж палками забьют, и никакие стрельцы не спасут. Нет, с церковью шутить нельзя. И на время притих, хотя и продолжал принимать иезуитов.
Неприятной новостью для Голицына было сообщение окольничего Фёдора Головина, отправленного им в качестве посла для переговоров с Китаем по поводу совместной границы на реке Амур. Доносил окольничий, что, к своёму изумлению, обнаружил в китайских послах, присланных богдыханом для толкований, двух прошедших не так давно Москву иезуитов: испанца Перейру и француза Жербильона. Сии послы сторону Китая держат неколебимо и настроены к нам тяжко и непримиримо. После Головин донёс, что мороки иезуиты создали много, ибо с азиатским коварством китайцев соединили хитрое умение европейское. Потери при определении границы со стороны русских были ощутимыми, пришлось разорить собственный город Албазин, эвакуировать его гарнизон, потерять немало добрых земель.
В очередной приезд Депрея Голицын обрушил на иезуита град упрёков, где поминал и китайских иезуитов, и нападения на русских купцов в европейских землях, на что Депрей ответствовал, что, разбоем занимаются лихие люди, коих и в Руси хватает, что, к сожалению, даже именитые князья иной раз в европейских землях с кистенём в ночь выходят. Что касаемо китайских иезуитов, то такого наказа против русских им никто не давал: разница в том, что Рим посылает своих миссионеров навечно и связей с ними не имеет. Явно лукавил высокий посол ордена, и в первый раз за всё время их знакомства князь поручил Разбойному приказу приглядеть за всеми встречами француза в Москве. Когда дьяк Усатов доложил Василь Василичу результаты подгляда, князь был неприятно поражён: иезуит встречался и с Шакловитым, и с Сильвестром Медведевым, и с генералом Патриком Гордоном, и с полковником Иваном Цыклером, и ещё кое с какими сильными людишками на Москве.
– Запустили хоря в курятник, – с неприязнью подумал Голицын про недавнего своего собеседника и решил, что свободы разговорчивому французу на Москве боле давать не следует. Очередным иезуитам Аврилю и Боволье, не глядя на то, что они прибыли с грамотой от самого короля Людовика XIV, в которой тот просил высочайших, превосходительнейших, державнейших и великодушнейших князей Иоанна и Петра Алексеевичей пропустить вышеозначенных особ через Россию в Китай, было отказано в проезде, и 31 января нынешнего, 1688 года французов отправили назад. Хотя при личной встрече с Аврилем и Боволье Голицын намекал на то, что, коли б была его воля, он бы постарался, ибо среди иезуитов имеет много друзей, но сейчас его позиции при царях пошатнулись в связи с неудачным первым крымским походом. Вечером, рассказывая Софье про сей кураж, Голицын немало смешил царевну тем, что лицо его при сих рассуждениях было чрезмерно печальным и доброхотным. Тут же, в опочивальне, написал он волю великих государей, которая следующим днём была вручена иезуитам: «Королевское величество французский в грамоте своей, которую мы объявили, писал противно и необыкновенно, и для того великие государи этой грамоты принять у вас и чрез города Великороссийского царства в Китай пропускать вас не указали, а указали грамоту отдать вам назад и отпустить в свою сторону той же дорогою, какою вы приехали…»
Зачитав сие послание, Голицын немало смеялся с правительницей, представляя, как гордый король, пред которым трепещёт вся Европа, получит сей российский ответ. Поделом ему, даже царского титла не изрёк, князьями наименовал, хотя у нас князей в одной только Москве с полста будет.
Много раз упрекал себя за нерешительность. Громадная власть, данная ему безграничным доверием и любовью царевны Софьи, растаскивалась по частям тихо и неприметно. Тянул немало на себя Шакловитый, акромя Стрелецкого приказа, подмяв под себя Разбойный. Сенька Медведев, окрестив себя заново Сильвестром, подгрёб под себя Счётный приказ, а ведал он ни много ни мало, а расходами всего Московского государства, да и приход через него проходил. Залез он и в Разрядный приказ, потому как в последние дни через него пошли немалые военные и гражданские назначения, да всё дружков сенькиных. Недавно остановил у Софьи указ про назначение некоего Василия Кушакова на очень денежный Панафидный приказ, ведавший поминовениями усопших царей. Добро что знал, кто такой сей Васька, выгнанный пять годов назад из стрельцов, в грамоте не ведавший, зато знавший толк в выпивке. Вот пошли бы царские поминовения при таком дьяке! Он, чей титул, впервые после великомудрого Афанасия Лаврентьевича Ордина Нащекина, звучал как «великих государственных посольских дел и государственной печати Оберегатель», кидался то в военные дела и начинал формировать новые полки, то, бросив сие дело, месяцами пропадал в Посольском приказе, то чертил образы будущих мануфактур, считая, отколь везти нужные прилады. Двоюродный брат, Борис Алексеевич, самый ближний царю Петру человек, при встречах посмеивался:
– Ты. Васька, всё на месте топочешь. Суеты много, а дела нету. Гляди, через полгода мы будем иметь два лучших в Европе полка.
Хвастать хвастал, да так оно и было. Вырастало новое войско, манером куда быстрее и умелее царского, точнее, царевнина. Правда, два потешных полка для воинской силы Кремля были чуть весомее комара, их можно было прихлопнуть в любой момент, но кто на себя такое возьмёт? Кто решится супротив одного из двух царей такое воровство затеять? Был только один человек такой по властным возможностям – это он, Василий Голицын. Но с его ведома такому не быть. По характеру мог бы совершить такое Шакловитый. И силы, и ума хватит. Только не пойдут за ним. Большие роды за равным али за высоким пошли бы. А за выскочкой чтоб – никогда. В этом великая сила московского царского двора. Никогда, за всю историю Руси, не был он единодушен. А государю оставалось только одно: не давать перевеса при дворе ни одной из партий боярских. Как упустил такое дело – жди смуты.
Понимал, что провалится второй крымский поход – конец Софьиному царству. Уже усы у Петра растут, вымахал ростом немалым, баском разговаривает. Рано или поздно, а нужно было решать вопрос с троном. Спор до следующей осени притих, обе стороны притаились; наконец, задумавшись про дела государственные. Кого из бояр обидят на Софьиной стороне – глядь, а он уже при Петре обретается. Только в последнее время что-то от Петра к Софье переходов нет. Иль силу почуяли? При другом дворе уже б соперника силой да кровью усмирили. Вон аглицкий Генрих, восемь жён одну за другой имел. И всякую предыдущую казнил смертию. При дворе московском, коий варварским те же английцы кличут, неудобного принца убрать не могут.
Полки ныне поустроили. Командиров, которые опозорились при первом походе, отставили. Гетмана малороссийского заменили. Новый старается. Надежда на порубежных людей: на воевод опытных, под ордынской саблей живущих, на купечество местное, языками владеющее, в дальние страны успешно товары привозящее и возвертающееся с прибылью великой, которая на пользу государству. В первый поход купцы оплатили два новых полка, а сколь кормов для лошадей, сколь припасу воинского? Того оценить невозможно. Купцу местному, от московского в отличие, в привычке не заможностью гордиться, а своими ногами да сноровкой богатство выбегать. А казачеству порубежному цены совсем нет. До Перекопа тайком доходят, по Крыму гуляют тайными станицами. С такими воинами да проигрывать войны?
Вчера на ночлеге, едва квадрат телегами обоза выгородили да стрельцы конвойного Стремянного полка костры развели, заметили верхового, галопом с юга шедшего. Казачки пошли на перехват, вскоре вернулись. Соскочил с коня стрелец от белгородского воеводы князя Белосельского, подал с поклоном бумагу. Прочитал Голицын и в гневе взвился: писал воевода, что на городе зреет смута, посадские и торговые люди сбиваются в кучи, негодуют, бездельные вот-вот закричат: «Сарынь на кичку», тайные люди докладывают, что оживились бунтари, год назад кнутами перепластанные и до того тихо живущие. А всё из-за того, что московский подьячий Шацкий Зосимка Станиславов покусился на прибыток заможного купца Трифонова: указом царевны потрясая, вломился в дом умирающего купца, ночью изломал лабазы, добро тайком с помощью цыган умыкал из городу. Добро то найдено и описано, а виновные повязаны и ныне на правеже. Пытал воевода, как поступить с вышеупомянутым подьячим, ибо указ при нём не поддельный, а подлинный, а пытаемые показывают прямую его вину. А тот Зосимка Шацкий волею своей пытал в подвале приказчика купца Трифонова, добиваясь ответа, где спрятана купеческая деньга и ключи от лабазов.
Цыклер засомневался: так ли оно? Знал Шацкого, многими заслугами преданность правительнице доказал. А голь, она завсегда готова на копья вздеть того, кто при деньгах. Стар воевода, вот и напраслину возвёл.
Однако Голицын тоже знал Шацкого. Долго по Москве гулял слух, как подьячий сгубил заслуженного яблоновского воеводу порубежника за ради двух хуторков в степи, где пять десятков народу всего. Тогдашний дьяк Разбойного приказа принёс ему сказки очевидцев, и он был поражён звериной жестокостью подьячего. Пытался остановить передачу хуторов убийце, да Шакловитый опередил, вырвал тогда у Софьи нужную подпись.
Кроме того, у Трифонова была его, Голицына, охранная грамота. Кто пренебрёг его защитой? Шакловитый? Сильвестр? А может, сама Софья, в кривду введённая? Надо бы разобраться.
Потому велел подьячего до приезда его, князя Голицына, не трогать, но из града не выпускать, содержать под негласным караулом в его хоромах, сказки сготовить к его приезду и виновных под рукой для опроса держать. Настроение было испорчено, и в шатре своём он не высказал обычного желания играть с Цыклером в шахматы.
С воеводским посыльным ушли намётом в Бела Город стрельцы Стремянного полка, числом пятеро, мужики служивые, опытные, не раз с князем бывалые. Должны были устроить жильё, защиту, пропитание, порядок въезда, тем более что смутно в городе. Лёжа в своём шатре, прислушивался к глухим голосам сидящих у костра стрельцов. Говорили про укос, про меды заготовленные, про покупку второй коровки, про женитьбу сына. В который раз подумал, что, кинувшись однажды в схватку за власть, лишил он себя спокойной размеренной жизни, занятий любимыми книгами, ваянием на бумаге парсун. Любил он домашний халат, меды устоявшиеся, сваренные на духмяных травах, баньку с берёзовыми веничками. Всё есть, всё получил в жизни, что хотелось бы. Зачем ему та власть, тот рёв неуправляемой толпы, когда сметается всё подряд, винное и невинное? Ему б Горация почитать в шикарном мюнхенском издании, подивиться изяществу свободной мысли, а он должен беспокоиться про границы и дороги, про нужды смердов и воинов, про козни завидующих ему врагов, не сумевших достичь высокого понимания смысла мироздания, ответить на вопрос: кто есмь человек?
Боялся признаться себе, что его вина тут малозначима. Всё началось с того, когда после смерти царя Фёдора царевна завела его к себе в светёлку, положила руки на плечи и сказала:
– Что было – забудь. Как перед Богом ответствуй, со мной ли во власть ли, в полымя, на дыбу аль в сторону, к книжкам своим окаянным? Нету иных путей, акромя этих двух.
Наверное, именно тогда он смалодушничал. Ведь понимал, ежли не будет около царевны знатных родов, не усидит она. Тогда, в те первые недели, когда бунтующие стрельцы диктовали все указы, когда на пытку бросали всех, кто когда-либо перечил в полках выборным, именно он и Хованский стали поручь с царевной. И постепенно пересилили, перемололи стрелецкую ярость, снова загнали бунт в слободы, на базары, в огороды. Уже тогда, когда увидел расправу с Салтыковым, Матвеевым, Долгорукими, уже тогда понял, что придётся за кровь когда-либо расплачиваться кровью. Но было уже поздно, в Кремле рядом с именитыми появилась талантливая чернь, она знала свои методы, она не колебалась, она лила кровь потому, что иначе не могла. Когда решали судьбу Ивана Хованского, знаменитого на всю Москву Тараруя, князя из Гедиминовичей, он тоже кивнул головой:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































