Текст книги "Порубежники"
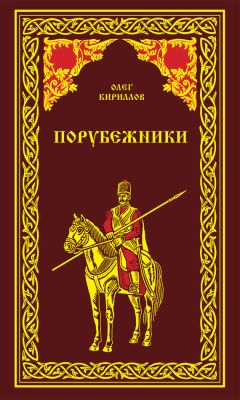
Автор книги: Олег Кириллов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Господи, дай ума-разума рабу твоему грешному. Дай силы постигнуть истину. Заглянуть бы наперёд, узнать бы, чем грозен завтрашний и иные будущие дни. Где воплотятся, а где рухнут великие его замыслы? Знать бы, так отстал бы, откинул прочь дерзновенные замыслы. Вон Мучицкий, славный воин, умом далеко нынешнего воеводу обставивший, довольствуется малым, не пишет челобитных в Москву со сказками про здешние дела, не рвётся в вожди, хоть и заслуги имеет немалые. Когда спросил его напрямки про то, губной староста усмехнулся:
– Мысли-то бывают, князюшка, да что делать? Коль тяжко глядеть на что, беру коня да на пасеку к себе… Знатная пасека у меня, Василь Василич. С пчёлками иной строй мыслей бывает. Видишь, сколь полезен труд около бортей, сколь много для дела благости при дружности и добром умысле всеобщем.
– Мудёр, – то ли похвалил, то ли обругал князь.
При последней встрече с Депреем князь усомнился в благожелательности Ватикана по отношению к России. В Галиции уния, ползущая из Рима, сжигает православные приходы, обращая в греко-католическую веру тысячи православных не крестом, а угнетением, силой, а иной раз – и мечом. Священников избивают, бросают в узилища, пытают, предают смерти. Как Москве сие понимать? Жалобы, стенания идут отовсюду, где соприкасаются влияния православия и католицизма.
Было видно, французу вопрос был не по душе. Однако ответил прямо:
– А мудрый лекарь, видя болезнь тяжёлую, к смерти ведущую, разве стоит перед тем, чтобы отсечь от тела болезную часть?
– Но путём таким братства меж римской верой и православной не достичь. Сие путь неверный и порочный. Ибо, как многажды говаривали мы Риму: вера наша православная есть непременное условие существования государства Российского, к коему идёте вы за подмогой супротив силы Дикого поля. Как же, прося подмоги, рвёте вы основы нашей силы?
– Для земель нынешней Руси благом было бы разделение на несколько государств. Тому пример империя Рима, созданная его войнами. Ныне на той земле мирно обретаются и Англия, и Франция, и германские страны. Что в этом примере плохого?
И тогда он задумался о желанности получения просвещения для России с Запада. Так ли нужно? Такой ли ценой, когда ставят цель усекновения державности российской, уничтожения православия? Стоит ли к сему идти? Стоит ли строить мосты, по которым придёт на Русь беда?
Знать бы ответы. А французский король, блюститель чистого католицизма, шлёт турскому султану новые пушки.
Пора бы поспать. Шацкого, видать, уже далёконько увезли. Пусть с ним Шакловитый сам разбирается. Дьяку Сумину направил его с целью прямой: ближний он человек Федьке, немедля доложит. Уцелеет голова подьячего – Федькина вина, коли чего, не его, князя Голицына, который прямо указал на изменнические дела пересыла. Да и на Федьку, коли что, хороший укорот.
Во дворе громкие голоса. Что они там, умом тронулись? Время какое.
Стукнула дверь, заскрипела вторая. В сенях громыхнули сапоги. В горницу просунулся Юдка Калитин, холоп из подмосковного Медведкова. Был в самых ближних. Никак, что-то стряслось?
Юдка скалился радостно. Протянул бумагу. Видать, доволен встречей. При отъезде просился настойчиво.
Сломал печать. Корявые знакомые каракули Ефросиньи Вакулиной, спальницы царевны Софьи. Исполняла боярыня службу преданного пса при царевне, службу бдительного надзора в пользу князя. Начал читать: «Батюшка наш князь Василей Васильевич! Сообчаю тебе, что давеча, коли новый год отмечали в терему, сентября первого дня, велено было царевной истопить мыльню. Апосля всех ближних отослали, а в мыльню вошед Фёдор Левонтьевич и находился там с царевною до утра. Приезжай, батюшка, скорым путём. Твоя раба Фроська».
Удар был неожидан и тяжёл. Рявкнул на Юдку, отшвырнул со стола штоф недопитой мальвазии. Князь бушевал долго и страшно. Кинул табурет в дорогое венецианское зеркало, топал ногами, грозил тому, чьё имя даже упоминать было страшно. Слышавшим его слова грезились страшные пытошные подвалы Разбойного и Тайного приказов.
Наконец утих. Камердинер, заглянув в горницу, увидел, что князь пишет, чёркает и рвёт одну бумагу за другой. Ещё некоторое время спустя, заглянув вдругорядь, увидел невиданное: Василь Василич, откинувшись к стене, стирая слёзы с лица, горько навзрыд плакал.
Глава 11
– Ежли по совести, то в ту пору нам с сумой по свету, – сказал Ермош, придвигая к себе счёты, – за мушкеты плачено в немцах по пять ефимков, князюшка забрал по два. Тридцать штук продали по хорошей цене казакам, семьсот сорок на казну взято, то, что татары давали. Шесть возов с двух лабазов, что в яры Жигайло таскал, в казённых пакгаузах разворовано, остаток продан за хорошие деньги. Прибыток с тех шести возов на девять сот ефимков, а гадали, что буде на восемь тыщ. В хоромах жигайловыми писцами пограблено две тыщи и двести тридцать ефимков, да рухляди взято на триста двадцать, да одёжи, да сапог добрых, да сарафанов, да зеркал, да стулов мадьярских расшивных восемь, да двух кабанов, застреливши, сожрали. Мамай, чисто Мамай по двору прошёл. Потеряно нами, Никитушка, супротив того, что гадал батюшка твой, вернувшись с немцев, аж двенадцать тыщ да триста десять ефимков.
Никита ужаснулся. Где деньги такие взять, где выручиться? Что толку с того, что Шацкого увезли в разбитой телеге в железах по московскому тракту? Что толку, что Жигайло бит кнутом и обрезаны ему уши? Что толку, что хоромы Шацкого и рухлядишка описаны и взяты на государей? Кто вернёт пограбленное и потерянное семьёй Трифоновых? Губной староста сочувственно вздыхал, советовал писать челобитную правительнице, а по глазам видно, что не верит в то, что Москва хоть полушку вернёт из того, что взято.
Целую седмицу думали, как быть. Заможный двор в одну ночь стал в большом убытке. Когда отдали доли, взятые батюшкой под купецкое честное слово перед поездкой в немцы, вышло, что делить больше нечего. Слава Богу, что расквитались, а то б позор на всю округу. А впереди зима, а прибытков нету, торговать нечем, лабазы пустые, в лавках тож. Ермош тяжко вздыхал, пристанывал, ковылял ночью по лестницам, выписывал цифири на восковке. За вечерей прикидывали и так и сяк: ничего не получалось. Никита даже мотнулся в Хотмыжск, глянуть, не ввязаться ли в древесное дело: дубы валить, строгать на месте, потом волами гнать в город – начали на голицынские деньги крепить стены градские. Ермош счёл – прибытка не получалось, себе в убыток. Сам поехал в Корочу, три дни не было, вернулся пасмурный – завести медоварню несподручно, сыровина в медовом краю ноне не по карману.
В тот же вечер, когда сидели за вечерей, Ермош высказал, видать, давно обдуманное:
– Не миновать тебе, Никитушка, ехать в немцы. Обоз склепаем. Седмицу назад Кутейников Иона закинул про наши лабазы: не уступите, дескать? Я и подумал: чем мышей плодить, отдать ему под залог, а вернёшься с прибытком – возвернём. Иона-то нынче хорошо в персияны сходил. Нам бы залог товаром взять. Сами возов десять нагрузим, да с него возьмём пять-шесть. С деньгами будем. А я бы тут на хозяйстве помыкался. Пеньку в Киев свожу накоротке, в Воронеж за посудой лазурной смотаюсь. Немного, а деньга в дом притечёт. А в дальний путь не выдюжу. Апосля дыбы чтой-то надломалось в спине-то. Ночами маюсь, хоть криком кричи.
– Без бати-то как? – Никита растерялся. Отцовское дело казалось ему сложным и малоинтересным. Вот в стрельцы бы податься аль в казаки. Знать торговое дело, иметь разум, чтоб в товарах разбираться, ломать цены – всё это с детства было как бы не для него. Отец был могуч и умён, и парню казалось, что жить старшему Трифонову бесконечно, и не только жить, но и крутить торговлю. А тут… – Я ж сам в таких делах разума не имею. Какой из меня купец?
– То так, – согласился Ермош, и голос его был разочарованным, – то так, Никитушка, но делать-то неча… Пока во дворе чтой-то имеется, надо крутануть, деньгу взять, а потом думать. А что думать, коль деньги нет? Распродадим лабазы, лавки на базаре, остатки товара, а дале что? Двор спускать? Коней, живность иную? Людей в посады кинуть на тягло? Двор-то весь Аникеем жил. Семьёй одной. Куды ж всех-то в зиму, Никитушка, ты уж рассуди. Ныне ты старшой трифоновский – ты отец и кормилец. А про торговую справу, так Ганьку с тобой пошлю, он ведь кого хошь вокруг пальца-то спроворит. Аникей-то завсегда посылал его для хитростей. Только глядеть надо, чтоб в меды не ударился. Как возьмёт – так уж апосля не удержишь. Порты сгонит последние.
Гаврилу Косова в городе звали почему-то Ганькой. Был когда-то купцом, да вдарился в хмельное. Просадил всё, да ещё в долгах оказался. Вынул его из долговой ямы, где Ганька просидел, почитай, два месяца, Аникей Трифонов, привёз в исподнем на свой двор, приодел, к делу приставил. По первости все дворовые потешались тем, что Ганька даже в долговой яме умудрился загнать всю одёжу: от армяка до сапог. Как выжил в зиму – того никто уразуметь не мог. Но со временем Ганька стал для Трифонова левой рукой. Правее был Ермош, тот безвыездно хозяйство соблюдал, а Ганьку тянуло в свет, в обоз, в торговлю, и он каждый раз уходил с Трифоновым то в персы, то в Кафу, то в казанские привольные края. Даже за Камень ходили однова раза, пушнину привезли, да только выгода мала оказалась: одну барку на Волге потеряли, зипунники отбили. Про тот случай в доме говорили мало и неохотно, но за Камень Трифонов больше не ходил.
Кликнули Ганьку. Тот явился немедля, сел напротив, сощурив хитрые жёлтые глаза. Был мал и худ, длинная шея торчала из ворота рубахи, обнажив острый хрящеватый кадык. Жидкие волосы с богатой проседью расчёсаны пробором. Маленькие цепкие ручки жили своей особой жизнью, и если лицо постоянно сохраняло умиротворённое выражение, то руки реагировали на каждое слово собеседника. Коротенькие пальцы то вскидывались, постукивая по колену, то мирно ползали, будто поглаживали сукно портов. Иногда они становились на подушечки, и казалось, что Ганька готовится встать, опершись на них. Никита, когда Ганька бывал за общей трапезой, любил наблюдать за ним, что доставляло Косову неприятные ощущения. Он поглядывал враждебно на Никиту, ворчал неразборчивое, но вскоре успокаивался и ещё чаще начинал мелькать ложкой.
После смерти Трифонова стал реже выходить из своей каморки, а когда выходил – часами слонялся по базару, прицениваясь ко всему, спорил с торговцами и уходил, так ничего не купив.
И вот теперь Ганька выжидающе поглядывал на собеседников, прикидывая, про что может пойти речь. Среди дворни последние дни ходили упорные разговоры, что новый хозяин, разорённый недавними событиями, скоро начнёт сгонять людей со двора, и многие, будучи бесприютными, с тревогой ждали решения судьбы. Для Косова, последние годы бывшего верным псом трифоновской семьи, это было особо важно. Кому он нужен, куда пойдёт, коли не раз переступал через совесть, служа хозяину?
– Слышь, Гавря, ты дорогу-то в немцы справно помнишь? Три раза ведь ходил с Аникеем.
Пальчики Ганьки затрепетали над коленом, хотя в лице ничего не изменилось:
– Чего ж, помню… Дело знамое.
– Хотим вот обоз клепать. Как кумекаешь?
– Я что? Я завсегда. Ты поведёшь ли?
– Куда мне? Двор сторожить буду. Хозяин молодой поведёт. А ты при нём вроде бы дядькой, а?
Пальчики выплясывали вовсю. Редкая бородёнка Ганьки затряслась:
– Да я… ежли… Само собой…
– Торговля на тебе. Хозяин, сам понимаешь, в делах сих младень ещё.
– Оно ясно. Не сумлевайся, Ермош, осилим. Меды наши, персиянские товары ходко шли. Тамошнего короля видал саморучно. Младень совсем, а телом велик и дороден, Никитушки нашего навроде. Обласкал Аникея, грамотку выдал. Тую грамотку надобно бы взять. Немцы народ строгий. А коней надобно перековать, давеча глядел, копыта стёрты. Два чересседельника упрели совсем. На базаре мирной татарин с Обояни добрую сбрую продаёт. И не дорого.
– То иное, – перебил Ермош, – я тебя пытаю про то, мочен ли с делом управиться? Последние жилы на тот обоз тянуть будем. Сорвётся – по миру пойдём. Торговля вся на тебе.
– Слыхал уже, чего талдычишь? Сказал – не сумлевайся, осилим. До Аникея сам и к персам водил обоз, и в Кафу, и в турку.
– Что скажешь, Аникеич? – Ермош впервые назвал Никиту по отчеству, как бы подчёркивая значимость вопроса, на который ожидал ответа.
– Прикинуть надо, – каким-то чужим, незнакомым самому себе голосом сказал Никита, – собьём ли обоз? Коль получится – пойдём.
– Получится, Никитушка, получится… – Ермош с силой ударил ладонью по столу. – по сусекам пометём, наберём десять возов. Кутейников по залогу за лабазы даст товары. Ежли что, примем его в долю. Приказчика его возьмём, а обоз собьём. Вот гляди, я уж тут кое-что прикинул, – он вытянул из-за пазухи несколько листов, густо исписанных цифирью. – сукна имеется у нас доброго вишнёвого восемьсот аршин, из персиянов ввезено в прошлом годе, бархатных вершков на шапки сто пять аршин, соболя четыре сотни и пять штук, что летом перекупил Аникей у казачков за полцены, оно, конечно, из зипунной добычи, да уж чего тут? Медов соберём возов пять – ходко идут. Парчи, опять же персиянской, шестьсот аршин в кладовой имеется, жигайловские тати не смогли дверь сломать. Аникей сию парчу принял в залог, когда Селин-купец младшего сына женил. Покудова Селин залог не стребовал, в дело его пустим, возьму грех на душу. Обоз его, слыхать, на нижней Волге зипунники крепко пограбили. Может, и не стребует залог-то. Бабьих прикрас два воза Аникей, чуя беду жигайловскую, спрятал в тайном месте. Те прикрасы с Китай-страны в немцах с руками хватают, Аникей для пробы воз брал, прибыток славный выпал. Надобно купить льняной ткани аршин семьсот, то я уже с Кутейниковым обговорил, завтра брянский купчина Гуторов доставит, обоз уже в Обояни нонче был. Воза два посуды глазурной воронежской возьмём, свистулек всяких для чад малых. Всё пойдёт. Завтра силы соберу да пройду к оловяшникам да котельникам, к шатёрникам загляну: там по мелочи товару собьём тоже немало. Аникей два на десять шатров продал в немцы. Для охотных дел наши белгородские шатры весьма способны. Ежли б ещё клинков персиянских узорных добыть – совсем прибыльно было б, да вот некогда уже. Аникей планировал по весне другой обоз в немцы гнать, к тому времени и клинки заказывал Мамеду-персиянину. Теперь вот выходит, на непогодь обоз гнать надобно.
– Совладаем, – солидно кашлянул Ганька.
Так и закрутилось. Утром следующего дня втроём пошли к Кутейникову. Спорили до обеда. Выговорили условия не срамные. Пять возов товара Иона Саввич давал под залог за лабазы да две лавки из четырёх. От приказчика отбились – позор трифоновскому двору соглядатая иметь в делах торговых, будто банкроты какие. Кутейников кряхтел, чесал огромную лысину, изучающе поглядывал на Никиту: способен ли, не профинтит ли капитал? Ежли б Ермош собрался с обозом, не миновать кутейниковского присмотра, а коли наследник Аникея сам в путь собрался – дело иное. К обеду бухнули по рукам, Никита отдал Ионе Саввичу связку ключей. Тот напомнил:
– Двери порушенные и замки чтоб вашим коштом ремонтировать.
– То справим, – сказал Ермош, – Мирошка-кузнец уже ладит.
– Мирошка – это хорошо, – Кутейников огладил кудреватую бороду, – Мирошка мужик с руками.
Потом мирно все вместе пообедали. Шестеро сынов Ионы Саввича сидели рядком, двое младших перемигивались с Никитой. Были холостыми и не раз кулаками махали рядом с Трифоновым на токовище. Последыш Родион сунулся было к отцу:
– Батюшка, мне б с Аникитой сходить? Набрыдло дома-то.
Кутейников грозно сверкнул глазами:
– Слова те не дадено. Хлебай своё… А дело ко двору найду, коль воли много.
И затих Родион.
В тот же день во дворе Трифоновых стали ладить возы. Проверяли колёса, набивали новые металлические полосы по ободу, сколачивали заслоны – широченные дубовые щиты, коими подвода на ночь прикрывалась от поля. Один заслон закрывал колёса до края телеги, второй сверху крепился к столбцам. На ночь телеги сгонялись в круг, лошадей вязали изнутри, а от поля стоянка сплошь закрывалась заслонами. Дуб не всякой пулей пробьёшь, а саблей да палашом – и не надейся. Десятилетиями изворотливый купецкий ум искал способы малым числом людей оберечь товары в долгом пути. Нашлись и прилады, и оружие. От татей отбивались просто, а вот вольница зипунная, либо орда, либо иное оружное многолюдство, бывало, пересиливали. Охотников до купецких обозов бывало всегда много, и всё ж шли обозы на край земли, в места далёкие и не всегда ведомые. Трудней всего бывало с ордой, те веками наладились грабить купцов, и на все купецкие прилады находились равные ответы степняков. Заслоны поджигались стрелами с паклей огненной, и купецкий караван вынужден был сам растаскивать телеги и открывать доступ в круг степнякам. А тут уж сабельками махали. До только с русскими купцами не всегда у ордынцев ладилось. Последние годы наловчились ночевать у воды и всю ночь заслоны поливали вёдрами. Не такая уж лёгкая добыча получалась для степняков. Мокрый дуб не горел, только дымился, а из кольца споро били пулей пищальной аль мушкетной.
Сам же Никита, поглядев, как споро клеится работа, подался в Жилую. На мостках через Весёлку жиловская ребятня разинула рты: сам слободской Никита пожаловал. Кинулись оповестить старших; будто воробьиная стая прыснула по переулкам. Пока Никита вышагивал к сычёвским воротам, наискосок, через пустырь, кинулась кучка взопревших от канавокопания женатиков. Не успели. Только вымахали на выгон, а уж Трифонов калиткою скрипнул. Когда добежали до ворот, заскочили во двор, ан Никита с Митреем уже в холодке квасок попивают. Куприян-медник, уже два токовища получавший от Никиты добрые тумаки, разочарованно махнул рукой:
– Замиренье у них… – и пошёл со двора.
– Погодка, – сказал Никита, взглянув на небо, где не по-осеннему ярилось солнце и редкие облачка нависли над землёй, будто приколоченные.
– Озимь ныне по-доброму покидали, – поддержал Митрей.
– Скоро занепогодит.
– Оно так. От осени не уйдёшь.
– Работы много?
– Не. Браты управляются. Летом – другое дело. Скот гонять на траву. Батя до дёжки не пущает: молодой, говорит, приглядывайся.
– Ноне в немцы пойду, – сказал Никита и скучно поглядел по сторонам, будто единственное, что его интересовало, – это куры, в углу сварливо делившие рассыпанные зёрна.
– Слыхал, – Митрей глядел на свои босые ноги.
– Народишко нужен.
– Ясно дело, нужен. Дорога дальняя.
– Пошёл бы?
– Батя пустит ли?
– А ты спроси.
– Ладно.
– Одёжку, обувку дам. Возвернёшься – долю получишь.
– Спытаю.
– Ну, я пошёл.
– Погодь, провожу. Ноне ребята злые, вчера ваши Куприяна петуха ловить заставили. Не по уму.
– Не слыхал. А про петуха – точно не по уму. Узнаю.
Молча вышли со двора, прошли переулками к Весёлке. То там, то здесь выскакивали на бегу оповещённые. Увидав Никиту вместе с Митреем, уходили. Дойдя до середины мостков, Сыч попрощался:
– Пойду я…
Поднявшись на горушку, оглянулся, махнул рукой.
Хорошо бы сговорить. Митрей троих стоит, да не каких-то замурзанных, а крепких, в самой силе, мужиков.
Дальше дорога лежала в Стрелецкую, по-простому – в Болховец, иногда – просто в Болхов. Навряд ли служивый пятидесятник Фаддей Болховец замышлял про то, что именем его назовут в порубежье такое селище. На десяток вёрст вдоль Весёлки протянулись избы, огороды, покосные луга. Вырванные у леса, с трудом корчёванные, зажелтелись поля. Пал пускали бездумно, норовя отхватить плодородной землицы поболе, брали тут и жито, и репу, и капустку белокочанную, благо водицы хватало. Нынешние южные места, куда приволоклись семейные стрелецкие обозы аж из-под Новагорода, заселились быстро и надёжно. Земли давали вволю, угодья богатые, умелым рукам раздолье. Оттеснили Чёрный бор от речного берега, от орды отгородились рогатками, канавой глубокой, и всё ж доставалось рубиться на своих огородах, когда шальные отряды татар забредали на испытанную дорогу, по которой столетиями прямовали на Москву. Теперь не выходило. Немало бритых голов потеряли ордынцы на болховских огородах, немало потом через них, через эти огороды, в цепях шли на Москву, в полон. Ордынское раздолье кончалось в этих местах трудно и кроваво. Будто весами отмерялась удача: то тем, то другим. Но всё же клонилась в сторону московскую, русскую. Отсюда отчаянные головы, оставя полк, кидались на Днепр за зипунами. Резали не только татар, но и поляков, литовцев. Ночами скрипели по селу тайные подводы, возницы которых днём отсыпались в лесной глухомани, а по ночам везли ко двору днепровскую добычу. Сколько тайных ям со сгнившим скарбом находили здесь потом, десятилетия спустя, на старых болховецких огородах! Видно, закопав добычу, уходил добытчик в новый поиск и складывал где-то в дальних краях непутёвую буйну голову. И оставалось на века не вынутым добро. Сколько раз пылали багровым отсветом пожарища в этих улочках, сколько раз на тех же местах возникали новые избы, как бы наперекор судьбе и ворогу! Болховские стрелецкие сотни были самыми крепкими в полку, отсюда ушёл первый хотмыжский гарнизон. Село дало и первых новобранцев в Белгородский солдатский полк, и стоял он в первый крымский поход у Перекопа твёрдо и надёжно, отбивая беспрерывные атаки ордынцев, окружённый огнём от подожжённой степи, без воды и харчей, без лошадей, павших от бескормицы и жажды. Однако не оставили в степи ни одной подводы: боле сотни вёрст тянули на себе воинский припас и пушки, огрызаясь от наскакивавшей орды яростными контратаками. «Злыми аскерами» назвал белгородцев Нураддин-салтан, ханский сынок, волком рыскавший с ордой по тылам русской армии.
Никита шёл к Томиле Бузину, более известному и в Стрелецком, и в городе, как Ухарь. Кто к нему приклеил такое имя, трудно сказать, но Ухаря знали во всём порубежье. Купцы норовили заполучить его в свой обоз, потому как его пищаль не знала промаха. День, ночь – всё без разницы. Глаз Ухаря видел то, что не было видно никому. Он бил без промаха на слух, на вспыхнувший огонь и никогда не промахивался. Он сам готовил заряды и хранил их в мешочках на поясе. Полковник Шереметев когда-то заспорил с заезжим гостем про скорость пальбы Ухаря. Гость выставил шестерых стрельцов из самых лучших. Били по десяти шестам на сто сажень. Ухарь снял десятый шест, когда пятый стрелец выцеливал восьмой. А ведь для стрельбы каждый из стрельцов имел свою цель и даже шагами промерял расстояние.
Года четыре как Ухарь ушёл из полка. Стал прирабатывать на обозах. Был одним из тех, кто ходил с Трифоновым в немцы. Потому и имел надежду Никита, что уломает Бузина. Хотя старик имел характер трудный, сварливый и шумный и говорить с ним было непросто.
Избёнка Бузина стояла на отшибе, уставившись крохотными окнами на дорогу. Плетень из отшлифованной солнцем и дождями лозы полустоял-полулежал, и с дороги можно было прямо шагнуть в огород, давно не знавший мотыги или сохи. Рыжие бурьяны высились в человеческий рост. Чёрная соломенная крыша общипана дождями и ветрами. Прямо над ней торчит колодезный журавель: когда-то по молодости Томила сам выкопал колодец, и, говорят, вода в нём самая лучшая в селище.
Двор был открыт всем ветрам и дорогам. Ни ограды, ни забора. На палке над колодцем качается тяжёлая дубовая бадья, стиснутая железными обручами. На крыльце рыжий облезлый котёнок лижет испачканный чёрной смолой бок. Скрипит под порывами ветра приоткрытая дверь.
– Хозяин… Эй, хозяин, – шумнул Никита, вглядываясь в полутьму избы.
Тишина. Котёнок перестал заниматься собой и ожидающе уставился на гостя.
– Эй, кто тут?
– Чего шумишь? – надтреснутый старческий голос шёл откуда-то сбоку, из кустов малинника, высаженного когда-то на крыше погреба и с той поры разбежавшегося по всему двору.
Никита вгляделся и увидел жёлтые сухие подошвы, торчащие из кустов, а над ними худое бородатое лицо. Ухарь лежал на соломе, грелся на солнышке, отгоняя рукой надоедавших мух, чуявших приближение холодов и стервенеющих с каждым сентябрьским днём всё больше и больше.
– Ну, чаво?
– Я к тебе, Ерофеич.
– Ну?
– Поговорить бы.
– Дале что?
– Ты бы вылез, что ли?
– Чего надо?
– Это я, Трифонов. Не угадал, что ли?
– Вижу, что Трифонов. Дале что?
– Разговор, говорю, есть.
– Чего надо, спрашиваю?
– Ты вылезешь?
Ухарь медленно повернулся на бок и показал Никите заштопанные на ягодицах старенькие полосатые порты.
Никита сел на крыльцо, напугав котёнка, который вдруг кинулся за угол избы с истошным воплем. Бузин лежал неподвижно, иногда дёргая той или иной ногой, будто видел его в первый раз.
– Я до тебя, Ерофеич.
– Ну?
– Да вылези ты из кустов-то.
– Ишо раз вякнешь – сгоню.
– Я с делом к тебе.
– Чего надоть, ишо раз пытаю?
– С обозом в немцы идём. Пойдёшь ли?
Ухарь встал, почесал спину длинной костлявой рукой, ступил на землю, потоптался:
– Кто поведёт-то? Трифонов, сказывали, помер.
– Я поведу.
Бузин долго разглядывал Никиту, потом сплюнул в сторону:
– Ране что думал? Скоро задует.
– Дойдём.
– Ермош идёт ли?
– Нет. Хворает. Да ты не сумлевайся.
– А мне чо сумлеваться? Бабы нет, дитёв нет, хлеба хватат, квасу тож. Медов да водки не пью. Возов сколь будет?
– Пятнадцать.
– Немало. Одёжку дашь?
– Дам. И сапоги тож. И полушубок овчинный.
Ухарь затоптался.
– Припас пороховой кончилси. Пуль тож нету. Трифонов грозился, а не дал.
– Я дам.
– Платить что будешь?
– Вернёмся – тридцать ефимков дам, харчи тож, мёд для сугреву.
Ухарь насмешливо усмехнулся:
– Ладно, Трифонов… Что дашь – поглядим. До того надо возвернуться. Сколь возов на рыло?
– Три.
– Не много ли?
– Цугом пойдём.
– Знамо, цугом. Три подводы – много.
– Меньше не выходит.
– Когда идтить?
– На той седмице. Ты б на двор пришёл ране.
– Приду.
Почесав поясницу, Бузин пошёл в избу. Постояв с минуту в ожидании, Никита повернулся восвояси.
Вышагивая по берегу Весёлки, Никита глядел, как клонящееся к заходу солнце поигрывало мелкой шальной волной. Старики рассказывали, что впервые речку назвал так московский стольник Антипьев, посланный царем Алексеем Михайловичем укрепить порубежье. Пришёл он тогда со стрельцами на берег и увидел, как в ясной воде резвятся солнечные лучи-блики. Широка речка, привольна. Только потом узналось, что мелка она, что есть места, где конь брюха не замочит, и ордынцы знали про это и приходили часто в обход Сторожевой горы, нависшей над городом, где завсегда ставили против них пушки, где рвы копали, где валы городили. Кидались, перейдя Весёлку, с захода, где воев было меньше всего. Тогда и послал Антипьев на берег Весёлки Фаддея Болховца с новогородскими стрельцами теснить Чёрный бор, строить избы, крепить северный берег Весёлки.
Резала Весёлка город на две части, и то было благом. При Иване Грозном приходили поляки, крепость сожгли, а людишки ушли к Сторожевой и сели на берегу Весёлки в осаду. Дале не пустили жолнёров, а ночами казачки шарили по польскому лагерю, ордынским манером резали головы пришельцам. Воевода Доминик Друшкевич пожёг воровским образом храмы и ушёл ни с чем. Даже орда храмы не жгла, а цивильный пан Друшкевич палил охотно и злобно.
Журчала Весёлка всегда мирно и ласково. Не была похожа на угрюмый размашистый Донец, с его желтоватой хищной волной, яростно кидающейся на купецкие струги. Когда-то Никита ходил на струге с отцом по Донцу до самого батюшки-Дона. Нет, неспокоен Донец, бурлив, мечется меж белых скал, шумно врывается в лесные дубравы, весной идёт на приступ берегов, снося напрочь сделанное человеком. Только изредка вырывается он на просторы, где можно успокоиться, сдержать волну, спрятать белую пену. Большую часть бьётся он в глубоких норах, оставляя в стороне от беспокойного русла синие молчаливые омуты.
Эх, порубежье! Краше тебя нету нигде. И города твои легки и светлы: что Курск, что Бела Город, что Хотмыжск. Яблонов чуток иной, залёг в полях, прямо у оборонной черты. Туда слали самых лучших воевод, потому что орда, натыкаясь на пушки Бела Города, кидалась миновать ров у Яблонова. Сколько рубились саблями в тех краях! Сколько сходились грудь с грудью! Из Корочи иной раз и не поспевала подмога, приходили тогда, когда уже остывали тела защитников, когда, умывшись кровью, уползала в Дикое поле орда. Бывало и так, что наваливались степняки силой великой, прорываясь на Москву, и тогда вражий огонь сметал всё до основания: и людей, и город. Татары уходили на север, оставив после себя пустыню, и лишь через несколько лет снова начинали куриться синим дымком первые землянки новой крепости.
И всё ж Бела Город завсегда был основой русской обороны от Дикого поля. Именно Белгородский разряд, вместе с Северским и Тамбовским, первым на Руси был указом 1680 года переведён на формирование полков нового строя. Всё дворянство было обязано отныне идти в солдатские полки. Стрелецкие ж в порубежье слабели, шатались в дисциплине, ущемлены в кормлении. Солдаты блюли крепость, её башни, рвы. Стрельцам оставалась Сторожевая гора, старые батареи, заслоны на Весёлке. Охотницкую службу взяли казачки, рыскавшие малыми отрядами до Харьковского заслона, где на речках Лопани да Нетечи сидели полторы сотни казаков да солдатская рота капитана Тимошкина.
У крепостных ворот маялись бездельем трое солдат. Ружья прислонены к стене, один из часовых стирал портянки во рву, двое иных распаливали костерок. На досках распластаны куски говядины, тут же закопчённый котелок, в котором, видать, через скорое время кипеть похлёбке. Сивоусый сержант, по говору судя, родом из рязанских мест, крикнул сверху, с башни:
– Гулял никак, Никитушка? Рановато-ча, домой-то…
– То по делу.
– Ну-ну…
Вышагивая по плацу, думал про скорое. Первый раз ведёт обоз. Дорога далека и неясна. Люду набрать много – нету денег. Как оно повернётся?
У самого дома увидал Митрея. Сидел напротив, на старых брёвнах, завезённых отцом годов пять тому. Плановал старший Трифонов ладить новую ограду, чтоб покрепче, понадёжнее. Не выбрал времени. А брёвна уже почернели от дождей, зашершавились от ветров. Увидав Никиту, Сыч встал, стряхнул мусор с портов:
– Ну и ладно. А то я домой было ужо приладился.
– Надумал?
– Ага. Папаня не супротив. Говорит, иди, деньгу работай. По зиме оженим, баит.
– Али есть кто?
Митрей покраснел, махнул рукой:
– То пустое.
Оба рассмеялись облегчённо.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































