Текст книги "Порубежники"
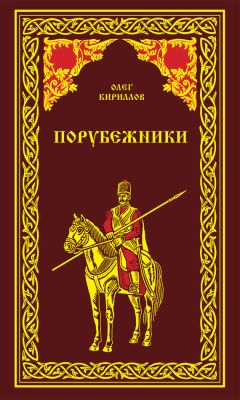
Автор книги: Олег Кириллов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Погодь, не твоего ума дело.
Остался Зосима с другими свитскими в гостевом покое. Разговор Матвеева с патриархом длился долго, уже часы-кукушка три раза принимались за отсчёт времени. Боярский сын Лукашов, взявший на себя обязанности сторожевого пса при боярине, толкнул Зосиму в спину кулачищем:
– Ты бы ухи не вострил. Сказано: с глазу на глаз.
Шацкий отошёл. Иные свитские оглядывались на него тревожно.
Вечером он сам отыскал Шакловитого. Тот прятался в доме думского дворянина Персиянова, а на ночь уходил в стрелецкую слободу, в дом выборного стрельца Кузьмы Чёрмного. В хоромах Персиянова сновал народ разного вида: купцы, выборные от стрелецких полков, дети боярские в кольчугах поверх парадных кафтанов. Мелькнуло бледное лисье личико Ивана Михайловича Милославского. И этот тут, хотя по Москве катился слух, что занедужил, в пору собороваться. Шакловитый спорил со стрелецким подполковником Иваном Озеровым. Увидев Зосиму, оставил собеседника:
– Ты чего?
– Ой плетёт сети Артамон Сергеич. Ноне командиров солдатских полков посетил. Я вот тут на бумажке всех записал.
Шакловитый прочитал бумагу, спрятал в карман:
– Ладно. Потом сочтёмся. Авось не успеет. Ты вот что. Пятнадцатого с утра начнётся смута. Стрельцы пойдут в Кремль. Потребуют царя и царицу. Старый волк выйдет к ним. Стой рядом. Я буду в толпе. Как скажу – толкни его в спину прямо на бердыши.
– Что ты скажешь? Все услышат.
– Не скажу – кивну. Твоё дело стоять рядом с волком. Не будет его – конец Петькиному царству.
– А коли…
– А коли – все будем ввечеру на правеже. Дорожки-то назад все отрезаны.
Сбылось, как пророчил Фёдор Лявонтьевич. Пятнадцатого поутру началось такое, что и смутой не назовёшь. Толпы стрельцов и бездельного люда ворвались в Кремль. Смутьяны сновали меж ними, подталкивая к решительным действиям. Всё чуть не сорвал Артамон Сергеич. Сойдя вниз с крыльца, окружённый орущими глотками, тянущимися к нему оружными руками, говорил спокойно и тихо. Заворожённая толпа начала стихать, и Матвеев уверенно вернулся на крыльцо. Стоя сзади него, Шацкий видел снующих меж людьми Кузьку Чёрмного, Оброську Петрова, Бориску Одинцова. Они кучковали недовольных, оставляя после себя клокочущие яростью людские водовороты. Вот у самого крыльца мелькнуло лицо Фёдора Лявонтьевича. Видно было, что недоволен он ходом событий. Подсобил ему человек из противоположного лагеря, князь Михаил Долгорукий. Ворвавшись в толпу, стал он кричать вещи непотребные в адрес бунтующих, и приуспокоившиеся уже стрельцы заворчали вновь, затухавший было огонь сполыхнул заново, и ретивого князюшку в момент изрубили в клочья. А тут сзади, из Грановитой палаты, к стоящим на крыльце выскочили несколько стрельцов и, как охотничьи псы на медведя, насели на плечи Матвеева. Старик был ещё могуч и яростно сопротивлялся, отшвыривая обидчиков. Его тянули к краю крыльца, на выставленные снизу копья и бердыши, он упирался, кричал что-то суровое, по красному натужному лицу его ползла горькая слеза. Вот уже самая малость до края крыльца, вот уже жёлтый сафьяновый сапог Матвеева скользит без опоры. Плачущий Пётр хватает старика за полу кафтана, и один из стрельцов, как щенка, отшвыривает мальчишку.
Стрельцы слабели. Подмоги снизу не было, на ступенях стояли царица и князь Черкасский, любимый и уважаемый в стрелецких полках. Матвеев на самом краю утвердился ногою и ломил нападавших к выставленным копьям. Снизу яростно кричал Шакловитый, Шацкий чувствовал, что это к нему. Он был рядом с Матвеевым, опорная нога старика недоступна копьям и бердышам снизу, а тут на подмогу Матвееву и царице спешил патриарх с иереями.
– Ну? – Это кричал снизу Шакловитый. – Давай, чего же ты?
Шацкий стоял рядом с неколебимой ногой Матвеева. Он понимал, что сделанное им в течение всей предыдущей жизни ещё давало надежду на спасение, но то, что он мог и должен был сделать сейчас, окончательно переводило его в стан тех, кто рано или поздно предстанет перед палачом. Неправота вершившегося была ему ясна изначально, и тут надо было выбирать. И он изо всех сил ударил сбоку по тяжёлой слоновьей ноге Матвеева. Старик дрогнул, наклонился и тяжело стал валиться вниз, на бердыши.
В несколько секунд всё было кончено.
Потом началась расправа, жертвами которой стали многие из тех, на кого рассчитывали Нарышкины. Кто мог стать опорой подрастающего Петра. Долгорукие, Салтыковы, Ромодановские, Языковы и много иных, родом поплоше. Ивана Кирилловича Нарышкина, наиболее ненавистного стрельцам и Милославским, жестоко пытали в Константиновском застенке, надеясь выпытать что-либо. Не повезло. Щёголь и фат, Нарышкин в эту трагичную минуту своей жизни оказался истинным героем, не выдав никого. Деда царя Петра, Кирилла Полуектовича Нарышкина, постригли монахом в Белозёрский монастырь.
После казней пошли ссылки. Десятки сторонников Нарышкиных и Петра были отправлены из столицы. Вскоре оказалось возможным реальную власть передать царевне Софье в ранге правительницы. Стрельцами стал командовать князь Хованский, в простонародье известный как Тараруй, за привычку быстро и невнятно говорить. Надзирателем при нём стал выборный Воробина полка Алексей Юдин.
Шакловитый не получил ничего. Обиженный, уехал в Земляной город к Обросиму Петрову и три дня пил по-чёрному, сидя за столом в нательной рубахе, грязно ругался и гнал от себя всех, кто кидался с утешениями. Шацкий заперся у себя в хоромах и беспрерывно прикидывал, как жить дальше.
Устоялось. Тарарую снесли голову при первом же поводе, и Шакловитый получил в ведение долгожданный Стрелецкий приказ. Посольские и иные дела стал ведать князь Василь Василич Голицын, который оказался в аманатах у царевны Софьи. Жизнь наладилась, и Шацкий получил многое за знаменитую подножку Матвееву.
В первый крымский поход Шацкий пошёл соглядатаем от Шакловитого. Эту его роль знали все, и потому большую часть времени Зосима проводил в ставке гетмана Самойловича, где накрепко сдружился с генеральным есаулом Иваном Степановичем Мазепою. Много было переговорено, много выпито, и, когда Самойлович прямо в походе был заменён Мазепою, именно Шацкий, по завершении дела, доставил в шатёр Голицына мазепинские поминки: десять тысяч золотых рублёв.
Новый гетман сразу же повёл себя активно. На очередной встрече с собутыльником он выложил молча на стол знакомый перстенёк:
– Отныне всё, что без меня говорено в шатре Голицына, доноси немедля. А то гляди!
Ох, крепкою верёвкою вязали слабую Русь иезуиты. Казалось Шацкому, что куда ни кинь, везде их люди. Стал осторожен втрое против прежнего. При разговорах за бражным столом прикидывался пьяным и норовил быстрее уйти. Когда не удавалось, начинал громко всхрапывать, и его выносили из шатра. Так-то лучше, целее голова будет.
По возвращении из бесславного похода Шакловитый позвал его к себе. Долго расспрашивал про все подробности, про голицынские штучки, потом сказал:
– Завтра у царевны грамотку возьму. Поедешь в Бела Город. Там ныне немало разбойных дел. Верши суд и расправу, одначе главное гляди иное: второй поход неминуем. Туда прямуют наши друзья. Коль не будет Ваське виктории, победы, то есть, плохи царевнины дела. Петька-пащенок из конюхов да дворовых два полка сверстал. Иностранные офицеры военному делу учат. С победой Васька придёт – раздавим потешных с их цезарем как муху. Коли же бесславная ретирада будет – беда нашим головушкам. Нашим друзьям, что прибудут к тебе, объясни всё по порядку: нехай через турку укоротят крымского хана. Они турку кормят и припасы дают. Нехай Голицын по Крыму погуляет, пару городов пожгёт, полон вернёт захваченный. Нам боле не надобно, и быть у нас с туркой и ханом вековечная дружба. Так и скажи. А к тебе в Бела Город важная персона прямует. За жизнь её головой отвечаешь. Сам до Москвы проводишь.
Уезжал из Москвы с радостью. Душно стало в белокаменной. Стрельцы разных полков дрались на базаре. Развелось нищих и калек первого похода. У храмов безобразно трясли культями, лаяли военных вождей, особо доставалось Василь Василичу Голицыну. Царевна сидела в Кремле, ругала ближних, порола собственноручно сенных девок и дела государственные полностью возложила на князюшку. А тот вдруг взвивался капризом и мчался в свою деревню вместе с колдуном Васькой Силиным. Там они кликали духи Македонского, Цезаря, Аттилы, искали у них совета про нынешние дела. На Москве смеялись откровенно и злобно, кой-где кукольники базарные даже Голицына срамно копировали. По ходу деяния кукольного князь терял штаны, и пристава с десятскими потом часами шныряли в поисках охальников.
Друга и помощника своего последних лет Кузьку Жигайло послал в Бела Город готовить тамошние хоромы. Когда приехал – всё оказалось справным. Вот уже десяток дней глядит вокруг. Воевода не приехал. Ждёт, пока он, Шацкий, сам к нему пожалует. Ничего, подожди, у нас грамотка царевнина за образами. То-то глаза на лоб полезут, когда зачтёт.
Вот и солнышко показалось. Сразу мир ожил, зазвенел утренними звуками. Будто ждал сего момента. Ещё раз глянул в зеркало: бороду пора стричь, вона как волосья, будто наперегонки, полезли.
В передней горнице сел на лавку, вытянул ноги. Надо бы лакея кликнуть, чтоб одеться помог, да уж больно хотелось протянуть ещё на некое время сии сладостные утренние минуты. Здешняя жизнь спокойней московской, ровней как-то. Зная про царевнину грамотку, понимаешь себя за персону, не за Зосимку, а за подьячего Разбойного приказа при важнецком поручении приставленного. Вот он скоро оглядится, и тогда знай наших.
Скрипнула дверь, и в горницу как-то бочком влез Жигайло. Нескладный, в обычной своей тёмной хламиде, чем-то похожей на монашескую рясу, с редкой бородёнкой клинышком, выдвинутой вперёд, махнул поклон и присел на край скамьи, посверкивая смышлёными глазками.
– Что принёс?
– Известия изрядные, – заскрипел Жигайло. – Аникей Трифонов восемнадцать возов товара пригнал из немцы. Семь лабазов битком набил.
– Жирно. Что привёз?
– Товар ходкий. Ружья нового боя, кольчуги, сукна, мальвазию потом, – ярыга облизнул плотоядные губы. – Сказывают, для бабьей утехи много кой-чего, но такого сам не видел.
– Кто такой Трифонов?
– Купчина заможный. Домок в слободе с двором и анбарами. Семь лабазов на базаре. Жёнка прошлым летом преставилась, а сынок в гультяях ходит.
– В бегах, что ль?
– Да не. Тут, в городе. Детина могутный, на кулачки ходит, по вдовкам шастает, от дела отцовского, как может, лытает. Два месяца тому Аникей и согнал сыночка со двора.
– Что, может, умом слабоват? Может, отцовской науки не в силах постичь?
– Не, умом горазд. Гультяй, одним словом. К весёлой жизни клонится. Отцовских трудов чурается.
– Сам-то Аникей могутный ли?
– Куда там… Вернулся из немцы хворый. Зараз лежить. Лекарей кликали.
– Так-так… А товары кто пользует?
– Так прикащики. Уже выставились. С десяток мушкетов казачки нижние купили. И припас пороховой.
– Бойко торгуют. Ещё день не начинался.
– Так базар с петухами починается. А бойко торгуют потому, что мушкеты важнецкия. – Жигайло искал глаза Шацкого своим блудливым взглядом. – Я вот соображаю… – и запустил длинную многозначительную паузу.
– Ладно. Что ишо?
– Персиянин тута. На базаре стренулись.
– Сказал что?
– Не, мне ничего не сказал. Он тута, на дворе.
– С тобой шёл? Да я тебе…
– Не, хозяин. Я пошёл, гляжу, он следом. А возы на Пашку-черкеса оставил.
– Что привёз?
– Безделицу. Шкуры бараньи выделанные. Два воза. Кумекаю, не для торговли явился.
– Это уже не твоего ума дело. Зови персиянина.
– Да ты бы порты надел.
– Зови, сказал. Ишь, волю взял наравне с хозяином. Я вот тебя на съезжую.
Жигайло задом вытеснился за дверь, до последнего момента не отпуская глазами хозяйского взгляда. Понимал, подлец, с полуслова. Много знал, и давно бы его в сторону, да кто такого заменит. Умел всё: и челобитную со слезой состряпать, и в надзор за кем, и прикупить что выгоднее. А слухи собирать да сведения какие – лучшего не ищи. Из земли выкопает. Платил ему не жалея, потому как другого такого не найти. Десяток расторопных людишек заменял ярыга.
Вошёл персиянин. Полосатый халат, чалма. На левой руке лёгкая плётка. Будто стегать собрался. Чуть склонился в поклоне, а на губах мимолётная усмешка. Впервой встречает его Зосима в исподнем. Ничто. Пускай терпит. Отношения у них давние и тесные.
– Здравствуй, бачка.
– Здравствуй, Рефат-ака.
– Как здоров, бачка?
– Пока что солнышку рад.
– Проживёшь много, – серьёзно сказал Рефат-ака.
– Это почему же? – поинтересовался Шацкий.
– Умный шибко. Голова прямо для султанского дивана.
– Ладно-ладно. С чем пришёл?
Рука Рефат-аки скользнула в складки халата и вынырнула с тяжёлым полотняным мешочком. Сделав два-три лёгких шага, положил мешочек на стол перед Зосимой.
– Садись, – сказал Шацкий, легонько, мизинцем, начиная двигать мешочек к себе, чтобы ощутить его тяжесть. – Дело какое, спрашиваю?
– Дело простое. Великий хан шлёт тебе свой привет и хочет знать: пойдёт ли на будущую весну на прогулку в тёплые края великий воитель князь Голицын? – И опять насмешливая улыбочка. Как же, в прошлую прогулку татары выжгли всю траву до Перекопа, и стотысячное войско с позором ушло обратно, потеряв людей и коней.
– Пойдёт-пойдёт. Тут уж можешь не сумлеваться. Как же на вас, нехристей, не идти, коли вы нам жизни не даёте.
– Правильно говоришь, бачка. Если воин стоит – он жиреет, дряхлеет. Настоящий воин должен и спать на коне. За твой ответ великий хан тебе свою приязнь выражает. Но если ты ошибся или сказал неправду – берегись.
– Не грози мне. Я подьячий Разбойного приказа. Чин мой блюди.
– Твой чин хану дорого стоит. Правду сказал – тебе в Крыму всегда улус будет, много женщин с талией, как у гурий. Денег много. Служи хану верно.
– Не болтай! – Шацкий оглянулся на дверь в соседнюю горницу, где могла быть жена. Хоть и дура, но такое поймёт.
Рефат-ака качнул головой. Оба несколько секунд сторожко прислушивались, потом татарин неслышно шагнул к двери и тихо прикрыл её. Вернулся на место и подсел к столу. Мешочка уже не было.
– Теперь ещё одно дело, бачка. Купец Трифонов привёз шестьсот мушкетов нового боя. Мне нужно двести штук.
– Покупай… Сказывают, на базаре они в продаже.
– Мне не продадут. Там пристава. Потом, сколько я куплю? Десять, двадцать? Мне двести нужно. Большой бакшиш будет. Не сомневайся.
– Чего сомневаться-то. Уже давно дела имею с тобой. Доселе не обманывал. Только дельце-то труднейшее. Вот что, ваших тут поблизости наверняка немало… Так?
– Улус Нураддин-салтана кочует невдалеке, у речки Самары.
– Так вот. По моему сигналу сам ли или твой Нураддин пусть пишут письмо купцу Трифонову, будто он ваш пересыл. Да поподробнее. Все его заслуги опишите. И вопросиков накидайте разных. Пошлите своего, чтоб был он у города на четвёртый день. Шёл чтобы через Васькин брод на Весёлке. Ночью обязательно. Посыльный чтоб был натуральный ордынец. Ничего, одного потеряете. Ты меня понял?
– Шайтан, – восхищённо пробормотал татарин, – ты возьмёшь его с письмом, потом Трифонова в железа, склады под арест…
– И двести мушкетов твои.
– Двести пятьдесят – ты хотел сказать. Мы пошлём настоящего аскера. Его жизнь дорого стоит.
– Не торгуйся, – неожиданно жёстко сказал Шацкий, – я не вспоминаю, сколько сотен ратников московских я вам передал и сколь стоят их жизни. Получишь двести мушкетов, остальное – не твоего ума дело.
Железо было в голосе Зосимы, и татарин молча склонил голову.
– Иди, – сказал Шацкий, и жест его был почти царским, – сигнал дам через Пашку-черкеса. И помни: на четвёртый день.
Отпустив татарина, прислонился к стене, закрыл глаза. С возрастом появилась некая жалость к будущим жертвам. Вот и теперь он только что обрёк на смерть, и мучительную смерть, человека, вся вина которого состояла в том, что трудами великими доставил он себе возможность заработать большие деньги. Но эти деньги нужны были ему, Зосиме Шацкому, и он не остановится, как не останавливался никогда.
Мирный голос жены кликал его для утренней трапезы.
Глава 2
На базар Никита Трифонов заявился с первыми лучами солнца. Немалого роста, не по годам осанистый, ручищи торчат из ставших уже короткими рукавов полотняной рубахи, порты из полосатого персидского гардара, когда-то роскошные, а ныне поизносившиеся до крайности, на ногах окоры – сапожки с короткими голенищами из козловой кожи, рубаха стянута кручёным ремешком, какие искусно плетут ордынцы. Видать, ночевал где-то на сеновале, потому как в молодой кудреватой светлой бородке застряла случайная соломинка. С самого началу прошёлся по трапезным рядам, охотно принимая угощение:
– Молочко твоё, Тихоновна, самое скусное, – говорил он разговорчивой бабе со Стрелецкой слободы, опорожняя один из кувшинов, – ежели б знал – завсегда бы к тебе снедать ходил.
– А и ходи, касатик. Давеча к Ниловне прислонился. Я и гляжу…
– Калачи у ней хороши.
– Ишь, на калачи потянуло… Молочко надобно с хлебцом чёрненьким хлебать. Калачи на праздник, на светлый день… Разбаловались чадушки.
– Оно есть, – снисходительно согласился Никита, – так ведь молодые жа. Охота погулеванить, что послаще взять. Это опосля на сухари да квас. Благодарствую за молочко, Тихоновна. Тебе бы бобыля. Да полного кошеля. А, небось, не отказалась бы?
– Охальник, – засмущалась баба, и в глазах её полыхнула тяжкая вдовья тоска: каково в тридцать лет, да с двумя детками, куковать? Глянула на могутные никиткины плечи, вздохнула: – про кошель не знаю, с нашей торговлей не заимеешь, а вот бобыля взяла б. Нашёл бы, что ли? Чтоб с руками, чтоб хозяйство понимал.
– Поищу, – серьёзно пообещал Никита и двинулся дальше.
С каждой минутой базар всё больше и больше многолюдел. От лабазов к рядам трудники тянули на себе увесистые тачки с товаром. Громко кричал, зазывая к себе, торговец квасом:
– Квас хмельной, приходи больной, уйдёшь сильной… навались люд православный.
Носатый армянец монотонно твердил:
– Нож хорош, нож пригож, режь что хошь…
Группа персиянов наперебой предлагала ткани. Один разматывал штуку, другой тряс материей перед лицами прохожих, стараясь, чтобы лучи солнца высветили матовый отлив, третий, став в стороне, загораживал дорогу идущим:
– Гляди пожалста… Шах носит… Коняз носит… Хан носит… Ты носишь – все ханум твой.
– Ишь, волнуется, – два мужичка оглядываются на торговцев. Товар пока что никто не покупает.
– Заволнуешься, рассудительно отметил другой. – У них по магометанскому чину по четыре жёнки полагается. У их всех кормить да пользовать полагается.
– Да ну?
– Вот тебе и «да ну».
– Хват, – оглядывается мужик на персиянина – тут с одной не совладаешь, а он – с четырьмя. И квёлый такой, не подумаешь.
– Так они ж вседень мясцо жрут.
– И поста не блюдуть?
– Сказано ж тебе – магометане. Нехристи.
Никиту знают все. Вот из кожевенного ряда сумрачный мужик окликнул:
– Почто на токовишше завчера не был? Митька Сыч наших побил знатно. Жилая два дни гулеванит.
– А нехай гулеванют. Мне-то что?
– Так наших жа били.
– И ладно.
– Нынче пойдёшь?
– Не ведаю.
– Идолы, – вмешалась бабушка Косулиха – нынче праздник великий, Воздвижение честного и животворящего Креста Господня, а вы…
– Слыхал, Игнат, – Никита перекрестился, – баушка дело говорит. Не пойду на токовище. Дела есть.
У одного из лабазов дорогу Никите загородил приказчик Христоня:
– Ты чего жа творишь, а? Отец занедужил, того и гляди отойдёт, а ты, аспид, по базарам шлендаешь?
– Не кричи, дядя Ермош, я ж не виноват, что он меня вожжами поперёк спины при всем базаре.
– Гордай какой, – возмутился Христоня, – отец он тебе, не сосед. Право имеет голову с тебя снять. Отцовская рука и на спине легка.
– При народе бил. Я что, малец? У меня вон самого борода растёть. Смеются.
– Иди к родителю, в ноги пади. Плох он.
– Не скажи. Вечор в баню ходил.
– Знаешь уже.
– Сам видел.
– Чего ж не зашёл? Все время спрашивает: где Никитка? Что я скажу? Что у солдатки Катьки ночует? Что в грехе обретается? Что отцово имя честное трепает по слободе?
– Вот и всё ты ведаешь, – умиротворённо сказал Никита. – Чем батюшка-то занемог?
– Ноги пухнуть. Задыхается. Давеча немец-лекарь был, кровь пускал. Ныне полегчало вроде, затих, а то ведь всю ноченьку-то стонал. Моя Неонила до утра обихаживала. Зайди, Никитушка, зайди… Грех на душу берёшь. Не отмолишься. Хошь, зараз с тобой вместе пойдём? Что-то сказать тебе хочет. А ну как не застанешь?
В душе Никиты шла непростая борьба. После смерти матери отец, и раньше не отличавшийся душевностью, замкнулся, ещё более посуровел. К сыну стал не то чтобы равнодушнее, нет, у Никиты было всё, о чём мог мечтать любой из его ровесников. Не было единения в беде, каждый сам по себе справлялся с семейной напастью. Грешил Никита на Ульяну, ставшую после смерти матери почти хозяйкой в доме. Девка-перестарок, из сенных ставшая ключницей, без венца разделила с отцом материну постель. И это было самым больным, самым непереносимым для него в отцовском доме. Поначалу крепился, терпел, бывало, и слезу пускал в своей комнате, запершись, чтоб никто не заметил позорной для мужика слабости. Потом, когда сам увидел на Ульяне любимый материнский шлафрок, когда стали появляться и другие её вещи, нарочито вызвал на базаре отцовский гнев, не смолчал, как обычно, ответил, и тогда всё стало на острие ножа: либо отцу терять лицо перед людьми, либо…
Он ушёл из дома, и про это долго судачили в городе. Были даже споры: на чём сойдутся Трифоновы? Иные говорили, что Никитка по холодам вернётся к отцовской тёплой печке, им перечили те, кто считал, что не миновать младшему Трифонову подавать за Дон, казаковать, парень могутный, рукой: сам себе дорогу пробьёт. Были и такие, кто считал, что не миновать ему возвернуться в город, только если сходит в Москву, кинется в ноги к боярину Голицыну и тот, питая уважение к старшему Трифонову, примирит родных людей. И таких было немало, потому что все знали, что в первую крымскую войну Аникей на свой кошт закупил для войска полторы тысячи пудов овса и за это получил от Голицына охранную грамоту. Только считанные, в том числе верный Христонин, знали истинную причину размолвки, знали, но исправить что-нибудь было невозможно. Характер трифоновский знали хорошо, и на робкие замечания приказчика про неладные взаимоотношения с Ульяной Аникей багровел, бычился, кулачищи ладил на столе, и приказчик затихал, зная, что и рукоприкладство сразу же воспоследует. Только однажды, после обычной вспышки, Аникей сказал верному соратнику:
– Ты, Ермолай, на том кончай. Чтоб Ульяну больше не трогал. Грехи свои мне самому замаливать, не тебе. Разберусь. Да только скажу тебе, не всё так просто. Не всё.
Аникей хворал часто. После смерти жены будто подкосило его. Однако каждый раз вставал, затевал вновь поездку, ладил обоз. В этот раз, уже с товаром, отбиваясь от недобрых людей под Варшавой, получил тяжкий удар дубиной в грудь. Поначалу ничто, поболело и прошло, а вот возвернулся и слёг. В груди пекло, кровью начал харкать, ноги опухли. Христонин жалел, что в этот раз, единственный, отпустил хозяина одного, остался на торговле. Надо было самому ехать, чтоб приглядеть, чтоб обиходить, когда беда случилась. Ребята говорили, что после драки под Варшавой хозяин был как все: и к телегам подпрягался по грязи, и ночами дежурил, и ел как все, сухомятину. Мало кто видел, что обычная повозочная жизнь после этого случая ему уже в тяжесть, да только разве Трифонов кому пожалуется?
Так и катилось само по себе, и каждый из участников всего этого действа откладывал на потом трудные разъяснения, да вот только хворь старшего Трифонова всё ускорила. Для Никиты всё было ясно: по осени двинет в Москву, там царский сынок Пётр Алексеевич потешных собрал. Говорят, таких горемык, как он, у которых ни кола ни двора. Одёжу даёт, по рублю на месяц, опять же кормежка – дело тоже не последнее. Готовясь к делу, пристал к будочному солдату Евстигнею и украдкой вместе ходили в дальние яры на обучение. Евстигней не жалел сил, прошёл с Никитой приёмы плац-парадные, стрельбу из мушкета, теперь нешуточно рубились палашами. После упражнений старый солдат жаловался, что напарник все руки ему поотсушил, силища бычья и, не глядя что телом справен, поворотлив чрезмерно. Предрекал службу успешную, хотя и желал ему капрала не из немцев, тот поломает, душу надорвёт, а терпения у мальца намного ли достанет? Сорвется, и тогда конец. Запорют.
– Ой, Никитка, кулак держи, ой не пускай в ход без дела. В полку не тот прав, кто за правду, а тот, у которого палка длиннее.
Никита мотал на ус, однако про себя мыслил иное: да коль к делу прислонится – любого учителя почитать станет, всё вытерпит. Ну даст в зубы, что ж, впервой? Не такое терпливал. Хотя оно тоже не по закону: ты мне можешь, а почему я тебе вдругорядь не могу? От бати с трудом тычки сносил, так то ж батя. А коль чужой мужик начнёт кулак в харю совать… Ну да эти дела откладывал на потом: поглядим что к чему, тогда и разберёмся.
Думал обо всём этом, слушая дядю Ермолая, последними словами укорявшего его за сыновью бессовестность, и в самой середине тирады нежданно вставил долгожданное:
– Да будя тебе, вечор приду. Только чтоб без мордобоя, а то я батю знаю.
– Да что ты, Никитушка, тихий он ноне… Лежит молча, и слеза из глаза по щеке эдак катится. Немощный он.
Представить отца таким, как описал приказчик, для Никиты было напрочь невозможно. Знал его другим: грозным, одной рукой подковы гнущим. Видал в ранних детских годах, как отец на спор во дворе при конюхах и маме, что из окна глядела, смеясь, влезал под брюхо кобылы и поднимал её на спине.
И тогда все ржали, глядя, как испуганное животное молотит воздух ногами. Думал, что вечно такому быть.
– Может, зараз пойдём?
– Не. Дела есть. Сказал: вечор приду.
– Гляди, Никитушка. А я зараз в хоромы. Скажу, что будешь. Не оммани, слышь? Святое дело.
Никита кивнул и пошёл дальше. Про занятость слукавил: какие могут быть у него дела? В трактир сходить, там всегда его доброхоты мёдом угостят, да не сручно к хворому отцу прийти во хмелю. Сам отец сроду такой гадости в рот не брал. А он, Никитка, уже опоганился неоднократно. После кулачек на руках его пёрли до трактира, поили до изумления. После этого, бывало, просыпался невесть где, неведомо в чьей постели, неизвестно кого любил всю ночь, какие слова говорил…
Панкратий, городовой стрелец, продавал дёжки. С десяток их лежало на стареньком рядне. Подошёл к нему:
– Ну что, покупают?
– Дождёшьси, – стрелец ощерил коричневые зубы в насмешливой улыбке, – за енти дёжки не возьмёшь и вошки. Бабу свою уговаривал: иди торгуй, так нет, капусту рубить вызвалась. Аккурат, когда продавать надо. Купил бы, что ли? Две деньги всего. Не дёжка, а душевная радость. Замесил тесто – шашнадцать караваев зараз выходит. Во. Сам мерял.
– И что – никого нет?
– Подходил один, крутил-вертел, ушёл ни с чем. Других не было.
– А ну дай.
Зашёл за стол, накинул фартук, рукава засучил:
– Эй, налетай кто хошь, а то ведь и мимо пройдёшь, а мимо пройдёшь – пустым уйдёшь.
Голосина у Никиты такой, что у дальних рядов обернулись. Завидев всем известного кулачника, стали сходиться:
– Ты что, Никит, в бочары пошёл?
– Пошёл и с товаром пришёл. Товара тьма, вот такая кутерьма. Налетай, раскупай.
Первый приценщик нехотя взял дёжку. Крутанул туды-сюды:
– Сам ладил, Никит?
– Сам.
– Гляди ты, срукоделил. Сколько берёшь?
– Три деньги.
– Сдурел. Да за такую тесовину…
– Тогда проходи, не засти.
– Две дам, и то, потому что дюже интересно, что ты сделал. Руки-то у тебя только в кулаки растуть.
– Бери за две, пока я добрый.
Дёжки пошли мигом. Рядом колыхался разговор:
– Ишь, парень за ум ухватился. Дёжки, конечно, хреновые, но Никитку поддержать надобно, парень-то добрый.
– А чего ему злым быть с такими кулачищами? Давеча на токовище Сёмку медника так приласкал, у того из ух кровища пошла.
– Поделом. В запрошлый раз он Тихоню без трёх зубов оставил.
Когда унесли последнюю дёжку, Панкратий, пересчитывая в заскорузлой ладони выручку, в изумлении мотал лохматой головой:
– Во хват… Кому сказать, не поверят. Зараз леденцов детишкам куплю, водочки в трактире приму.
– Гляди, жёнке шось принеси.
– Принесу. Ей заразе фигу бы с маком. Небось не капусту пластает, а через тын с соседкой лается. Вот чёрт дёрнул по молодости взять из жиловских. Хрен переговоришь. Может, со мной в трактир? Угощу по такому случаю.
– Не. Только мёд принимаю.
– Мёдом угощу.
– Не.
Распрощались быстренько. Панкратий, подхватив под руку рядно, двинул к трактиру. А Никита пошёл к лабазу отцовскому, глянуть, как мушкеты идут.
Шли исправно. Только заметил парень, что покупатели как бы по кругу идут. Купит пару штук, отнесёт куда-то и снова к лабазу, где лениво наблюдали за торговлей пристав и двое десятских. Пошёл за одним из купивших и увидал, что вся братия сносит мушкеты на один и тот же воз. Рядом стоял персиянин и что-то говорил Пашке-черкесу. Немой слухал и качал головой. Никита вернулся к лабазу, отозвал знакомого десятского:
– Мушкеты-то в один воз идуть. Как бы не для татаровей. Пригляди. Там у воза персиянин в халате топчется, а с ним Пашка-черкес. А покупают забулдыги, и им Пашка деньгу выделяить.
– Во как, – десятский изумился и пошёл к приставу. Потом все втроём двинулись к телеге. Однако персиянина уже не было. Кинулись искать, закрутили руки Пашке. Тот мычал, казал вместо языка безобразный обрубок. Телегу распаковали и начали считать мушкеты. Потом кинулись ловить подставных забулдыг.
Никита не стал дожидаться конца этой истории и пошёл с базара. Солнце трудолюбиво карабкалось к зениту.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































