Текст книги "Порубежники"
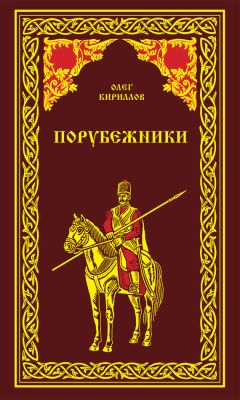
Автор книги: Олег Кириллов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Секунда бежала за секундою, а оба бойца стояли друг против друга. Молчали сотни людей. Князь нервно кашлянул.
Митрей что-то сказал, и токовище взорвалось восторженными криками. Два или три свиста рванулись с жиловской стороны, но потонули в общем шуме. Все глядели, как к бойцам пробился сквозь толпу лотошник, как налил из заплечной бутыли мёду в две чашки, как противники приникли к ним под одобрительный хохот зрителей. Голицын повернул к Мучницкому растроганное лицо:
– Вот оно, русское естество, Антон. Вот оно, главное, что мы, вожди, никогда не пользуем. Бескрайнее великодушие наше, оно и спасение, и погубление делу русскому. Сколь случалось много, что не добиваем врага, великодушно жизнь и свободу оному дарим и тут же в спину удар кинжалом получаем. Тут видим мы с тобой великодушие и широту сердешную с двух сторон, и сердцу то мило и приятно. Кликни сюда, ко мне, обоих.
Несколько стремянных помчались к токовищу. Толпа расступилась, старший что-то сказал супротивникам, и они медленно пошли к горушке. Толпа плеснулась следом и накатилась гораздо ранее, чем поспели бойцы. Она обтекла отряд, тяжело и выжидающе задышала рядом.
Подошли Никита с Митрием. Дышали оба так, будто в гору на спине по три мешка несли. Голицын молча глядел на обоих. Потом сказал Никите:
– А ты совсем младень. Издали виделось другое. Телом могуч. Ну да ладно. Беду твою ведаю. Батюшку твово знавал. Скорблю по кончине его. Такие, как он, купечество русское в край земли вели. Того нам нынче недостаёт.
В толпе кто-то крикнул:
– Вора Зосиму на правёж!
Толпа взвыла радостно.
Князь замахал рукой:
– То есть дело государей великих, люди. Москва всё видит, Москва всё ладит. Ныне на вас, порубежников, надежда великая. Духом вы крепки, воины справные. Невже не пора ордынскую силу, нашему делу противную, одолеть раз и навсегда? Невже ждать нам, когда опять из Дикого поля неволя детям и старикам нашим придёт?
– На сло-о-ом! – дружно загремела толпа.
– Скоро пойдём заново в степь, – продолжал князь, – великой оружной силой пойдём. Достанем ордынца в степи да за горами. То есть ныне главный государский интерес.
Когда крики смолкли, Митрей вдруг спросил в полной тишине:
– Дом ли, рухлядь, товары возвращены будут Трифоновым?
Голицын вновь нахмурился:
– Сие дело противозаконное, и ходу ему не будет. Тому моё слово.
– Любо! Ой как любо!
Мучицкий негромко сказал князю:
– Теперь за тебя, князюшка, в огонь и воду пойдут.
– Так ли? – Голицын кривовато усмехнулся. – Воля толпы сиюминутна и непостоянна. Сие ещё кесари римские на себе испытали. Поехали!
Резко развернув коня, он рванул с места. Вздымая пыль, за ним порысил весь отряд.
Когда голицынские укатили, Митрей сказал Никите:
– При старосте князь слово дал. Антон таперича не выдаст. Дом твой, Никитка.
– А он и был мой. Не сходил я с него.
– А отобрали б?
– Подпалил бы своёручно.
– Гляди?! – удивился Сычёв.
Народ расходился. Потоптавшись, заторопился и Митрей:
– Пойду… Батяня ныне муки привезёт. Грузить надобно.
– Может, подсобить?
– Иди-иди… Силы собирай. Скоро опять схлестнёмся.
– Ну, бывай.
– К Катьке не ходи. Ныне там крестный ход.
– Ладно.
Разошлись, тихонько стукнув друг друга по плечам. Митрей, хоть и старше Никиты на три года, всё ж свой. Не пузырится.
Поднявшись на гору, Никита заметил подводу, лениво катившую к плацу. Закутавшись в кафтан, наброшенный на плечи, сидел в ней московский подьячий. По сторонам – два десятских. Третий погонял кобылу. Рядом с подводой вышагивал пристав. Лицо его было напряжённым и озабоченным. Понимал, видать, куда встрял.
Зосима по сторонам не глядел. Ребятня, углядев его на подводе, лихо посвистывала. Такое не скоро увидишь.
Телега проскрипела совсем рядом. На миг встретились глаза Никиты и Шацкого. Встретились и разошлись. Радости и торжества не было. Волки друг друга жрут только с великого голода. Ныне такого нету. Так что переводу волчьему поголовью не видать пока что.
Одно хорошо: он шёл в свой дом.
Глава 10
К ночи заслезил дождь. Откуда принесло серую облачную муть, неведомо. Солнце ушло за горизонт при чистом небе, потом чуток потеребил подсохшую осеннюю листву шальной ветерок, да недолго. Застрял в соснах Чёрного бора – и нет его, будто и не было. А малое время спустя задождило. Сразу луну будто смыло с неба; душная темнота навалилась на землю сверху, как упала. Забрехали с испугу собаки, будочники понесли первые фонари.
В эту самую пору к гостевым хоромам, где разместился московский гость, вышел человек. Подойдя к трём стремянным, дежурившим у ворот, что-то сказал негромко. Старший поклонился, пошёл впереди. У лестницы передал посетителя немцу-лакею:
– До князя…
Посетитель откинул с головы капюшон, развязал бечеву накидки. В ожидании присел на лавку в горнице, с любопытством разглядывая диковинные зеркала, золототканый ковёр на стене, аглицкие фонарики над окнами. Не раз, бывая в этом доме, дивился новому убранству, которого никогда не видел: ай да князь. Даже для двух-трёх ночей тянул убранство аж с Москвы. То-то обоз длиннёхонек, будто для целой армии, и охраняет тот обоз целый стрелецкий полк, да не просто полк, а стремянные, в минувшие царствования только с государем ходившие. Знать, правду бают, что Голицын уже и шапку мономахову примерял. Однако ноне он государство хранит, значит, ему и служить по правде.
Князь вошёл внезапно, быстрым решительным шагом. На нём был длинный персидский халат, лёгкие ичиги, расшитые северным звездистым узором. Длинные русые волосы спадали на высокий воротник, открывая широкий чистый лоб. Посетитель низко склонился:
– Здрав будь, Василь Василич!
– И ты будь здрав, Степаныч. Давно не виделись.
– С прошлой зимы, коли с обозом на Москву ходил.
– Помню-помню. Саблю тоурменскую, тобой даренную, ныне над постелью повесил.
– И я твою баньку помню, княже.
– Ладно, ладно. Банька – то пустое. Дело сделаешь – не то будет. Службу ценить приучен ещё отцом, царство ему небесное. Да ты садись на лавку-то. Разговор будет долгий.
– Пора бы, – сказал посетитель, в котором читатель наверняка узнал уже знакомую нам фигуру белгородского целовальника. – ныне зрю в здешних местах много полезного и интересного.
– Значит, правильно мы с тобой прикинули, что тут надо тайную заставу ставить? Река, купцы, ордынский интерес. Чуешь его?
– Ещё как чую. Завчера опять был тут сам Челеби-бей.
– И что?
– Нюхал. Пошёл укрепления глянул, к друзьям зашёл.
– В друзьях-то кто?
Степаныч усмехнулся:
– В друзьях-то у него люди именитые. Купец Бугаёв, староста площадных подьячих Васякин. Иные ещё.
– Иные-то кто?
– Иные-то сильные, батюшка, и молвить боязно. А ну как рассердишься?
– Дело государское справляем. Говори.
– Был Челеби-бей гостем у подьячего Шацкого. Долго был.
Голицын помрачнел. Заигрался Шакловитый. Пригрел змею. А ну как не только земли, да рухлядь, да товары заморские греют подьячего? С чего бы к московскому труднику ходил сам начальник ханской Тайной канцелярии? Не пахло бы тут изменой. Да что тут сделаешь, коль Шакловитый всю грязную работу вершит. Где иного найдёшь? К Софье зайдёт и скажет, что игры крутит через Шацкого с ханским двором. Что тогда возразишь?
– Как и прежде, купцом рядился? Челебей-то?
– А кем же ещё? Товары привозит. Шкуры одни да для бабской услады персиянские мази. Отсель же норовит увезти иное. Сто да семьдесят мушкетов нового боя, что купец Трифонов привёз из немцев, норовил умыкнуть. Остановили, слава Богу, да не всегда такое бывает.
– Ещё что?
– Мурад-Гирей крымский шесть пушек получил. Французы прислали. Бьют ядрами калёными. Стены рушить горазды.
– То не про нас. То поляков крушить. У нас стен каменных пока нету. Валом земляным да древом вечным обходимся. Вести из Бахчисарая давно ли?
– Дён десять как. Атаман Крюков эстафетой прислал.
– Каковы малороссы в деле? Нет ли измены?
– Крюков доносит: служат справно.
– Где ныне атаман?
– Приглядывает за Нураддин-салтаном, тот кочует с нукерами по Самаре-реке.
Много сил тратит Голицын, чтобы в орде пожар разжечь, отвлечь хана от украин российских. Сколь поминок через третьих людей послано ближнему человеку хана Ахмету-аге! При Нураддин-салтане имеется человек, болгарец родом, который постоянно внушает самолюбивому юноше крамольные мысли. Нураддину ханства не видать, четвёртый сын, вот и льют ему в душу горькие мысли. Придёт время, и из ростков недовольства и обиды вырастет ненависть. Раздоры в орде – Москве великая радость. Из Обояни написал Шакловитому письмо в ответ на пересылку Голицыну двух грамот, подкинутых в Кремль недовольными из служивых: «…А что от которого лица какое злословие, и то Богу вручаю: он-то может рассудить, какая в том наша правда. Мы чаяли, что те лица воздадут хвалу Господу Богу и нам милость… они б взяли себе в пример турского султана, который то учинил назад тому два года: одним летом переменил двух ханов, не разыскивая, по одному татарскому челобитью. Только тому был и рад, что они были у него в послушании и бунта никакого не учинили…»
В Стамбуле тож голова болит. Два месяца тому султан Магомет IV был свергнут собственным войском, и на его место возведён брат его Сулейман. Пока новый султан рубит головы своим подданным, взять бы крымские дела накрепко, обнадёжить хвастливого Нураддина, а тем временем послать нового малороссийского гетмана Мазепу разорять приднепровские городки. Для того в здешнем порубежье должно быть тихо и дружно, народ тут непокорный и характерный: кто ему по нраву – за тем и пойдёт. А куда пойдёт – тоже не сгадаешь. Может накрепко стоять на рубеже, а может и с донскими гультяями на Волгу качнуться, купцов потрошить. Порубежники, одним словом, привыкли жить под пулями да саблями и справедливость мерять силой.
Чего тут искать Шакловитому? Зачем зацепился за здешние места Шацкий? Поговорить бы с Фёдором начистоту, да ведь слукавит, не скажет. Силу великую взял после побития в Кремле Матвеева и иных крепких бояр царствования Алексея Михайловича. А ведь был подьячим в приказе Тайных дел, сидел на голубиных делах вместе с Сенькой Медведевым, ныне ставшим Сильвестром. Оно, конечно, с его характером разводить голубей для царской охоты – дело незавидное. Душа горела от неуёмства. Видать, мечтал о смуте, чтоб кинуться в неё с головой, в иные времена от подьяческого корма до силы нынешней расстояние непомерное. И с Медведевым тож. Не зря им двоим в мире тесновато, пришлось Медведеву кинуться в духовность, сан принять, чтоб под патриарший престол начать подкоп, – иное ему мало. Год за годом бьёт он патриарха, разворачивает супротив него и нетвёрдых в вере иереев, и малороссийских католиков, не брезгует и иезуитской подмогой. Труд еретический накропал, под названием «Манна». Настаивает на том, что пресуществление совершается при произнесении слов Христовых. Спор разгорелся нешуточный, единство церкви пошатнулось, ибо за Медведевым зрит патриарх весомое слово правительницы. Так желание сильных людей найти себе кормление пожирнее ведёт к оскудению государства, к лишению его силы природной. Сие ему, князю Голицыну, известно доподлинно. А сделать что – не может. Как отстранить от Софьиного крыла людей хоть и худородных, но деятельных, на коих нынешней власти твёрдое стояние? Кто ж, на суку сидючи, под собой рубит топором с размаху? Он, Голицын, не к бдению служивому склонен, а к философичному осмыслению бытия человекова, к измышлению сократовых мудростей и иных законов, для души успокоительных. Потому взял силу Шакловитый, потому не раз во хмелю предлагал:
– Ты, Вася, в дерьме копаться нам с Сенькой отдай. Не лезь в сие. Ты у нас, наподобие риторика древнего, мудрости исполнен. А мы уж сами…
Как управлялись братья-разбойники, Голицын знал доподлинно. От державы – в свой карман. У Кузьки Чермного в доме содом вселенский справляли. Баб голых по снегу в баню гоняли, заставляли им с Сенькой спины тереть. Боярские вотчины за непослушание на себя брали. Потому многие из фамилий древних ныне у Петра в Преображенском. То скорбно. Государству ущерб великий и урон неисчислимый. Ныне, ежли сосчитать, то двор кремлёвский едва ли крепче преображенского. Потому и ввязался он, Василий Голицын, после позорного первого крымского похода, в подготовку второго. Нету иного. Коль не будет верной крымской победы – жди набата, жди беспощадной стрелецкой расправы над кремлёвцами, осиротившими столько московских, и не только московских, дворов.
– Что бают в Бела Городе про Шацкого?
– Разное. Иные про то, что пересыл татарский, что затеял с купцом Трифоновым, чтоб новые мушкеты, из немцев Аникеем привезённые, ордынцам отдать. Иные на суд твой надёжу кладут.
– И много таких?
– А и не мало, князюшка. Хоть про то, что вора отправишь на дыбу, – сумлений много.
Голицын побагровел. Ждал от сына боярского Кречетова, ныне в облике целовальника в Бела Городе обретающегося, слов тяжких и обидных, да не таких. Иного оборвал бы, этого не мог. Шесть годов уже при нём несёт Кречетов службу тайную: бывал и в Кафе цирюльником, и в самом Стамбуле писцом у силистрийского паши, сколь жизнью своей рисковал – про то описать невозможно. Был из тех верных слуг государства, каких на пальцах одной руки перечесть возможно. Это ещё матвеевского гнезда птенец. Умел покойный боярин найти нужного человека, веру в него великую вдохнуть, на службу беспорочную державе направить. Два года тому откупили у купца Селина трактир, и сел там Кречетов. Любит деньгу сын боярский, и боялся князь, что может не устоять пред ордынским бакшишем, случись что. Потом утвердился, что боялся напрасно. Имел людей своих сын боярский в самых далёках, до Киева и Бахчисарая руки простёр, доставлял в Москву с казачьими станицами сведения важнейшие, был недреманным оком Голицына в порубежье. Деньгу свою вышибал жёстко и методично. Оплёл залогом половину города. Ещё Тишайший за заслуги жаловал его сельцом подмосковным. Два иных приобрёл уже в нынешние времена. Хоромы Кречетова видал князь в селе Бухалове, что под Рязанью. А и не бедные хоромы. В здешних местах, государственного дела ради, живёт скудно и тихо.
– Что Мазепа?
– Службу несёт исправно. Делу государственному привержен, хотя тяжестью булавы давит личных недругов усердно. И казну свою столь же усердно пополняет.
– То человеково. Слабость оная непреодолима.
Кречетов промолчал.
– Вот что. Ты про мушкеты трифоновские говорил. Числом сколько имеется?
– Продано донцам сорок три. Всего в остаче, ежли считать и возвернутые от Челеби-бея, – пять сотен семь.
– Завтра же скажи Баеву: пусть выкупит у купца всё. На каждый мушкет кладу по два ефимка и две деньги.
– Побойся Бога, князюшка, то для Трифоновых разор.
– На казну берём. Теми мушкетами сухаревский полк оружим. Со старыми пищалями не много навоюешь. У орды, сам говорил, пушки. А купец наторгует ещё. Видал я нынче Аникеева наследника. Глядит татем.
– А как ему глядеть? За службу верную отец что получил? От державы…
– То не от державы.
– Людям не докажешь.
– Не нам с тобой то доказывать.
Кречетов тяжко вздохнул:
– Народишко в тяготах. Бунтарские разговоры на базаре. Месяц назад сорок три парня с донцами на Волгу за зипунами пошли. Все тяглецы.
– Настигли?
– Куды там! Огневым боем огрызались. Стрельцы и вернулись. Кому охота под пули? Из них немало и сами пошли бы на Волгу, да за семьи опаска.
– Порадовал.
– Я к тому, князюшка, что за трифоновские дела надобно розыск учинить. Подьячий московский ведь при службе. Да и указ… Ты рассуди.
– То мои заботы.
– Про то и баю.
В душе Голицына нарастал гнев. Он, Оберегатель престола, должен объясняться, должен терпеливо талдычить про невозможность сейчас ссориться с Шакловитым. Того только и ждут в Преображенском, чтоб схватились не на жизнь два главных человека правительницы. Не будет того, хотя Федька уже давно заслужил дыбу. Зарвавшийся холоп, возомнивший своё равенство с главными фамилиями государства. Когда-нибудь такое и свершится. Но только тогда, когда придёт он из Крыма с победой, когда Москва вынуждена будет встречать его как триумфатора. О, как мечтал он про сей великий день! Тогда не страшен и преображенский недоросль, тогда качнутся к нему все сильные фамилии, которым он ближе, чем наглые простолюдины в Кремле. Но здесь, в порубежье, ждут от него державности, силы, справедливости. Уже знал, что с ближних крепостей сидят в Бела Городе служивые люди, что прискакали воеводы Яблонова, Хотмыжска, Харькова, каждый с десятком выборных. Завтра будут глядеть прямо в глаза, ожидаючи того, как он крепок в Москве? как способен к роли вождя? Знал всех воевод. Старые рубаки, не раз водившие воев и на Крым, и на турку, и на поляка. Их не обманешь. Многие из них, под предлогом отлучки в вотчины, бывали уже в Преображенском, глядели, как забавляется мальчишка. За дурью уже давно видны дела непростые. А воеводам идти в поход по весне. Из ста планируемых тысяч войска почти семьдесят из этих мест. С чем в душе пойдут воеводы, зная, что обычного татя не в силах укоротить Оберегатель? Пойдут похабные усмешки, шуточки про постельного полководца. Быть ли при сем победе?
Встал, прошёлся по горнице. Кречетов глядел на него, понимая, какие трудные мысли одолевают князя. Не то чтобы жалел его: раз взялся – не кидайся в кусты. Однако объявлен уже весенний поход, и лик вождя должен соответствовать. На сей лик взирать будут тысячи тех, кому умирать под пулями, кривыми саблями, под палящим солнцем и от безводья. Дело истинного вождя должен ныне явить князь в Порубежье.
Голицын решился. Отрывистым голосом спросил:
– Ко мне какие слова имеются?
Кречетов понял. Это уже отпуск. Молча поклонился. Князь лапнул колокольчик, тряхнул. Явившемуся камердинеру приказал:
– Немедля ко мне Шацкого…
Глянул на просветлевшего Кречетова и добавил:
– Мастера заплечного с приладьями тож.
Когда камердинер вышел, глянул почти беспомощно на Кречетова:
– Суд правый много ли способствует?
– Много, князюшка, много… Народишко тут зубастый, силу знает, смалу к палашу да пищали приучен. Гордыни много. Потрафишь ему – быть тебе с войском крепким. По всем окрестностям слух побежит.
– Иди. – сказал князь. – Иди, Максим Степанович. Ты ноне до весны – главные мои глаза в сем крае. Шли ведомости только с казачками Крюкова. Иное перенимает Шакловитый, а потом правительнице как своё подаёт.
– Денег бы мне, – осмелел Кречетов, – жалованье не плачено с весны. А поминок много раздаю. Одному мурзе Саадат-богатуру дён двадцать тому послал три тысячи ефимков, да куницы шесть хвостов, да бобра одиннадцать шкур, да медов несчитано. Оскудел ныне.
Голицын вышел в соседнюю комнату, вернулся с увесистым кожаным мешочком, кинул его на лавку:
– Тут двенадцать тыщ. Завтра Баев выдаст ещё столько же.
– Благословит тебя Господь, князюшка, – Кречетов цепко ухватил кошель и метнулся к двери.
Оставшись один, Василий Васильевич снова пал духом. Люди Шакловитого вокруг него везде. Коль прослышит про слова дерзкие князя, снова пустит по Москве слухи про спиритические сеансы в хоромах Голицына, про колдуна Ваську Силина, который на Оберегателя силу имеет. Снова будет тяжкий разговор с Софьей, которая панически боится нового стрелецкого возмущения и потому все выпады против него, Голицына, принимает как приближающуюся угрозу. Средь посадских и так много болтовни, а Шакловитый уже не раз доказал, как он способен поднимать посады супротив тех или иных бояр.
Конвойные стрельцы втолкнули в горницу Шацкого. Следом замаячила квадратная фигура Никодима Пышки с мешком заплечных приладий. За его спиной увидал князь и губного старосту. Разговора с глазу на глаз не получается.
Губы подьячего тряслись срамно. Едва переступив порог, пал на колени, потянул к Голицыну руки:
– Отец родной… По што в немилость впал аз, грешный? Виновен только в сполнении воли монаршей. Иного не задумывал.
Князь понимал: сейчас нужно подавить татя, наступить на волю его, лишить сил. Завтра всё пойдёт по городу, донесётся до дальних гарнизонов, до базара, до посадов. Взвинтив голос, закричал почти визгливо:
– Крадёшь не по чину…
Шагнул навстречу, вырвал из протянутых рук указ правительницы, которым, как щитом, прикрывался Шацкий, бегло глянул на печати:
– Сей указ изымаю из рук твоих, ибо волю великих царей Иоанна и Петра нарушил, чем причинил делу государскому немалый ущерб.
Шацкий взвыл ещё громче:
– Ни в помышлении, ни в делах не имел столь злодейского умысла. Коль виновен, так по убогости своей. Прости, отец родной…
Пришёл писец с приладьями. Устроился на краю стола, стал бойко писать. Шацкий покосился с ужасом: всё получалось нешуточно.
Голицын сидел в кресле насупившись, глядел на коленопреклонённого подьячего. Смекал, что лучше: отослать всех вон и говорить с Шацким наедине или же выплеснуть всё при людях, чтоб молвою слова его разнеслись по всему порубежью. Второй вариант был надёжнее: защитником от несправедливости в глазах людей гляделся бы он, охотнее пошли бы с ним весной в Дикое поле. Зато в Москве Шакловитый может начать тайком рушить лёд промеж ними. А это не ко времени. Указ подьячему, небось, сам Федька к Софье носил. Значит, интерес имеет. Годно ли рушить тот интерес ему, князю Голицыну?
А в горнице уже народу немало. Протиснулся вперёд губной староста, застыл у дверей заплечных дел мастер, конвойные стрельцы тут же, десятские толкутся в ожидании распоряжений. Дале тянуть молчание нельзя.
– С кем воровство вершил?
– Невиновен, князюшка… Как татарина споймали, порешил воровство пресечь, потому как грамоту самолично Трифонову гонец вёз. А в грамоте той сам Челеби-бей прелестные слова Аникешке выписывал. Христа ради, зачти грамоту: великое воровство метилось.
– Грамоту читал. Только скажи, что толку в той грамоте, коли Челеби-бей допрежь того несколько дён у тебя гостил? О чём толковали? Не сговаривались ли про то воровство, что тобою учинено было? Не про нового боя мушкеты ли, Трифоновым доставленные, толковали?
Будто тяжкой дубиной вдарили по Шацкому. Молнией мелькнула мысль, что это конец. Что Рефат-ака и есть Челеби-бей, про сии тайны мог знать только тот, кто сведом про ордынские дела, про дружбу бея с Нураддин-салтаном, про игры Шацкого с ордынцами вот уже немало годов. Ежли то откроется Шакловитому, сам Фёдор Лявонтьевич замордует ближнего в пытошной. Нету спасения, нету. Представил, как Никодим рванёт с плеч его кафтан, как пальцем подденет рубаху и оголит тело до пупка… Нет, сие не перенести. Великая жалость к самому себе, к холёному изнеженному телу своёму, над коим уже нависла угроза кнута и дыбы, вызвала приступ рыданий, слёзы текли по щекам, застилая свет:
– Скажу, всё скажу…
Голицын кивнул то ли губному старосте, топтавшемуся у стены, то ли писцу. Мучицкий сел на скамью, а писец заскрипел пером.
– Ну?
– Кузька виноват, Кузька… Жигайло, то есть. Он сбил с панталыку. Про великие доходы купеческие толковал, про прибыток Трифонова. Грешен, умыслил толику прибытку на себя взять. Коли бы не Кузька, в грех не вступил ба.
– От ордынских дел уводит, – негромко сказал Мучицкий.
– Вижу… – князь встал, прошёлся по горнице, остановился перед Шацким. – Про что толковали с Челеби-беем? Сие обскажи подробно.
– Не ведаю никакого бея. Имел беседу с персиянином Рефат-акой про дела торговые. Бея ордынского не ведаю.
– На дыбу, видать, придётся, князюшка, – Мучицкий уже готов был сделать знак десятским, но Голицын прервал его:
– Сие я решать буду. – и к Шацкому: – Ответствуй, вор, про что беседовал с Челеби-беем? И не блазнись обманом, то прямой путь к дыбе.
Заступничество князя было очевидно для всех. Пока Мучицкий соображал, что бы сие значило, Шацкий сбивчиво стал рассказывать про то, что персиянин имел интерес к мушкетам Трифонова, однако он, Шацкий, наотрез отказался от сего, а что персиянин сам надумал – то не его вина. А персиянин при том много шептался потом с Кузькой Жигайлой, и он, Шацкий, про то воровство не ведает. Ныне полагает, что договор меж персиянином и Кузькой был про дела денежные, но не изменные.
Растерянное бормотание Шацкого завершилось не словом, а неким звуком, боле похожим на стон.
Голицын мерил шагами горницу. Ещё одно-два слова, и подьячий раскроет всё. Назовёт Шакловитого, иных. Не на пользу сие. Слух облетит порубежье, добежит до Преображенского и там наголосят измену: князь Василий водит рати на Крым, а подручный его сподвижника Шакловитого с ордынцами в дружбе. Был бы крепче Шацкий – иное было бы. Вот с кем приходится иметь дело в борьбе с преображенскими, вот на кого опираться суждено. Пытать подьячего здесь, в порубежье, несподручно, пусть Федька сам с ним разбирается. Приняв решение, князь кликнул пятидесятника Колотовкина:
– Сидор, сего вора взять в железа, не в карете, в подводе везти в Москву под конвоем надёжным. Возьмёшь десяток стрельцов и за жизнь его головой ответишь. Сдашь в Разбойный приказ дьяку Сумину. Ему отпишу сам. Немедля отправляйся.
– Может, поутру, князюшка?
– Сказал: немедля. Дело государственное. Гонец с моей отпиской завтра нагонит.
Двое стремянных вошли в горницу, приподняли с пола Шацкого, уволокли. Голицын повернулся к Мучицкому:
– Указую: хоромы, двор, живность, рухлядь вора Зосимки Шацкого взять на государей, описав всё до нитки. Жёнке вора дать срок до утра, чтоб покинула город. С собой взять, что надобно в дорогу, но не боле. Людишек из дворни перевесть в посад, в тяглые люди, выделив на обзаведение по три ефимка из взятого у Шацкого. Вора Кузьку Жигайло взять на правёж теперь же, записав подробно его сказку. Спытать про Челеби-бея, про замысел с мушкетами, про воровство с товарами Трифонова, про иные промыслы Шацкого.
Мучицкий молча поклонился, кивнул Никодиму и десятским, вышел, прикрыв за собою дверь.
Голицын ещё несколько минут сидел в кресле, прикрыв глаза. Понимал, что, избегнув огласки тяжкого воровского дела Шацкого, тем самым погубил многое из того, что достиг здесь после приезда. Пойдёт шепоток, найдутся языки, которые такое в народ пустят, что и сном ему не снилось. А как быть? Коли б один ордынский недруг был бы перед ним – сквитался бы походя. Да только недругов намного боле, и не ясно, самый ли страшный ордынский? Что касательно здешних забот, то надобно не у толпы заискивать, а по делу. Вернётся в Москву, надо денег прислать на устроение городское. Все шесть башен в запустении, иные, особо четыре глухих, поверху травой и иной зеленью поросли. Две проезжих, с воротами, вроде обихожены лучше, потому как там посты стрелецкие постоянные. Стены дубовые, однако уже и их ветхость коснулась: из году в год старьё не обновлялось. Надо б из камня класть, да ни времени, ни денег нету. Взять город ныне просто, коль с пушечным припасом прийти. С правильной осадой если, так не спасут ни ограды Николаевского монастыря, ни Рождество-Богородицкого женского. Когда ордынский Рашидка наскочил, так люди по церквам спрятались. Не помогло. Из всех девяти храмов выгреб народишко, всех в полон погнал. До сей поры этот тяжкий удар помнится.
Нет, нельзя позор ордынский терпеть до нынешнего времени. Стыдно державе такой чуть ли не в данниках ходить. Была бы мочь, уже б давно хана за Перекоп загнал.
Велел принести мальвазии. Долго сидел у стола, наслаждаясь духмяным привкусом волшебного вина. Сколь велика возможность человечья! Из растения земного вылепить такое волшебство, сие равно самой высокой философии. Забыл он про то, что в чудном Божьем мире живёт, одну охоту, хоть даже на медведя, пользует. А ведь в его вотчинах и леса, и пахоты, и реки текут. Что видал он за государскими заботами? Может, не надо рваться ввысь, утешиться бы домом, семьёй. Старшенький, Алёша, гладко идёт. Младень ещё, а уж боярства достиг. Умом не слаб, ученье превзошёл. Может, и жить среди любимых книг, картин, занятий астрономией да философией? Вот недавно прочёл сочинение голландского еврейца Спинозы «Этика». Всё в нём было близко и благостно для души. Под впечатлением сел сам за лист бумаги и начертал нечто, чем потом гордился: трактат не трактат, а так, просто мысли свои над бренным бытием, данные как бы пищей для ума. Показал заметки патриарху Иоакиму. Тот глянул, округлил ласковые до того глаза:
– Сие есть ересь. Как трактовать, что душа человечья есть не что иное, как идея тела? Сие противно не токмо святому писанию, но и мысли вольной православной…
Отшутился, сказал, что выписал вышеозначенное у Баруха Спинозы, чтобы патриарху показать. Тем и кончилось. Однако ещё с месяц ловил на себе подозрительные взгляды Иоакима. Волновался владыка.
Тянуло Василия Васильевича к просвещёнию всеобщему, даже церковному тож. И хоть понимал он, что измени самую малость в церковном бытии, приблизь православие к столь милому его сердцу католичеству – и нет России, ибо только православие, оно единое, и может сохранить государство. Никакой сильной и умелой рукой не поддержишь стену державную без православия, его пусть и жёсткой, но столь целебной для души народа убеждённости в духовной правоте, его справедливой и требовательной оценки святости по итогам жизни человеческой. Без православия и могучей веры, столь понятной русскому, столь близкой его национальному характеру, все земли Руси расползутся восвояси: кто в католичество, кто в унию, кто в идолопоклонство, в шаманство. Не будет знамени с вдохновенным ликом Спасителя, с коим легко идти на смерть и муки, не будет благости храма, откуда выходишь просветлённым и твёрдым в вере. Но душа князя, книгами размягчённая, общением с равными по уму собеседниками из иных стран, душа эта тосковала по иной пище, чем приходилось ему вкушать в боярских думах. Софья, выслушав его очередной душевный стон, как-то сказала ему:
– Рано ты родился, князюшка… тебе опосля, годков через сто. При нашей нынешней сиволапости…
Что-то в душе его созвучно, а что-то протестовало против этих уничижительных слов. Да, крепко держались монастыри за земли, за пахотных крестьян, которым жилось ничуть не лучше, чем у боярства в вотчинах, да, уж давно иереи поменяли холстинные рясы на шёлковые, медные кресты на золотые, но из церкви шло просвещёние, шли знания, шла державная неподкупная твёрдость. Голицын помнил, как при осаде Чигирина турецким Ибрагим-пашой стоял насмерть его гарнизон. Князь тогда был стрелецким головой при воеводе Григории Григорьевиче Ромодановском. Шла русская рать на помощь осаждённым, и надо было послать гонца через турецкие порядки. Пошли вои – пропали. Иных послали – то ж самое. И тогда пришёл в палатку к воеводе отец Лука, священник полковой, и попросился в охотники. Отговаривали долго – не помогло. Отпустили. Когда отбили турка, узнали про страшную долю святого отца. Каких только пыток каты не придумали! Устоял. С именем Господа отошёл в иной мир, благословив своих мучителей. И из пятнадцати тысяч пленных молдаван, завербованных в турецкое войско, девять тысяч в плену окрестились в православие, потому что видели силу веры священника и его смерть. А сколько раз видел Василий Васильевич, как в стрелецкой атакующей лаве, рядом с бойцами с пищалями в руках и палашами, шли босоногие святые отцы с медным крестом в руке, ничем иным не отягощённые, и стрельцы валом ложились вокруг них на землю, телами своими прикрывая безоружного пастыря. Это ли не доказательство силы великой православия?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































