Текст книги "Порубежники"
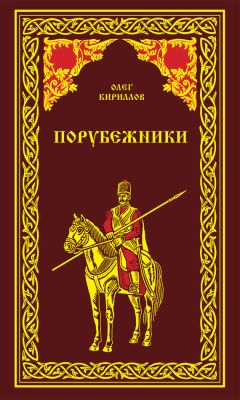
Автор книги: Олег Кириллов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Глава 12
Сентября дня 28-го обоз вышел из Бела Города. Накрапывал мелкий тёплый дождик, слабый ветерок поигрывал редкими оставшимися на ветках жёлтыми листьями, небо клубилось серой бесконечной мутью. Ермош, в наброшенном на плечи армяке, стоял впереди дворни, бесконечно осенял крестом отъезжающих, потом ткнулся мокрыми щеками в ворот Никиты:
– Господь с тобой, Никитушка… Ладу тебе да складу. За дом не бойсь, управлюсь. Батя твой, Аникей-то, завсегда душой покоен был, отъезжаючи.
Женщины кутались платками, утирали слезу. Рассвет уже разыгрался, стаяли тени, пошли в посадах пастухи, выкрикивая скот, дудочками тревожа хозяев. Бухнула пищаль на Сторожевой, извещая про смену пушкарей.
Никита сел на переднюю подводу, взял вожжи. Кони тронулись легко, охотно. Без скрипа, ходко пошли колёса. Перед поворотом оглянулся на дом: провожающие стояли, а следом за ним разматывался змеёй обоз. Две подводы шли за ним без возчиков, на третьей рулил Митрей. Дальше – тем же порядком.
Часовые у ворот с любопытством глядели.
– Далёко?
– Отсель не видать, – недовольно буркнул Ухарь с третьей связки.
– Чьи?
– Трифоновские.
– Тишь вам и гладь, да божья благодать, – отозвался с башни сержант, – глядите в бору, там, никак, балуют. Завчера Федотку-черкеса крепко пограбили. В одних портках отпустили.
Пока шли Болховцом, сзади полыхнуло солнце. На бугре, с которого ещё виден был город, остановились, сошлись вместе. Ганька, вылезая тощей шеей из просторного армяка, истово перекрестился:
– Дай нам, Боже, простору да ладу, без всякого накладу.
Закрестились дружно, стали на колени лицом к городу. Каждый чёл молитву про себя, не мешая иным. Встали и разошлись. Теперь надобно думать про дорогу.
Город уползал за увал. Донёсся слабый колокольный звон: храмы звали людей на утреню. Будто прощались с иными надолго, а с иными и навсегда.
Чёрный бор наползал медленно и неотвратимо. Никита уложил рядом с собой заряженный мушкет, три пистолета, тяжёлый уланский палаш. Глянул назад и увидел, что все следуют его примеру. Шестёрку заводных лошадей под сёдлами перегнали в серединку. На одну влез Ухарь и поехал слева по обочине, на другую сел Митрей и погнал в объезд, чтоб занять правую сторону. Поравнявшись с Никитой, сказал:
– Оно б нам не торопясь, а?
– Чего?
– Я про дело. Утресь татарина на подводе в Обоянь повезли. В железах. С ним возчик да Наумка-стрелец. Взять бы ордынца да на привале поспытать про письмо, что батю твого сгубило. В бор залезем, оттоль тяжко будет выскакивать. Да и обоз не оставишь, небось шишей в кустах вдосталь.
Никита натянул поводья:
– Думаешь, возьмём ордынца?
– Чего не взять? Наумка-то папане моему кум. Пару ефимков сыпанёшь, и ладно. Вон у тебя меди целый кошель.
Обоз согнали в сторону с дороги. Сели на запасных коней. Никита подозвал Ухаря:
– Ерофеич, ты побудь… Мы с Митреем сгоняем назад ненадолго.
– Примета хреновая, – буркнул Ухарь.
– Ладно. Ты гляди тут.
Прихватили запасную лошадь, погнали обходными путями на тракт. Где по тропке, а где кустами напрямую. Выскочили к глубокому логу с бурным ручьём, спешившим к Донцу. Впереди тракт проглядывался версты на четыре.
– Не видать, – сказал Никита.
– Не дошли ишшо. Повременим.
Прилегли в траву, загнав лошадей в придорожные кусты.
– Дело-то разбойное – сказал Никита, обкусывая листок дикого щавеля – на дыбу можно запросто махнуть.
Митрей усмехнулся:
– Ништо… Собьём деньгу – никакая дыба не страшна.
В кустах зашуршало. Кинулся зайчишка, перебежал дорогу и замелькал посреди берёз. Парни азартно засвистели. И тут же на тракт вывернулась подвода с тревожно настороженным стрельцом. Возница прилёг к облучку.
– Дядь Наум – крикнул Митрей, – не пали.
Стрелец опустил пищаль:
– Митька… Шалопай, мать твою… Чуть в грех не вогнал. А ну подь сюды!
Парни выбрались на дорогу. Наум ещё с минуту вглядывался, потом махнул рукой:
– Ладно, подходи.
Ордынец лежал лицом вниз, связанный, с кольцом, наброшенным на железный штырь.
– И Трифонов тут? – Наум был явно удивлён.
Никита заметил, как дрогнули плечи ордынца при упоминании его фамилии.
Возница, опомнившись от страха, матюгнулся и, поддерживая порты, полез в ближние кусты.
– Чего залегли?
– Дядь Наум, отдай ордынца.
– Чего?
– Через того татарина отец Никиты пропал. Хотим поспытать.
– А мне что, дыба?
– Скажешь, ордынцы наскочили, вызволили свого. Апосля отъезда Шацкого татарин никому не нужен. Сам видел, как из съезжей его плац мести водили. В Обояни голову смахнут – и концы. А нам он про всё скажет.
– То ясно – задумался Наум, – что ордынец никому не нужен – то точно. Только беду мыкать из-за нехристя не хочу.
Никита молча высыпал в руку стрельца пригоршню меди. Тот завертел головой:
– Ладно, берите… Только чтоб тихо всё. Мне б для возницы, для Рогунца, чуток ещё…
Никита сыпанул другую горсть.
– Вы бы копытами конскими тут потоптались… У подводы. Губной староста наверняка сам сюда пригонит. Скажу, наскочили трое…
– Ордынцы…
– Знамо дело.
Вскочив на коней, парни покрутились вокруг подводы, затем погрузили на третью лошадь татарина, привязали его к седлу ремнями. Повод его коня Митрей взял в свободную руку, и они с обочины кинулись прямо в поле.
Когда отъехали с версту, сзади бухнул выстрел пищали, потом, спустя минуту, второй. Митрей повернул к Никите улыбающееся лицо:
– Дядь Наум следы метёт… Вот хитёр мужик!
До обоза догнали быстро. Возчик Мина Гузеев, из бывших кузнецов, здоровый кряжистый мужик, стянул с седла перекинутого ордынца:
– Чай, подарочек пригорнули…
Глянул на красное потное лицо татарина, уловил бешеное сверкание глаз, заметил:
– Никак осерчал… Не привык пузом через седло.
Татарин буркнул:
– Шакал…
Мина замахнулся:
– Ах ты, курдюк вонючий…
Митрей перехватил кулак:
– Не замай… У нас с ним балачка будет. Тогда кликну.
Спелёнутого татарина уложили во второй воз, накрыли рядном. Ещё раз увязали ремнями, чтоб не было соблазну к бегству. Стали заново вылезать на дорогу. Митрей, поскакивая рядом с подводой Никиты, крутил головой в сторону города: а ну как запылят конные вдогонь? Когда созоровали, стало чуток страшно: не дай Бог Наум попадёт в беду и на спросе признается? Потому, когда первая подвода вкатилась под деревья, на душе полегчало.
Дождевая морось ушла, хотя тяжкие тучи грозно ползли по-над вершинами деревьев. Несмелое солнце иной раз проглядывало среди них и тут же исчезало, не давая воли лучам своим. По обочинам ярко рдели заросли шиповника, рябина густо высыпала ягоды на пригорках, выставив ветви прямо на дорогу. Земли совсем не видать; всё покрыто толстым слоем жёлтых, коричневых, красных листьев. Не слышно даже стука колёс, будто шемаханскими коврами дорогу устлали. Лес, потеряв листву, стал просматриваться далеко: открылись глухие овраги, неясные тропки, вытоптанные зверьём. Округ на ветвях летние гнёзда, уже опустевшие и ныне громоздко и неуютно торчащие у всех на виду. Иной раз низко над головой прострекочет сорока, затрещит буреломом мохнатый хозяин леса, уводя от опасных людей своё толстопятое семейство.
– Тр-р-р… – Никита натянул вожжи в растерянности. На обочине дороги стоял на коленях человек. Голова опущена, руки опали к земле. Трифонов слез с облучка, пошёл к нему. Сзади тяжко вышагивал Ухарь, прилаживая пищаль.
– Тю-у-у, Сёмка… – разочарованно сказал Митрей, опередивший всех, опознав в коленопреклонённом слободского бойца, преступившего святое правило токовища. Испугавшись расправы, парень уплыл тогда по Весёлке и пропал. Балакали, что утоп, что сбёг на Дон, а потом забыли про него, хотя случаев, подобных Сёмкиному, уже давно в Бела Городе не было. И вот теперь парняга стоял на обочине и глядел прямо в глаза Никите. Видать, не просто пришлось в бегах: обтрепался, рубаха истлела то ли от влаги, то ли от старости, лицо исхудало и обросло жидкой курчавой бородёнкой, порты прохудились, и глядело из-под них смуглое грязное тело.
– Чего тебе? – Никита нахмурился: Сёмка много раз стоял рядом с ним, отмахиваясь от жиловских, и никогда не замечалось за ним трусости аль злобы. Тем обиднее было его свершение.
– Слышь, Никита, возьми с собой… Пропаду я тут. Ягодами живу. Давеча грибы съел, животом занемог… Огня жечь боюсь: не то тати, не то городские на дым придут…
– Ране что думал?
– Бес попутал… Ихняя сила ломила, вот и взял с земли камушек.
– Бес в тебе, невдалый, – зло сказал Ухарь, перекрестившись при упоминании нечистого.
– Пропаду я тута, – заныл Сёмка, – никак не жалко душу хрестьянскую? А схожу с вами – перед миром на колени стану, пускай мир решает… Голову повинную понесу, вериги на шею надену.
Ухарь сплюнул и пошёл к своей подводе. Ганька подскочил поближе, замаячил ручками перед лицом Никиты:
– Скоси вину-то… Зима вот-вот вдарит. Аль татарва мы какая? Вона ноги в кровище. Аль греха на душе не бывало?
Никита глянул на Митрея. Тот едва заметно кивнул. Молчаливый Мина, уловив взгляд Никиты, забасил:
– Чего там? Коли что, сгоним.
– Ладно, – сказал Никита, – иди, только гляди мне.
Повернувшись, пошёл к своей подводе. За спиной слышал, как Сёмка скулил:
– Братцы, мне б хлебца кусочек с сольцой… Сколь дней не пробовал.
Вцепился в заступника – Ганьку, приладился рядом с ним на облучке.
На очередной остановке Никита понёс ведро с ковшиком ко второй подводе. Откинул рядно. Татарин глядел круглыми, налитыми кровью глазами. Набрал ковшик воды, прислонил к губам полоняника. Тот стал пить большими жадными глотками. Допив, вдруг сказал:
– Ты Трифонов?
– Выходит, так. А ты по-нашему разумеешь?
– В Москве жил.
– Вона как. Значит, не простой нукер?
– Был десятником. Теперь простой нукер.
– Провинился, что ли?
– То тебя не касается.
– Меня теперь всё касается. Из-за тебя отец мой погиб. Правду из тебя вытрясу. Всё скажешь.
– Не скажу. Всё одно убьёшь. Я тебе не нужен.
– То поглядим. У кого служил?
– В охране сына ханского Нураддин-салтана.
– Кто тебя посылал с письмом?
– Развяжи руки… Сил боле нету.
– Потерпи. Кто с письмом посылал, пытаю.
– Руки развяжи. Клянусь аллахом, не сбегу.
– Не верю тебе. Племя твоё бандитское, из-за угла кидаетесь, с жёнками да детьми воюете, в рабство гоните. Ты ведь тоже гонял?
– Ясырь брал. Ваши казаки в Крыму то же самое делают.
– Казаки своих выручают. Вы ж невинных хватаете, неоружных.
Не стал дожидаться ответа, молча завернул рядно, затянул ремень на повозке. Сидя на облучке, задумался: а взаправду, что с татарином делать? Ну, скажет, что знает, что тогда? Если не скажет – дело ясное. А коли покорится, повинится – как жизнь человечью отнимать?
Думы одолевали непрестанно. С приходом Сёмки будет полегче. Двух сторожевых по обочинам можно свободно пускать. Обоз не оголяется. Надобно на стоянке из одежонки кое-что дать бедолаге: голый ведь.
Чёрный бор своё берёт, не мешкая. Единственная дорога на заход из Бела Города. Вся торговля в немцы, поляки, венгры тут пролегает. На Киев и Полтаву к малороссам тож. При Алексее Михайловиче для Хмельницкого гнали обозы с оружием, воинской приладой, коней табунами вели. Той же дорогой бедолаги с малоросских городов от поляков уходили. По указу селили их на свободных землях, по десять ефимков каждому на обзаведение давали. Своим – втрое меньше. После очередного поджога Корочи пригнали из Можайска три обоза с пахотным людом. По три ефимка на семью дали и ещё по четыре деньги на прокормление. Свои не ропщут. И немало переселённых, побившись средь леса на пожоге, на корчевании, так и не выгадав пашни, ушли в чащобы теребить купцов. Раз за разом вдоль дороги большие поляны попадаются: то не получившаяся пашня очередного бедолаги-переселенца. Где ныне её хозяин? То ли залёг невдалеке с кистенём, то ли успокоился навек в дальнем овраге, то ли бредёт в сей час с деревянной колодой на шее в горькой череде полоняников в чужих краях? А может, в нарядном кунтуше поскакивает на резвом скакуне на вольном Дону?
Живёт своей жизнью Чёрный бор. Вот вдалеке свистнули. В ответ зачастила деревянная трещотка. Перекликаются шиши. Только лёгкой добычи им тут не взять. Видать, не одна пара воровских глаз щупает зараз из-за кустов медленно ползущий обоз. Уже сосчитали и мушкеты, и палаши. Да и по лицам прошлись. Базар в Бела Городе всех роднит. Небось, и Ухаря узнали, и его, Никиту Трифонова, и Митрея. Нет, не тронут. Ермош когда-то рассказывал, что отец в тяжкие зимы не раз оставлял в Чёрном бору подводы с пшеничкой, овсом. Зато не было случая, чтобы трифоновский обоз тронули в Чёрном бору. Умел батя ладить и с князьями, и с шишами, а вот спины никогда не гнул.
За полудень устроили днёвку. Распрягли лошадей, чтоб попаслись на воле, костёр запалили. Ночевать в Чёрном бору не рисковал никто, придётся и ночью двигаться. При светле надо сил набраться, отдохнуть. Приволокли к костру ордынца, развязали руки, дали еды. Глядели, как жадно заглатывал татарин громадные куски мяса, попутно разглядывая всех сидящих у костра, словно пересчитывая. Закончив есть, сказал Никите:
– Говорить буду только с глазу на глаз…
Мужики молча поднялись и отошли в сторону. Только Ухарь презрительно сощурил глаза и покачал головой.
– Ну, – Никита придвинулся поближе.
– Посылал меня Челеби-бей, сын шакала и бешеной собаки. Он много раз говорил, что надо переходить речку у кривой берёзы, и только там. Я теперь понял, почему. Он гнал меня на засаду.
– С кем спосылался Челеби-бей в Бела Городе?
– Того не знаю. Я хотел зашить письмо в бешмет, он запретил. Сказал, что письмо нужно везти в сумке. Я спросил, как искать дом Трифонова. Он ответил, что дом найти легко. Он знал, что до дома я не дойду. Он знал, что я не вернусь, потому что велел мои два воза с добычей перегнать в свой лагерь. Он сказал, что для сохранности. И коней моих велел пустить в свой табун.
– Что велел на словах кому передать?
– Ничего. Я должен был отвезти письмо.
Никита задумался. Кто такой Челеби-бей? Зачем он посылал письмо отцу? При чём здесь Шацкий? Было много вопросов, на которые ответа не было, но был и живой человек, судьбу которого нужно было решать.
– Зовут-то тебя как?
– Хасан.
– Что с тобой делать мне, Хасан?
Лицо ордынца покрылось испариной. Капельки пота заблестели на лбу и щеках. Глаза заметались. Он молчал.
– Жив останешься – ведь снова придёшь грабить?
Ордынец поднял глаза:
– Мои придут – и я приду. Разве ты сделаешь иначе?
– Я – иное дело. Я дом свой от тебя блюду, а ты не свой дом защищаешь, а по чужим норовишь.
– А князь Голицын куда шёл? Крым воевать. То мой дом.
– Востёр языком.
– И саблей тож.
Никита встал, разрезал верёвки на ногах ордынца:
– Иди!
– Куда?
– А куда хошь. Только гляди, увижу сызнова где – пеняй на себя. Волк ты, а волков бьют где ни попадя.
Ордынец криво усмехнулся:
– Милостливо даришь жизнь? А куда я в этом лесу пойду? Меня твои русы через сто шагов убьют.
– Мои не убьют. Иди.
– Другие убьют. Дай коня.
– Нету у меня для тебя коня. Уходи, пока не раздумал.
– Нож дай…
– Сказал – уходи.
Ордынец сделал несколько шагов в сторону кустов. Ухарь вскинул мушкет. Никита крикнул:
– Ерофеич, не тронь…
Татарин кинулся в лес.
Подошли свои. Ухарь всё ещё шарил взглядом среди стволов деревьев, выискивая сбежавшего. Буркнул:
– Отпустил?
– А что, голову ему рубить?
Все молчали. Митрей ковырял пальцем кору молодого дубка. Чувствовалось всеобщее неодобрение.
– Запрягай, – скомандовал Никита, и люди пошли по местам.
И вновь поворот за поворотом петляет дорога. Лошади ходко идут, оставляя позади немереные вёрсты. Перед сумерками к Никите подскакал Ганька, сменивший в сторожевых Ухаря:
– Слышь, Никита, татарин-то следом за нами идёт.
– Как так?
– Да просто. По следам. А как солнце пошло на заход, совсем близко достал. Я уж ему и пищалью грозился, и кулаком… Всё одно не уходит.
– Ну-ка, садись на подводу замест меня. Я зараз с ним побалакаю.
Сел на ганькиного коня, погнал в конец обоза. Мужики глядели ему вслед.
Татарин сидел на земле саженях в двадцати от последнего воза. Увидев Никиту, встал.
– Чего привязался-то?
Никита отметил, что говорить грозно и с угрозой ему совсем не хочется. Что-то в поведении ордынца ему даже нравилось:
– Ну?
– К своим приду – Челеби-бей шкуру снимет. На смерть меня послал. Русы убьют, как только встретят. Куда идти? Коня нет, сабли нет, мушкета нет… Воин с голоду помереть должен. Аллах душу не примет.
– Что от меня хочешь?
– С собой возьми. Вернусь с деньгами, – могу в Касимов ехать. Там мурза Тимур живёт. Десять лет тому ушёл с ногайцами в Русь. Ему служил, пока не ушёл к Нураддину. Потом с Нураддином шесть лет в Москве жил, когда ханский сын в Немецкой слободе учился.
– Многим служил. А ну как в спину ударишь? Племени вашему верить нельзя. Ныне шкуру спасаешь. Не по душе тебе с нами.
– Не по душе – это ты правильно сказал. Только куда мне идти? Как у нас говорят, ноги несут туда, где голова целее. Не по душе хочу с вами идти, а по разуму. Тебе-то от того разве хуже будет?
– Хуже не будет. Только твоему разуму-то граница где? А ну как твоих в степи встретим, после леса? Что делать будешь?
Ордынец задумался. Никита глядел на насупленные брови его, на туго сжатые тонкие губы. Мысли теснились в этой голове, сталкивались, бурлили водоворотом. Вырвались вздохом неясные слова:
– Аллах всемилостливейший, помоги…
Никита ждал. Видел трудности в разговоре со своими. Орда принесла столько горя, что при виде татарина у каждого русского человека, особо здесь, на порубежье, рука тянулась к палашу либо пистолю. Твёрдо засело в голове, что ордынец – это беда, это кровь, это полон, это смерть. Закон степи гласил испытанное веками: кто первый дотянулся до оружия – тот и прав. Ныне ордынец просится в дружину, где люди всегда готовы стать спина к спине. А ну как в подставленную доверчиво спину войдёт предательский нож?
Лицо ордынца прояснялось. Какая-то из мыслей одолела. Распрямлялись морщины, открылись под бровями маленькие пытливые глазки. Искал взгляда Никиты, будто пытался проникнуть в его сомненья:
– Клянусь Аллахом всемилостливейшим, если поверишь – братом буду.
Сходились мужики. Стали вкруг. Ганька придирчиво спросил:
– Впустую ли, спасения жизни ради слова такие молвил?
Ордынец затряс головой:
– Аллах свидетель…
– Готов ли клятву кровью принесть? Братство – слово не праздное, кровное.
Ордынец кивнул.
– Ты, Никита, готов ли руку братскую сему иноверцу отдать? Клятву над землёй-матерью учинить?
Никита стал заворачивать рукав рубахи. Ганька кинжалом вспорол землю на обочине, выкопал ямку, старательно выбрал из неё комки.
– Может, кто ишшо к братине станет?
Шагнул Митрей, заголил левую руку:
– Мне с Никитою до конца…
Трифонов, Митрей стали рядком на колени у ямки. Лицом к ним стал ордынец. Втиснул левую руку между ними. Ганька накрепко связал все три руки крепким ремешком, вытер полой кинжал и полоснул все три руки одной раной. Брызнула кровь и тремя струйками потекла в ямку.
– Я, раб Божий Никита, клянусь быть братом Митрею и Хасану. Стоять мне с ними заодно, делить и горе и радость, а надо, так и жизнь не пожалеть. Именем святым Господа нашего Иисуса клянусь и к тому кровь свою матери-земле вручаю.
– Я, раб Божий Митрей, клянусь быть братом Никите и Хасану. Стоять мне с ними заодно, делить и горе и радость, а надо так и жизнь не пожалеть. Именем святым Господа нашего Иисуса клянусь и к тому кровь свою матери-земле вручаю.
– Я, именем Аллаха всемогущего и всевидящего, раб его верный Хасан, клянусь быть братом до скончания века Никите и Митрею. Кровь отца брата моего Никиты, взятую моей виной, отдаю до капли в его руки, в чём присягаю матери-земле, родившей, взрастившей нас всех и готовой всегда принять нас в своё лоно.
Каждый из клявшихся правой рукой сбросил в ямку несколько земляных комков. Ганька рассёк ремешок, засыпал все три ранки порохом, обвязал каждую тряпицей. После всего этого лишние ушли к возам.
Трое стояли на дороге. Темнота уже выглядывали из кустов, медленно выползала из тесных оврагов. Ухарь запалил на последнем возу чадный факел.
– Пошли, – сказал Никита, – дорога дальняя…
Глава 13
Декабря 2-го дня обоз миновал безымянную польскую вёску с двумя десятками покосившихся хат и грязным трактиром у дороги. Дорога вылезала на песчаный косогор с чёрным от времени католическим крестом, увешанным выцветшими цветными ленточками, с резным изображением святого Петра. Ганька достал доску, где рукой старшего Трифонова был вычерчен весь маршрут, и отыскал почти в конце крохотный кружок. Ткнул в него кривым пальцем:
– Тута…
– Никак доехали – вздохнул Никита.
– Погодь, – Ухарь шмыгнул носом, повертел головой, – ишо намыкаемся. Места тут почище нашего Чёрного бору, разбойные. Надо б заночевать было в деревне-то.
– Оно ишо неведомо, как лучше, – возразил Ганька, – Аникея-то подсекли в деревне. По мне лучше, когда в чистом поле ночлег. Загородился возами и сам себе хозяин. До немецкого сельца Нойкирхен ишо вёрст двадцать будет. Дорога точно, разбойная, лесами да оврагами. Одначе перетерпим. Сколь уже прошли. Тута вёрст пять погодя полянка сподручная имеется. Там и закошеварим.
Двинулись не торопясь. Леса тут были и впрямь неулыбчивые. Нету ни чистой берёзки, ни осинки улыбчивой. Сплошняком ель, да сосна, да пески зыбучие. Дорога, правда, поухоженней, чем наши, однако ободья колёс всё в колею ныряют. Тут, коли что, не рванёшь из-под выстрела: колея не выпустит.
Путь прошли немалый. До Киева и не заметили: погодка баловала, шиши не тревожили. Простояли день на переправе, расшивы ждали. Перевезлись ходко; уже к вечеру следующего дня молились на лаврские колокольни. Из Киева с грамотой тамошнего воеводы Бутурлина с общим обозом пошли на Мозырь и Бжесц под охраной сотни реестровых казаков, которых в Дрогичине сменили королевские жолнежи. В Варшаве собрали со всех обозов поминки коронному гетману Яблоновскому: пришлось лишиться корчаги с мёдом, зато до Бжесца шли, будто по своей святой Руси, – храмы православные, люди благостные, без злобы, без хитрости. Язык малость иной, польских слов немало, однако обходились спокойно. Под Дрогичином видали на биваке запорожцев: жгли костры, гуляли, песни пели, одначе в лагере пусто и голодно. Казаки жаловались на польский обман: двух походных атаманов, Лазуку и Забияку, паны сговорили на королевскую службу, да обманули – денег не платили, фуражу не давали. Начали казачки трепать окрестные сёла, так их с помощью жолнежей выперли в Дрогичин, где свои, православные, живут. А на своих и рука не поднимается, кусок чтоб отобрать. Уламывают казачков идти под Пшемысль, на турок, да сумление имеется: как бы из огня да в полымя не нырнуть. Продавали запорожцы рухлядь из обоза, коней, оружие. У них и купили для Хасана тяжёлую карабелю, потому как палашом биться не обучен и всё время просил саблю. Получив карабелю, ожил, просился в сторожевые и носился на коне взад-вперёд вдоль обоза, диким ордынским визгом припугивая смирных обозных лошадок. Что поначалу было для русичей подозрительным, ныне ушло. Был татарин неразговорчив, но верен в службе: не жаловался на бессонь, на скудость в еде и питье. Клонился к Ганьке, часами вёл с ним беседы, всегда возникал за его спиной при встрече с незнакомыми. Видать, названого брата Никиту счёл сильным и в защите не нуждающимся. Митрея даже чуток побаивался, видать, помнил, как киданул его Сычёв на седло, будто мешок с овсом. Единственный, с кем был ордынец настороже и во вражде, – это Ухарь. Вся семья стрельца была угнана крымчаками в полон, и неизвестно, где ныне была, и потому голубые льдистые глазки Ухаря глядели на татарина неизменно враждебно и подозрительно.
Сёмка ожил, раздобрел на походных харчах. Службу обозного нёс справно. Единого, чего не любил – в сторожевых быть. Верхом трясло его и мотало из стороны в сторону, зато на подводе и в головных доверяли ему, третьему после Никиты и Митрея.
В Варшаве продали посуду, меды, тканину персиянскую да сто тюков бархату. Первые четыреста золотых голландских гульденов заложил Никита в пояс, доставшийся ему от отца. Почин был неплохим, и можно было бы в Варшаве согнать весь товар, да Ганька говорил про немецкую торговлю, где можно было б взять вдвое. Судачили, рядились – и пошли дале.
С Варшавы шли сами. Под Радувом кинулись на обоз лихие люди. Человек тридцать верхами выметнулись из-за поворота. В сторожевых был Митрей, а позади – Хасан. Сычёв погнал навстречу, а Хасан выскочил сбоку на горку и кинулся с тылу. Вокруг обоих сразу сбились нападающие. А с возов ударил из пищали Ухарь, потом ещё и ещё. Через минуту заговорили пищали остальных. С гортанными воплями рубился ордынец, да и Митрей чуть ли не до седла развалил выскочившего на него шляхтича. Потеряв четверых, польские шиши кинулись врассыпную, а Хасан, соскочив с седла, уже грабил походные сумки погибших.
Никита стрелял два раза, но промахнулся. Когда обозные столпились вокруг порубленных, ему вдруг стало тошно. Кровь, отрубленные руки видал он так близко впервые. Обозные возбуждённо обменивались впечатлениями, а он, забившись в кусты, маялся рвотой. Вышел бледный и измученный. С нападавших уже поснимали оружие, пригодное из тряпья. Теперь ловили лошадей. Хасан с арканом мотался по ближним увалам за серым жеребцом, достал его метким броском и торжествующе привёл к обозу. Через десять минут он уже гарцевал на нём:
– Ай, хорош, – кричал он, проскакивая мимо Никиты, и глаза его сияли. – Ай, хорош конь! Давно такого хотел.
Схватка обошлась обозным малой царапиной, доставшейся Митрею. Его противник – шляхтич, прежде чем получить смертельный удар по голове, пальнул в Митрея из пистоля. Пуля обожгла щёку и ушла в ствол большой ели. Перевязываться Сычёв отказался, отмахнувшись от Никиты, поспешившего к нему с мазью и чистой тряпицей.
Вечером, загородившись возами, жгли костры и пели родные песни. Особо тянул Сёмка. Выпал ему голос чистый, как осенний ручей, звонкий и доходчивый. Будто рулады соловьиные выводил:
Как матушка баяла
На крылечке стоячи:
«Почто сыночек-кровинушка
Мово голосу не внемлешь,
Мово голосу не внемлешь,
Совету доброго не ведаешь…»
От песни тяжко ныло сердце, будто привиделся родной дальний край, Донец, костерок на краю обрыва, а внизу – туманная даль, что через поля да тихие волны речные прокинулась до самого багрово-красного заката. И здешний сырой пронизливый ветер при песне казался духмяным ветерком родного порубежья.
В тот вечер мало кому хотелось уходить спать под тёплые попоны на возах. Никита отошёл с Митреем от костра:
– Коли что, Митя, бумага от главного саксонского короля вот тут у меня в рубахе зашита. Без неё нам худо в той земле будет.
– Вот ты и покажешь, коли что.
– Жив буду – покажу. Только ныне я увидал незнамое до того, сколь просто человека жизни лишить. И выходит, что плановать про всё не получается. Свистнула пуля аль палаш сверкнул – и нету человека.
– То не про тебя. Нам ещё дале жить. Лютый я до жизни, Никитушка. Помирать не по мне. Тебе тож.
– И всё ж гляди, что кажу.
– Дак я понятливый.
– Гляди.
Мерно колыхается подвода. Мысли, будто ручей полноводный. То про отцовские последние слова, то про Ульяну, что дитя отцовское носит, то про токовище, где плечи разминать привык. Как там без них с Митреем? Кто на первый ряд вышел? Кто силой ломит?
Обернулся, крикнул на третий воз Сёмке:
– Спроси Ганьку: скоро ли полянка его будет? К ночи дело. Пора бы круг городить.
Сёмка крикнул назад. Через минуту перекличек вернул ответ Ганьки:
– Баит, версты три ходу.
Припозднились. Вон солнце уже за верхушки елей зацепилось. В темноте по чужим краям неладно ездить. Знать, напрасно в польской вёске не задержались. Уже б похлёбку варили. Ныне же городить лагерь, может, придётся во тьме. То плохо и опасно.
От последней подводы проскакал Хасан. Оскалил зубы в улыбке:
– Гляну, что там…
Умчался за косогор, и тут же Никита увидел, как с двух сторон на дорогу молча кинулись десятки людей. Сверкали палаши. И тут же из-за косогора выметнулся Хасан:
– Беда, Никита!
За ним – несколько всадников. Обернувшись, ордынец выхватил карабелю. Красноватым отблеском замерцала сталь.
Уже стрелял Ухарь. Люди набегали, спотыкаясь, падая от неровностей ската и от встречных пуль. Краем глаза увидел Никита, как, охнув, свалился ничком в трёх метрах от него Сёмка. Выскочил с палашом встречь нападающих и нарвался на слепую пулю. Уже рубился Митрей, стоя на подводе и пытаясь палашом достать карабкающихся наверх налётчиков. Вот рядом возникла длинная рыжая борода. Никита выпалил из пистоля прямо в неё, и человек сполз к колёсам.
Кто-то страшно кричал. Обернувшись на секунду, Никита увидел, как двое конных рубили палашами Ганьку. Соскочив с воза, Трифонов кинулся на выручку, но маленький возница уже лежал на земле, неудобно подогнув руку. Зато сам Никита оказался в окружении трёх врагов.
Одного неумело ткнул палашом в живот. Согнувшись, тот присел на землю, и надсадный вой всколыхнул тягучий предвечерний воздух. Близко рубился Хасан, часто оборачиваясь, что-то кричал, а что – не слышно. Пальба из пищалей и мушкетов, скрежет палашей, яростные крики и жалобные стоны. Вот ордынцу удался выпад, и ещё один из врагов сполз с седла. Третий кинулся в сторону, и татарин рванулся назад, к обозу, где Мина Гузеев, не знавший в жизни ни мушкета, ни пищали, не признававший палашей и сабель, ныне махал тяжкой дубиной, и каждый его разворот находил вражий череп.
– Форвертс!
Это слово раз за разом кричал человек, стоявший в нескольких метрах выше схватки на склоне, и после каждого его крика в бой кидались ещё несколько человек.
Немцы. Поначалу Никите казалось, что это поляки, но вот теперь стало ясно, что ошибался. Мысли мелькали, а руки привычно отбивали удары палашей и наносили свои. Врагов становилось всё больше, и сейчас они группами сгрудились вокруг каждого из обозников. По склону металось несколько лошадей, и Никита понял, что ордынец Хасан сделал своё дело: вокруг обоза были только пешие.
Где Митрей? Неужто пропал? Неужто достала друга и побратима жгучая сталь? Бой стихал, и в нарастающих сумерках уже торжествующе звучали чужие картавые голоса.
Выпалив в лицо врагу из последнего пистоля, Никита швырнул его в голову очередного шиша и кинулся с палашом в руках вверх по склону, где хрипло покрикивал вожак. Уже было ясно, что ему, Никите, отсюда не уйти, что, видно, придётся сложить на чужбине голову, но сделать это просто так он не мог. Лютая ненависть всколыхнула душу. Он знал это чувство по кулачным боям, когда вокруг сбивалась куча противников, а подмоги ждать было неоткуда. Тогда тело и душа становились чем-то единым, тогда исчезало ощущение боли от вражьих ударов, и всё было устремлено только к одному: победить! Вот и теперь его целью внезапно стало одно: дойти до вожака, добраться до его горла и вонзить в него палаш. С яростным криком, в котором слились воедино и боевой клич языческих предков, и вопль отчаяния, и безоглядная угроза, проламывался он сквозь набегавших врагов к тому месту, где каркал вожак.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































