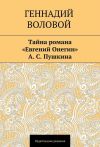Автор книги: Ольга Елисеева
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
«Константин-урод»
В шаткие дни междуцарствия по Петербургу ходила песенка:
Плачет государство,
Плачет весь народ,
Едет к нам на царство
Константин-урод.
Теперь она не к месту крутилась в голове у шефа жандармов. Ведь ехал не Константин и не «к нам». Все происходило наоборот. Однако предстоящая встреча не радовала.
Брат из Варшавы три года повторял императору, что тот должен чувствовать себя лишь наместником и продолжателем дел почившего Ангела. Ему, Константину, так, без сомнения, было бы удобнее. Цесаревичем его назначил отец, и от этого титула он не собирался отказываться. Наместником Польши – Александр I. Поэтому какое-либо вмешательство неуместно. Сам государь не раз говорил, что ощущает себя только «заместителем». Что настоящий царь – в Варшаве.
Слова, слова… Но зная честность императора… А также неуверенность первых лет… Им стоит верить. Однако время шло. Обстоятельства – внешние и внутренние – менялись. Привычка принимать решения въедалась в кровь и плоть. Можно было бы сказать, что Николай I входил во вкус. Но «династический принцип был крепко влит» в великих князей, поэтому государь, сколько мог, старался не беспокоить брата в его вотчине.
Однако рано или поздно короноваться бы пришлось.
Особенно неприятно государя поразил тот факт, что цесаревич Константин не послал на театр военных действий против турок подчиненную ему польскую армию. Сначала согласился, а потом поворотил сани: мол, «его честь будет задета, если на войну отправятся войска, которые он формировал», а он сам останется дома. Намек был понятен: великий князь рассматривал польскую армию как свою собственную и не хотел, чтобы она привыкала подчиняться приказам брата. Этот отказ оскорбил «благородное сердце императора». Стало очевидно, что Николай терял Польшу. Ему там не повиновались.
Следовало явить твердость. Во имя целостности империи забыть про «династический принцип». Бенкендорф знал об этом из первых уст, потому что во время путешествия в одной карете слушал рассуждения и негодование государя. Ему уже казалось, что дорога – естественное состояние его жизни. Только раньше он, закусив ус, скакал для одного императора. Теперь вместе с другим.
Сами государи являли редкое несходство в облике и характерах. Ничего братского. От одного корня. Только не чуждый августейшей семьи человек имел шанс заметить: есть общее, неявное, глубоко спрятанное, чего стыдятся и не хотят показывать.
За прошедшие три года отношение Николая I к покойному Ангелу стало жестче. Нетерпимее. Навалились не решенные братом дела. Еще хуже были дела решенные… либо под влиянием «либеральных идей», либо «деспотизма». Две крайности! Идеалом могла считаться сильная власть, опирающаяся на закон. Недаром он поручил М. М. Сперанскому кодификацию, а III отделению борьбу со «злоупотреблениями». Повседневность клонила то в одну, то в другую сторону. Чтобы двигаться по избранному маршруту требовалась сильная воля.
С годами в лице императора стала проглядывать суровость – «неподдельная строгость», особенно очевидная в минуты покоя, когда оно застывало маской из еще влажного, несхватившегося гипса. Государь отворачивался к дороге, думал или просто дремал. А Бенкендорф быстро взглядывал на него и видел, как прежде мягкое и растерянное становится твердым, отточенным, непреклонным.
Особенно при чужих. С ним-то самим Николай позволял себе расслабляться. Любил и подурачиться, и пошутить, и смеялся так, что при его росте падал со стула. Рисовал карикатуры и даже под настроение весьма соблазнительные картинки. Обожал фарсы и все, вывернутое наизнанку. Потешное. Издевательское. Хорошо, что сам первый спохватывался и всегда извинялся. В противном случае был бы тяжел.
Но что будет, если подданные увидят своего государя таким? Потеряют уважение? Перестанут слушаться? И в конце концов убьют? Разве прежде венценосных особ лишали жизни только по наущению злых жен? Нет, монархов убивают из страха. Парализующего страха перед их беспомощностью.
Николай как-то сам собой, без дополнительных пояснений, проникся этим знанием. Почувствовал звериную повадку подданных: покажет слабину – порвут. Как писал Державин: «Чрез меру кроткий царь царем быть неспособен». Люди привыкли строиться под сильного. Их можно понять. Каждые 20 лет война. Иногда чаще. Проиграл – беда. Страны нет. Ее жителей тоже. А потому они должны ощущать в нем стену. Нерушимую преграду. Между собой и кровавым хаосом.
Такой преградой не были ни Петр III, ни даже несчастный батюшка Павел I. Был ли добрый Ангел? Может статься. Но и у него иссякли силы. А вот дорогой Константин, несмотря на хмурые брови и вечный окрик, – нет. Ибо ему не по зубам. Что события междуцарствия отчетливо показали. Боится смерти. Хочет, чтобы его оставили в покое.
Не получится.
«Тягостные чувства»
При встрече в Варшаве, когда ехали через мост, лошадь великого князя заартачилась и не пошла дальше. Константину пришлось спешиться. Это приняли за знак судьбы. Два католических кардинала, сидевшие рядом с Александром Христофоровичем во время торжественного обеда, сказали ему о государе: «Если бы он захотел управлять нами сам так, как он это делает в России, то мы бы с удовольствием отдали бы ему конституционную хартию со всеми ее преимуществами».
В том-то и беда, что конституция при Константине нарушалась поминутно и действовала только тогда, когда на ее основании старший брат-цесаревич хотел в чем-то отказать младшему-императору. Казалось, великий князь «робел в присутствии» своего сюзерена. Но на самом деле «пребывание государя стесняло» его. «На протяжении долгих лет он привык подчиняться только самому себе, вошел в обыкновение приказывать, как начальник. Теперь, когда он был вынужден как минимум подавать пример подчинения, он опасался преследующего взгляда императора, зная о том, что существует недовольство теми решениями, которые он позволял себе принимать».
Первая – знаменательная – стычка между братьями произошла по поводу Литовского корпуса. Константин хотел, чтобы войска, как прежде, комплектовались из польских выходцев. Это привязывало корпус к Царству. Император, напротив, настаивал, чтобы места занимали уроженцы центральных русских губерний. Такое положение притягивало крупную военную единицу к России и обеспечивало ее преданность. Неоднократные ходатайства великого князя были отклонены. Константин надулся. Но нынешний император не был Ангелом. Он мог позволить себе и не нравиться. Говорил прямо, чего хочет, и требовал исполнения.
По его приказу из Петербурга доставили императорскую корону, «чтобы показать, что для обеих стран есть только» один венец.
Тем не менее во время коронации русские подданные находились не в своей тарелке. «Мы же испытывали там тягостные чувства, – писал Бенкендорф. – Я не мог избавиться от болезненного и даже унизительного ощущения, которое предсказывало, что император Всея Руси выказывает слишком большое доверие и оказывает слишком большую честь этой неблагодарной и воинственной нации».
Уж слишком всерьез Николай I воспринял церемонию. «Вернувшись в свои апартаменты, император послал за мной, – вспоминал шеф жандармов. – Видя, что я взволнован, он не скрыл от меня, насколько его рыцарское сердце переполнено чувствами». В тот миг Николай I верил, что исполнение клятвы возможно. Хотя давно знал правду.

Великий князь Константин Павлович
В детстве у него была няня-англичанка мисс Евгения Лайон. Николай ее обожал. Когда она следовала в Россию в 1795 г., в Польше началось восстание, ее захватили вместе с русскими дамами и шесть месяцев держали в крепости, пока А. В. Суворов не взял город.
Нынешнему государю не было и пяти. Он играл на полу в детской, а няня вязала в уголке, перебрасываясь с горничной ничего не значащими фразами. Речь коснулась Польши. И бонна порассказала глупенькой девочке, какие такие бывают галантные ляхи. Женщинам и в голову не пришло, что ребенок понимает больше, чем кажется.
«Что ты строишь, Ники?» – ласково спросила мисс Лайон, когда горничная удалилась. «Дачу для тебя». – Великий князь нагораживал стулья и натягивал на них сверху покрывала. «А зачем пушки?» – удивилась та, трогая носком туфельки игрушечную мортиру. «Чтобы поляки тебя не украли».
Находясь в Варшаве, Николай всегда испытывал напряжение. Каким бы веселым и солнечным ни был город, как бы беспечны ни казались обитатели, он чувствовал угрозу, будто перед ним картонная декорация, за которой таится неизреченный ужас. Государь бы никогда не согласился здесь жить. Ему претило притворство, а в Польше на каждом шагу приходилось улыбаться неприятным людям. Брат Александр прежде чувствовал себя как рыба в воде, его ремесло состояло в том, чтобы обольщать и очаровывать. А Николай предпочитал честный поединок. Друг так друг. Враг так враг. Горько потерпеть поражение. Но уж если победа на его стороне, повинуйтесь. Ногу на грудь и – удар милосердия.
И в этот раз, во время коронации, государь сам как-то почувствовал фальшь. Закусил губу. Стал молчалив. Пока ехали из Польши, хмурился. Наконец бросил: «Я их, по крайней мере, не обманываю».
Все следовало менять и надеяться, что нарыв не прорвется раньше времени.
Глава 7. «Дорожные жалобы»
Колеса снова наматывали на себя дорогу, а домом и не пахло.
Ни огня, ни черной хаты,
Глушь и снег… Навстречу мне
Только версты полосаты
Попадаются одне…
Так и ездили. С 1828 г. почти не переставая.
Опрокидывание экипажей, и «непроворные инвалиды» случались с завидной регулярностью. Однажды государь сломал ключицу. А в другой раз падение было столь резким, что оба спутника простились с жизнью и в последний миг «хором» подумали об одном и том же: так проходит слава земная.
Год назад, на Дунае, въехали в лес. Эскорт отстал. Кругом темно. Разбойники есть ли, нет ли – не поймешь. Бенкендорф признавался, что за всю жизнь не испытывал такого страха. Охрана императора на нем. А у него в руках ничего, кроме сабли… Едва за опушкой развиднелось, на фоне черного неба засветились огни лагеря. Чьего – неясно.
Государь продолжал что-то обсуждать, а его спутник притих, отвечал на реплики невпопад. Руку держал на эфесе. «Наши, – бросил император. – Костры на равном расстоянии». Действительно, регулярный, «римский» порядок. Вскоре сахарными головами забелели палатки, тоже разбитые через строгие интервалы одна от другой. Оплошал. Даже не стал присматриваться…
Зато в других случаях дорожный опыт Александра Христофоровича брал верх над привычной, дворцовой щепетильностью государя. Он не понимал, зачем в путь непременно жарят гусей и уток. Не знал, как поступать с жирными руками. Почему в шаньгу из гречневой муки запекают яйцо в скорлупе.
Проще было показать. Александр Христофорович разламывал пирожок, нарочито долго тер ноздреватым черным хлебом руки. Потом вынимал яйцо, лупил, ел. Разрывал напополам хрустящую от жареной корочки курицу. Подавал половину государю, который сам вдумчиво катал между пальцами ржаное тесто. Завершив трапезу, снова стирал жир с ладоней хлебным мякишем – и руки опять чистые.
Иногда утром в дороге генерал позволял императору поспать: молодые спят крепко. А сам работал. Как-то на станции набились просители. Губернатор, боясь обременять царственного гостя, их прогнал. «Напрасно, – остановил Александр Христофорович. – Государь делами не скучает». Велел всем остаться. Выслушал, чего хотят. Заранее предупредил, какое будет решение. Но, если не согласны, могут сами проверить.
«Пушкин-кукушкин»
На дороге же настигали сообщение о Пушкине. Опять не слава Богу! Сбежал из столицы? Может, оно и к лучшему? Бенкендорф послал гневное, но вежливое письмо к обер-полицмейстеру. Получил формальный ответ. А больше-то что? Погуляет, вернется.
Недаром генерал А. Н. Мордвинов – старый, опытный служака – писал, что Пушкин опасен, «как неочищенное перо». Поездка его устроена картежниками, у которых поэт в клещах. Но не по бедности, а по распутству жизни. Каждую ночь банк, шампанское. «Так в ненастные дни занимались они делом». Бывало по молодости и с самим Бенкендорфом. Он ведь только что с медведями не танцевал. Актрис увозить? Пожалуйста – увез аж из Парижа. Самую великую драматическую диву Франции. Больно вспомнить. Вся жизнь напополам. А у Пушкина? Завел невесту. Едет обирать молодых офицеров в карты. Шалопай!
На такие донесения собственных чиновников Александр Христофорович мог только прыскать в платок. Ничего, кроме забавного, они в себе не заключали. «Ни он не затеет ничего в своей ветреной голове, ни его не возьмет никто в свои затеи. Это верно! – писал Мордвинов еще в марте. – Предоставьте ему слоняться по свету, искать девиц, поэтических вдохновений и игры… Ему, верно, обещают золотые горы на Кавказе, а когда увидят деньги или поэму, то выиграют – и конец».
Позднее сын Вяземского Павел подтверждал мнение Мордвинова: «Поездка Пушкина на Кавказ и в Малую Азию могла быть устроена действительно игроками… в простом расчете, что они… встретят скучающих богатых людей, которые с игроками не сели бы играть и которые охотно будут целыми днями играть с Пушкиным, а с ним вместе и со встречными и поперечными его спутниками».
Сие лишь подозрения. Но подозрения правдоподобные. Шулера могли «угощать его живыми стерлядями и замороженным шампанским, проиграв ему безрасчетно деньги на его путевые издержки».
Впрочем, все это – не дело правительства. Ведь высший надзор не нанялся стеречь ни карман поэта, ни карманы тех несчастных, которые сядут с заезжей знаменитостью за зеленые столы. А поскольку Пушкин «из тех людей, у которых семь пятниц на неделе», то ждали его скорого возвращения в Москву или Петербург.
Однако Пушкин поехал далее. Всю дорогу приходили докладные о его выходках. Надо признать, весьма смешные. Вот изрисовал стену в ночлежной избе картинками, а инвалид стер, ворча: «Может, Пушкин, может, Кукушкин, а нам отвечать!» Вот чуть не соблазнил калмычку и, если бы она не ударила его балалайкой, сорвал бы у степной Цирцеи с уст поцелуй с полынным привкусом. Вот в красной рубахе, с длинными ногтями, ходил пугать осетин в деревне и требовал, чтобы им сказали, будто он черт… Те начали швыряться камнями. Дикие люди, простодушные.
А вот то, что заехал к Ермолову, – уже не столь потешно. К Алексею Петровичу все ездили прикладываться, как к Иверской, перед дорогой. Но не надежен. Мало ли что дурное скажет о нынешнем правительстве. Из Москвы доносят, что бывший «проконсул» Кавказа с трудом переносит свое бездействие. Кто виноват? Таланта много. Амбиций тоже.
Зачем он Пушкину? Опальный полководец романтичен. А Паскевич, пользующийся полным доверием и одерживающий вполне официальные победы, – скучен. Романтик будет искать драмы. Коллизии судеб. Хотя вся драма в склочном характере и замашках солдатского императора.
В Кавказском корпусе при грозном Ермул-паше зрел не то чтобы заговор – так, расплодилось гнездо недовольных. Впрочем, кто тогда ходил довольным? Об этом многое узналось на следствии. Вряд ли Алексей Петрович был в чем-то серьезно замешан. Просто покрывал роптунов и показывал свое полное благоволение именно этим людям.
Возьми они завтра власть, и без него бы не обошлись. Как и без многих других. Революционные генералы. Мигом бы сняли царские эполеты – «наплечные кандалы», как их называет Денис Давыдов, – и нацепили бы трехцветные кокарды. Тот факт, что Пушкин решил подружиться именно с Ермоловым, доверия к поэту не прибавлял.
По дороге путешественник шалил, как дитя, вырвавшееся из-под опеки родителей. Садился на казачьего коня и с пикой наперевес преследовал шайки горцев, норовившие нападать на караваны. Называл молоденького офицерика, главу партии, «отец-командир», чем вгонял юношу в краску смущения.
Наконец, в Тифлисе подпал под начальственный взгляд Паскевича, сколь попечительный, столь и придирчивый. Однако, возможно, в столице Грузии командующий поэта не видел, какие бы красочные истории об этом ни рассказывали: Иван Федорович все это время находился на театре военных действий. А Пушкин в мирном городе еще задержался. Игроки? Об этом ничего не известно.
Зато хорошо запомнилось другое. В сердце Грузии хлебосольно и весело поэта чествовала вся тамошняя читающая публика – офицеры, местные чиновники, барышни. Кроме них, явилась горсточка высшего генералитета – «не потому чтобы прочла», а из оппозиции к Паскевичу, заодно и ко всему, что из Петербурга. В обиде за Ермолова любой гонимый мил.
Местная аристократия тоже носила поэта на руках, но совсем из других видов. В Грузии, оказывается, певец, отмеченный рукой Небес, – не то что у нас – чуть юродивый, чуть святой, но в общем добрый малый. На Кавказе поэты вызывают священный трепет и держатся важнее турецких улемов. Ученые, да и только. Правда, они не прыгают на одной ножке, не играют с чумазыми мальчишками в чехарду, не примеряют в лавке все, какие есть, чуреки и не едят арбузы прямо на улице, прислонившись к стене дома, сплевывая семечки под ноги и давясь красным липким соком.
Нет, ничего этого благословенные поэты со времен царицы Тамары не делали и делать не собирались. Но раз у русских так принято…
Посему каждый день для Пушкина накрывался то обед, то ужин, то завтрак на траве десятками почитателей. Наконец, все они соединились, чтобы, арендовав живописный сельский виноградник на крутом берегу Куры, устроить нечто феерическое. В «европейско-азиатском вкусе» со свечами в листве, музыкой, баядерками, шампанским, бродячими поэтами, которые читали свои стихи на десятке местных диалектов. Между ними вклинивались чтецы из поклонников со стихами самого Пушкина.
Напившись и откинувшись на руки друзей, поэт восклицал: «Я никогда в жизни не был так счастлив, как в этот день».
Инкогнито в Берлине
Все ожидали, что после коронации из Польши государь вернется в Петербург. А его супруга переедет границу Пруссии, чтобы встретиться с родней. Так думали и европейские дворы. Их неведение о планах императора было на руку. Ибо Николай I умел планы менять.
Международные обстоятельства между тем складывались самым неблагоприятным для России образом: она побеждала. А после разгрома Наполеона наступила эпоха, когда в борьбу за гегемонию на континенте уверенно вступила Англия. Значит, горе победителям. Если они, конечно, не в красных британских мундирах.
Даже в Петербурге общественное мнение открыто говорило об английских агентах. В отчете III отделения за 1828 г. сказано: «Австрия и Англия ведут здесь (в столице. – О. Е.) систематический шпионаж… их происки направлены не только на то, чтобы добывать нужные сведения о политических планах нашего кабинета, но и чтобы воздействовать на него путем ложных конфиденциальных сообщений… В обществе говорят, что… Англия тесно связана с Австрией общими интересами, а именно чтобы препятствовать росту России и ослаблять ее значение в Европе. Говорят, что, если бы русским удалось перейти Балканы и двинуться на Адрианополь, Австрия в согласии с Англией объявила бы России войну, постаралась бы поднять Персию и Швецию».
Все это были только разговоры. Но разговоры весьма определенные. Уже знакомый нам британский агент капитан Джеймс Александер описал случай, когда к нему на Невском подошла полька-модистка и показала парижскую газету. Там было написано, будто Англия посылает против России две эскадры. В Черное и в Балтийское моря. Бомбардировать Севастополь и Петербург. «Такую взбучку русские нескоро забудут», – заявила собеседница. Сколько бы Александер ни опровергал слух, модистка оставалась при своем мнении, повторяя: «Но ведь вы же назначены господином шпионом».
В Севастополе Александеру довелось общаться с командой британского фрегата «Блонд», в разгар военных действий совершившего учебное плавание из Константинополя через Черное море. Слухи, возникшие по поводу этого события, весьма красноречивы: утверждали, что «началась война с Англией и фрегат предшествует остальному флоту», «упрекали военные власти за то, что они позволили пройти английскому кораблю мимо батарей».
Александера арестовали, но за недостатком улик отпустили. Однако от истории с «Блондом» остался неприятный осадок. В Петербурге прекрасно поняли, на что намекают вчерашние союзники: английское судно может дойти от Босфора до Крыма за сутки с небольшим.
Положение было сложным. Воюя на поле боя с Турцией, Петербург сталкивался с солидарными дипломатическими усилиями Вены, Лондона, Парижа и даже Берлина.
«Всегда ревниво относившиеся к России европейские державы, – писал Бенкендорф, – со страхом взирали на разгоравшуюся против Турции войну, в которой они уже предвидели ее неизбежное поражение и усиление мощи нашей империи. В ревнивых глазах правительств наш молодой государь, увлеченный дорогами побед, нарушал всю систему европейского равновесия»
Петербургу уже показали, что, несмотря на все его желание не ввязываться в конфликт при неясных внутренних обстоятельствах, войну легко устроить руками «диких племен» на Востоке. Потом, давая субсидии Турции, затягивать сколь угодно долго. И наконец, закончить в удобный для не втянутых в противостояние сторон, предложив свою посредническую помощь. Иными словами, судьбой России владеет не она сама: для нее могут создать, продолжать и прекратить войну по желанию извне. При этом Петербург будут ругать и наказывать, как если бы он сам нарушил договоры, отказывался мириться и стремился уничтожить соседнюю страну.
«Император был спокоен и силен сознанием своей правоты и совершенно не желал упускать победу, – сообщал Бенкендорф. – Он отклонил добрые услуги иностранной дипломатии и приготовился ко второй кампании».
В этот момент возникла угроза повторного вступления в войну Персии. «Наш посланник… господин Грибоедов, человек умный, но, возможно, несколько неосторожный, настроил против себя население Тегерана… которое только и ждало случая, чтобы восстать». Практически вся русская миссия оказалась вырезана. «Нанесенное оскорбление было слишком сильным и грозило новым разрывом отношений».
Россия должна была сделать все от нее зависящее, чтобы не допустить за спиной у Паскевича еще одного противника. Этим, а вовсе не враждебностью к автору «Горя от ума» объяснялись мягкая позиция на переговорах и тот факт, что Николай I принял извинения от персидской делегации, объявив дело «небывшим».
Кстати, Джеймс Александер общался и с членами персидской миссии, когда они проезжали через Москву. Под его пером разговоры выглядели вполне невинно. Персы превозносили англичан, которые, в отличие от Грибоедова, уважают их традиции. Твердили о досадной случайности при гибели русского посла. И жаловались на то, что им не дают в Первопрестольной спокойно пить мокко – все время куда-то ведут и что-то показывают. Но сам факт контакта британского агента с персами в столь опасный момент не мог не настораживать.
Александер тоже сетовал: в России-де трудно работать. «Русские – большие мастера всяческих уловок, а уж полицейский агент – настоящая лиса. Он способен принять любой облик, чтобы достичь своей цели: иногда это – крестьянин в лаптях… иногда – исправный солдат, иногда коробейник. Одним словом, русский полицейский, подобно Протею, может надеть любую личину». Неужели «господин шпион» полагал, что его оставят совсем без присмотра?
Тем временем дорога императора, а вместе с ним и Бенкендорфа лежала в Пруссию. Николай не хотел позволить своему тестю, королю Фридриху-Вильгельму III – Папа, – уклониться от встречи. Тот уже и ссылался на здоровье, и направлял вместо себя на границу Пруссии и Польши принцев – братьев императрицы. Мол, никак не могу приехать. Причиной таких странных экивоков было давление Австрии на соседа. Вена, «видя, что Молдавия и Валахия стали российскими провинциями, встревожилась и… вызывала недоверие к нам Берлинского кабинета».
Это «недоверие» предстояло побороть, уклониться от посреднических усилий Австрии или любого другого европейского двора. И навязать миссию миротворчества собственным родственникам.
В отчете III отделения сказано, что Австрия стремилась «получить главенство над славянскими провинциями в целях удаления от России ее естественных помощников». Петербургу не позволяли выйти из войны своими силами, стараясь истощить Россию затянувшимися боевыми действиями. Основой же мирного плана было сохранение Турции «достаточно сильной для того, чтобы она могла… во всякое время производить диверсии».
Николай Павлович инкогнито переехал через прусскую границу в сопровождении одного Бенкендорфа. И играл на немецких землях роль его адъютанта. Цель императора состояла в том, чтобы застать венценосного тестя врасплох, не дать его министрам подготовиться и навязать переговоры о мирном посредничестве именно Берлину.
Надо заметить, что население Пруссии, за долгие годы привыкшее видеть в России союзника, восторженно приветствовало императрицу, свою бывшую принцессу, и присоединившегося к ней государя. Еще никто не осознавал изменения политического ветра. Напротив. Когда Николай I сбросил свое инкогнито, восторгам толпы не было предела.
По-семейному договориться с Папа не составило большой сложности. А вот рассуждения с министрами, настроенными весьма враждебно, Александру Христофоровичу пришлось взять на себя.
К чести нашего героя, он провел их безупречно: пруссаки дали себя убедить. Министр иностранных дел граф Х. Г. Бернсторф тоже старался уклониться от встречи, заявляя, что «мучительная болезнь удерживает его дома». Бенкендорф явился к нему. «Я нашел его крайне пораженного завоевательными планами, приписываемыми политике императора», – сообщал Александр Христофорович. Пришлось напомнить о том, что «он сам первый» обнадеживает Турцию насчет слабости России, заставляя императора «применять более значительные силы». Что «империя сгорает от нетерпения показать Европе, что она не боится угроз».
Пруссии предоставлялась возможность «сыграть роль миротворца… Мы удовлетворимся гарантиями, которых требует наша торговля… В качестве доброй услуги тестя своему зятю… король может сообщить в Константинополь о наших мирных намерениях».
Дело тронулось с мертвой точки. Ведь любое посредничество поддерживало реноме двора, который выступал миротворцем.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.