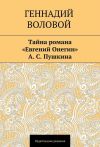Автор книги: Ольга Елисеева
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
Брат Михайла
Второй предмет, о котором они говорили, – Пушкин. И тут генерал-губернатор вообще не нашел что сказать хорошего. Он терпеть не мог такие характеры, как у Байрона, и людей, которые ведут себя так, что всем остальным становится неловко.
Но вот за жену – паче общего убеждения – был спокоен.
В 1824 г., когда накануне высылки из Одессы поэт решил объясниться с Елизаветой Ксаверьевной, «он прибежал впопыхах с дачи Воронцовых весь растерянный, без шляпы и перчаток, так что за ними посылали человека от княгини Вяземской». Значит, таков был разговор, что Пушкину пришлось бежать по жаре. Генерал-губернаторша тогда жила на взморье, на хуторе Рено, а неподалеку снимала хутор Вера Федоровна с маленьким сыном. Именно ее доброхотному языку графиня была обязана распространению нелестных слухов о романе с поэтом. Между тем «простая добрая баба», как именовал Вяземскую поэт, всего лишь хотела отвлечь публику от своего вольного поведения с другом мужа.
Среди неотосланных пушкинских писем есть одно – неизвестной даме. Оно не окончено, не датировано и первоначально относилось исследователями к июню – июлю 1823 г., поскольку лежало среди бумаг этого периода. Признак очень зыбкий: документ может затеряться и быть переложен. Позднее появилась более обоснованная датировка, относящая письмо к началу приезда Вяземской в Одессу, когда она, Воронцова и Пушкин втроем прогуливались по берегу моря.
В письме описана ситуация, очень близкая к рассказу Вяземской о бегстве Пушкина с дачи Рено. «Не из дерзости пишу я вам, но я имел слабость признаться вам в смешной страсти и хочу объясниться откровенно. Не притворяйтесь, это было бы недостойно вас – кокетство было бы жестокостью, легкомысленной и, главное, совершенно бесполезной, – вашему гневу я также поверил бы не более – чем могу я вас оскорбить; я вас люблю с таким порывом нежности, с такой скромностью – даже ваша гордость не может быть задета… Припишите мое признание лишь восторженному состоянию, с которым я не мог более совладать, которое дошло до изнеможения. Я не прошу ни о чем, я сам не знаю, чего хочу, – тем не менее я вас…»
Датировке приведенного письма помогает строка: «Будь у меня какие-либо надежды, я не стал бы ждать кануна вашего отъезда, чтобы открыть свои чувства». Пушкин объяснился с Воронцовой на даче Рено 30 июля 1824 г., буквально за день до того, как графиня покинула Одессу, чтобы отправиться к матери в Белую Церковь. Сам поэт выехал в новую ссылку под Псков 1 августа. О том, что между героями, вопреки желанию ряда исследователей, не случилось романа, свидетельствует пушкинская эпиграмма на графиню, написанная уже в Михайловском, по горячим следам уязвленного сердца:
Лизе страшно полюбить.
Полно, нет ли тут обмана?
Берегитесь – может быть,
Это новая Диана
Притаила нежну страсть —
И стыдливыми глазами
Ищет робко между вами,
Кто бы ей помог упасть.
Поэт понимал, что его отвергли, но не верил в искренность отказа. Пока для него «Верная жена» – комедия, которую играют женщины, не решивши еще, с кем бы «упасть». Слова «между вами» – отсылка к друзьям, оставшимся в Одессе, тогда как сам Александр Сергеевич вышел из игры. Отзвуком этого ощущения полно и приведенное письмо.
После всего этого, после крайне оскорбительной эпиграммы Воронцов сохранил невозмутимость и не стрелялся с поэтом. Чем только подчеркивал: они не ровня. Генералы с коллежскими секретарями не дуэлируют. Что, конечно, еще более бесило Пушкина. Ибо 400-летний дворянин никому не уступит!
Предположения, будто струсил, нелепы. Михаил Семенович, по свидетельству сослуживцев, был абсолютно бесстрашен, даже начинал скрыто презирать любого, в ком замечал тень испуга. При этом сострадателен и милосерден. С Бородинского поля графа привезли в коляске в Москву. Там готовился к эвакуации дом его покойного дяди-канцлера, теперь наследство самого Воронцова. Молодой граф приказал разгружать телеги с золотыми приборами, коврами, мебелью и класть на них раненых, которые валялись по улицам. Повез в родовое имение Андреевское. Устроил госпиталь. Лечил на свои же деньги. На втором этаже барского дома весь паркет был в метках от костылей…
Потом, уже после войны, когда Воронцов командовал Оккупационным корпусом во Франции, узнал, что господа офицеры наделали долгов у местных лавочников. А отдавать нечем. Весна, победа, девушки… Заплатил за всех.

М. С. Воронцов. Художник К. К. Гампельн
И в Мобеже, где стоял корпус, и в Одессе графа любили. По мнению подчиненных, «он не мог сделать ничего несправедливого, немудрого, не тонкого…». Ему кадили даже за глаза. То-то Пушкин невзлюбил обедов у его сиятельства:
Он улыбнется – все хохочут.
Нахмурит брови, все молчат.
Он здесь хозяин. Это ясно…
Ведь влюбленность в прекрасную генерал-губернаторшу – только повод для ссоры. Причина же в соперничестве иного рода. Денди не должен терпеть ничьего превосходства. Его обязанность – добиться первенства в любом обществе, куда он вступает. Отобрать женщину. Опозорить. Потому и «полугерой, полуподлец». Повторять не хочется.
Под конец брат Михайла удивил. Он, оказывается, только что прочел «Руслана и Людмилу» – через 11 лет после написания, – а разве у генерал-губернатора мало бумаг? И восхитился. «Какой у нас удивительный язык. Сколько красоты, гармонии… Может, и мы когда-нибудь станем переписываться по-русски?»
Может быть.
Бенкендорфу тоже было на что жаловаться. Как хорошо жилось, когда раньше молодыми ругали правительство! Теперь правительство – это они. Ругать некого.
Что до Пушкина, то на него никакого ума не хватит. Но самое худшее – у поэта явилась тьма непрошеных покровителей. В первую очередь дам. С которыми ухо востро. Вмиг обнесут перед государем.
«Grand gala»
С первой из таких дам Александр Христофорович сталкивался даже слишком часто. Она познакомилась с Пушкиным еще в 1826 г., во время коронации, а в следующем попыталась взять его под крыло.
Елизавета Михайловна Хитрово – «Лиза grand gala», как ее дразнили в городе за любовь к музыке и неуместное стремление обнажать плечи. Дочь фельдмаршала Кутузова, супруга барона Тизенгаузена, потом нашего посла в Неаполе Хитрово, она осталась после его смерти с двумя дочерьми от первого брака и при очень скромном содержании. Покойный государь Александр Павлович воззрел на ее бедствия и поправил дело солидным пансионом, что позволило Елизавете Михайловне вернуться в Россию уже гранд-дамой с дочерью Катей.
Последняя имела неосторожность понравиться в Италии прусскому принцу Вильгельму, брату нашей императрицы. Был роман. Елизавета Михайловна повсюду преследовала юношу, как гончая. Требовала жениться. Но дело замяли. И в отечество мадам Хитрово приехала уже с воспитанником, маленьким князем Эльстоном, на содержание которого берлинский двор отпускал солидную сумму. Мальчика назвали Феликсом, что значит «счастливый». Действительно счастливчик – племянник императора, и, как бы закрепляя родство, отчество ему дали Николаевич.
Сама же Катрин Тизенгаузен, скромная и довольно застенчивая, снова ходила в девицах. Таков свет. «Он не карает заблуждений,/ Но тайны требует для них». Потом из Вены приедет старшая сестра Екатерина – Долли – с мужем-послом Фикельмоном, и семейство воссоединится.
Все эти сокрытые от посторонних глаз пружины ставили Елизавету Михайловну очень близко к императорской семье и делали своей в дипломатическом корпусе. Опасное сочетание.
Кроме того, эту даму считали проводником австрийской «инфлуенции». Что Александр Христофорович не утаил от государя при составлении отчета своего ведомства: «В обществе говорят, что Австрийская политика начинает опять (со времен Александра I. – О. Е.) приобретать влияние… Госпожу Хитрово называют австрийским агентом».
Если бы Пушкин чаще посещал гостиную Хитрово, то вызвал бы только еще больше вопросов у властей.
Вяземский, которому не было до иностранных шпионов никакого дела, оставил о Елизавете Михайловне самые трогательные, самые восторженные воспоминания: «Утра ее (впрочем, продолжавшиеся от часу до четырех пополудни), и вечера дочери ее графини Фикельмон неизгладимо врезаны в память тех, которые имели счастье в них участвовать… Вся животрепещущая жизнь европейская и русская, политическая, литературная и общественная, имела верные отголоски в этих двух родственных салонах. Не нужно было читать газеты… в этих двух салонах можно было запастись сведениями о всех вопросах дня, начиная от политической брошюры и парламентской речи французского или английского оратора и кончая романом или драматическим творением одного из любимцев той литературной эпохи… А какая была непринужденность, терпимость, вежливая, и себя и других уважающая свобода в этих разнообразных и разноречивых разговорах. Даже при выражении спорных мнений не было и слишком кипучих прений; это был мирный обмен мыслей, воззрений, оценок…»
Елизавета Михайловна принадлежала к числу тех женщин, которых годы не то чтобы красят – примиряют с несовершенством натуры. Она выдалась в отца, только что не крива на один глаз. Ее тучное тело требовало не корсетов, а белых лосин, обтягивающих ляжки и живот. А круглая физиономия – белой же ермолки, в которой так часто изображали Кутузова. Этой фигуре не соответствовали ни тонкий ум, ни острый язык дамы, которые вкупе с манерами львицы превращали ее в арбитра светской жизни.
Прибыв в столицу, она обзаводилась новыми полезными знакомствами и возобновляла старые родственные связи, подзабытые за годы «австрийского пленения». По матери мадам Хитрово принадлежала к Бибиковым.
Бибиковы же были частью семейного клана Бенкендорфа. Родней первого мужа добрейшей Елизаветы Андреевны. Через них Александр Христофорович примыкал к старой русской знати и мог иметь влияние в этом кругу.
Женившись, он и не предполагал, что у Елизаветы Андреевны такая заметная родня. А тут выяснилось: нет, не к побочной ветви могучего рода когда-то примыкала правнучка полковника Донца. Не с дальней порослью скрестили дичку-яблоньку. С самим что ни на есть великим и многоплодным деревом.
Бибиковы – старинное семейство, въевшееся в землю, перекрестившее нити грибницы с таким числом знатных фамилий, что не сосчитать. Их, как зуб тянуть, не вытянешь, скорее скулу своротишь. Прежняя свекровь – Екатерина Александровна – всей Москве либо сватья, либо крестная. Ее даже в глаза зовут grangranmaman. Пятьдесят два внука. Покойный муж этой дамы – родной брат княгине Голенищевой-Кутузовой, жене фельдмаршала. А та – баба ушлая, без мыла в любое присутственное место…
Между тем под покровительством Бенкендорфа находилась не только бывшая невестка старухи Бибиковой, но и сироты ее старшего сына – две падчерицы. Они давно называли Александра Христофоровича papa. Он не возражал. Но сие не повод лишать их законного наследства от погибшего родного отца. Недаром шефа жандармов именовали «образцовым отчимом».
Именно Александр Христофорович когда-то заставил родную бабушку выделить им приданое из того, что осталось за отцом. Вышло недурно. От grangranmaman по дарственной к внучкам перешло: Кате тысяча пятьсот душ, а Елене каменный дом в Москве, старый Пречистенский дворец, еще с екатерининской мебелью, картинами, сервизами, столовым и постельным бельем.
За это он обеспечил покровительство и рост по службе всем Бибиковым. А через них удавалось сдерживать пылкий темперамент мадам Хитрово, чуть что собиравшейся в крестовый поход на защиту Пушкина. «Она была неизменный, твердый и безусловный друг друзей своих… в ней дружба возвышалась до степени доблести. Где и когда можно было, она за них ратовала, отстаивала их, не жалея себя, не опасаясь за себя неблагоприятных последствий, личных пожертвований от этой битвы не за себя, а за другого». Вяземский знал, что говорил. За него Елизавета Михайловна тоже умела замолвить словечко.
Правда, летом этого года Пушкин и его влиятельная поклонница, говорят, поссорились. Генерал не вдавался в подробности, но, если верить слухам, почтенная матрона воспылала к Прекрасному Иосифу русской литературы «языческой любовью» и вела себя непристойно. Рассказывали даже о какой-то разорванной рубашке.
Врут, конечно.
Плохо другое. Пушкин тут же сблизился с дамой еще более непредсказуемой и опасной. С Аграфеной Закревской, супругой нового министра внутренних дел. И вот это уже была проблема.
«Медная Венера»[7]7
«Медной Венерой» Пушкин и Вяземский называли в переписке графиню Закревскую (урожденную Толстую) за «медный», золотисто-рыжий цвет волос, хорошо заметный на ее портрете кисти Доу.
[Закрыть]
Конечно, беда крылась не в самой графине Закревской. Таких женщин Бенкендорф одобрял.
Венера-искусительница. Львица, отдыхающая от полуденного зноя. Возьмет то, что ей нужно, и не подумает никого смущаться. Скромность, стыдливость, неведение – уздечки, которые слабые мужья надевают на тех, с кем природа поделилась первобытной силой.
Летом при осаде Варны, помимо прочего, шеф жандармов задумывался: а что лично для него значит роман Пушкина с мадам министершей? Может ее супруг, по просьбе жены, оказать сочинителю покровительство в каком-нибудь деле? И если да, то какая выйдет министерская пря! Из-за коллежского секретаря. Забавно!
Между тем Пушкин благоденствовал в дружеских объятиях графини Закревской и уверял себя в том, что ему никто не причинит зла, пока его пассия имеет достаточно влияния на мужа.
Да, да, их связывала дружба. Так бывает между пресыщенной умной женщиной с богатыми задатками и молодым одаренным мужчиной, которым нечего предложить друг другу, кроме полного, абсолютного понимания.
Когда твои младые лета
Позорит шумная молва,
И ты по приговору света
На честь утратила права;
Один среди толпы холодной
Твои страданья я делю
И за тебя мольбой бесплодной
Кумир бесчувственный молю…
Не пей мучительной отравы;
Оставь блестящий, душный круг;
Оставь безумные забавы;
Тебе один остался друг.
Аграфена была не только лакомым куском, но и крепким орешком. Об нее легко ломали зубы и покойный государь Александр Павлович, и муж, и десятки кавалеров, чьи имена сохранила лишь светская хроника, а сама красавица мигом выкинула из головы. Она не помнила зла, но всегда искала новизны ощущений.
Между тем с недавно назначенным министром внутренних дел отношения Бенкендорфа были из рук вон. Еще с 1820 г., со времен бунта Семеновского полка, когда Главный штаб, дежурным генералом которого был Закревский, попытался переложить ответственность за случившееся на плечи одного Александра Христофоровича, тогда начальника штаба Гвардейского корпуса.
Его сделали крайним. Причем во время выступления солдат из всего руководства только он находился в городе – остальные разъехались на дачи и на просьбы явиться не отвечали двое суток. Тогда Бенкендорфу пришлось одному разговаривать со служивыми. А потом еще выслушивать упреки спрятавшихся: почему не доносил, что негодяй полковник Шварц оскорбляет семеновцев?
Доносил. И в Главном штабе под сукном лежали его сообщения, что Шварц – креатура Аракчеева – не годен. Не годен, но угоден, отвечали ему. И дальше дело не шло.
Доигрались в политику!
При разбирательстве «семеновской истории» Закревский написал рапорт о том, чего своими глазами не видел: «Бенкендорф, генерал иностранный, просто не умел прилично действовать; он не знает достаточно русского солдата, не умел хорошо объяснить по-русски и не знает, какими выражениями и какой твердостью должно говорить с солдатом, чтобы заставить себя понимать и повиноваться».
Это он-то не умеет разговаривать с русским солдатом? А всю войну через переводчика беседовал?
Такого не забывают.
После назначения Закревского министром внутренних дел трения между ними были неизбежны. Создайте в государстве две полиции и попробуйте разделить их функции, что получится? Бардак.
Арсений Андреевич настаивал на том, что тайный сыск должен находиться в его ведомстве. Как было при покойном государе. Но тогда же и проворонили заговор 14-го, возражал Бенкендорф. Новый государь хотел, чтобы высшая полиция подчинялась его канцелярии. Однако Корпус жандармов – внутренние войска – очевидно соперничал с полицией Закревского, и за него шла главная драка.
Им дела уголовные, нам – политические. Что делить? – недоумевал Бенкендорф. Арсений Андреевич надувался, как рыба-еж, и резонно отвечал, что из уголовных дел жандармы на месте стараются раздуть политику. Дабы оправдать свое существование, неизменно вворачивал он. А любое политическое преступление так или иначе отягощено уголовщиной.
Словом, министры делили шкуру, а медведь еще бегал, рычал и нападал на поселян.
С Пушкиным дело осложнялось еще и тем, что прежде надзор находился в ведении Министерства внутренних дел. После того как наблюдение за поэтом было восстановлено, им ведало III отделение. Но в неразберихе функций можно было переиграть хотя бы один частный случай. А не демонстрирует ли Пушкин свою независимость? Вот о чем следовало, но, как обычно, не хватало времени подумать.
Глава 5. «Поговорить откровенно»
«Я знаю, что это будет тебе неприятно и тяжело, – писал Пушкин Вяземскому в конце января 1829 г. о Бенкендорфе. – Он, конечно, перед тобой не прав; на его чреде не должно обращать внимание на полицейские сплетни…»
Хороши «полицейские сплетни» – прямое требование цесаревича Константина не пускать их в армию!
«Но так как в сущности это честный и достойный человек, слишком беспечный, чтобы быть злопамятным, – продолжал поэт по-французски, – и слишком благородный, чтобы стараться повредить тебе, не допускай в себе враждебных чувств и постарайся поговорить откровенно».
Вяземский остался при своем мнении. Но любопытно другое: Пушкин обвинял Бенкендорфа в беспечности. Не наоборот. Впрочем, считал хорошим человеком.
О да, он легкомыслен, потому что поминутно не занят делами поэта. Но благороден и сам, по душевному убеждению, не сделает зла.
Примерно то же, но о своем подопечном говорил шеф жандармов императору: «Он все-таки порядочный шалопай, но, если удастся направить его перо и его речи, он будет полезен».
Забавно. Они оценивали друг друга сходным образом. И оба норовили использовать. Насколько позволяло легкомыслие и благородство. В III отделении теперь всегда брошюровали пушкинские рукописи. А вскоре начнут и печатать.
Однако иной раз складывались такие обстоятельства, когда и шеф жандармов не мог помочь. Только сам государь. «Борис Годунов» и «Андрей Шенье» – мелочи в сравнении с «Гаврилиадой».
Развращение дворовых
В июне 1828 г. три дворовых человека отставного штабс-капитана Митькова подали петербургскому митрополиту Серафиму челобитную на своего хозяина, он-де читал им «Гаврилиаду» и тем развратил «в понятиях православной веры».
4 июля Митькова арестовали, а поскольку в обществе приписывали текст Пушкину, было принято решение «предоставить с. – петербургскому генерал-губернатору, призвав Пушкина к себе, спросить: им ли была писана поэма». 25 июля выписка об этом, подготовленная III отделением, пошла на юг, в действующую армию, к Бенкендорфу.
Что такое «развращать крестьян», Александр Христофорович знал со времен войны. Для этого вовсе не обязательно было таскать девок на сеновал. Достаточно хозяину самому колебаться «в понятиях православной веры».
Еще на краешке Смоленских земель, в селе Самойлове под Гжатском, казаки, споткнувшись об околицу, обнаружили мародеров. Большинство порубили сразу, к вящей радости мужиков и особенно баб. Крестьяне приходили ныть, чтобы им отдали пленных на истязание, которое перед смертью они полагали естественной расплатой за грабеж: им же на небесах легче будет, если здесь отмучаются. Бенкендорф отказал.
Серж Волконский вызнал у дворовых, что имение принадлежало их светской знакомой – Princesse Alexis. Княгиня Александра Голицына была тайной католичкой. Везде возила с собой аббатов и готовилась сама ехать в Америку, проповедовать среди дикарей.
Крестьянам между тем представлялось, будто хозяйка, водя дружбу со схизматиками, навела на их деревню французов. «Вот тебе аббат Николь! Вот аббат Саландр! Вот аббат Мерсье!» – вопили они под окнами разграбленного дома.
Волконский стоял на крыльце и помирал со смеху. Все перечисленные были его преподавателями в пансионе, где и Бенкендорф учился четырьмя годами старше. Он тоже давился хохотом, при этих грозных для детского слуха именах. Но было что-то странное в том, как княгиня сначала привела в имение добрых проповедников, а потом за ними пришли не столь добрые люди с оружием. Убивать, грабить, насиловать…
Дело о «развращении» дворовых Митькова могло бы показаться смешным, если бы поэма не оскорбляла Пречистую Деву. Сначала Пушкин отнекивался. Призванный к генерал-губернатору П. В. Голенищеву-Кутузову, он «решительно ответил, что сия поэма писана не им, что он в первый раз видел ее в лицее в 1815 или 1816 году и переписал ее».
Ему не очень поверили. Дело постепенно набирало обороты.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.