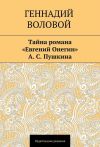Автор книги: Ольга Елисеева
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
Верю – не верю
Тем временем Пушкин рвался в действующую армию, под пули. Настороженность вызывало само направление поездки. На Кавказе служили многие из «друзей 14 декабря», помилованные государем кто за молодостью, кто по недостатку улик. Его величество полагал, что сия мера правительства способна была вызвать благодарность в их сердцах и даже будущее исправление.
Александр Христофорович не возражал – его ли дело? Но смотрел на милости этим господам без задора. Одно они говорили в крепости, под страхом будущего наказания. Другое, когда расхрабрятся под горскими пулями. Разве он не ведал, как близость смерти и ежедневное молодечество развязывают языки?
Ни они сами, ни даже их родня ни о чем, кроме страшного утеснения своих семей, не думали и не писали. Вот слова мемуаристки С. В. Скалон, урожденной Капнист, чей брат во время следствия оказался в крепости: «В конце третьего месяца дела запутались: отвечать на запросы день ото дня становилось труднее, и он начинал страшиться за свою будущность». Как вдруг молодого человека вызвал комендант и объявил, что его отпускают. «Сначала он не хотел верить», потом «бросился бежать из крепости, несмотря на то, что это было в 12 часов ночи и что комендант предлагал ему переночевать у себя».
Все освобожденные напоследок беседовали с императором, явившись во дворец. Николай Павлович «весьма хладнокровно» обратился ко вчерашнему подследственному: «Что, Капнинст, не правда ли, что здесь лучше, чем там?» Уже эти слова показывали, что юношу скорее простили, чем оправдали.
Но семьи видели происходящее иными глазами. «Холодный вопрос этот, – продолжала Скалон, – доказывает одну жестокость души его. Ибо, знавши, что [брат] невинно страдал три месяца в заточении… он мог бы, смягчив сердце свое, сказать что-нибудь более утешительное».
Читая подобные откровения, Александр Христофорович словно через лупу рассматривал человеческую неблагодарность. Разучивался верить? Жуковский так и подозревал: «Вы на своем месте осуждены думать, что с Вами не может быть никакой искренности, Вы осуждены видеть притворство в том мнении, которое излагает Вам человек, против которого принято Ваше предубеждение (как бы он ни был прямодушен), и Вам нечего другого делать, как принимать за истину то, что будут говорить Вам другие. Одним словом, вместо оригинала Вы принуждены довольствоваться переводами, всегда неверными и весьма часто испорченными».
Но как быть, если именно «искренность» и «прямодушие» вызывали сомнение? И это сомнение поминутно получало дополнительную пищу?
Во время процесса Бенкендорфа считали добрым следователем. Именно с ним говорили. От него не закрывались. В отличие от другого «перводвигателя» – Александра Ивановича Чернышева, теперь военного министра.
Работалось трудно. Ибо Александр Христофорович сочувствовал арестованным. Половина мальчишки. Он бы их выпорол и отпустил. Чернышев смотрел на дело иначе. Для него все как один были подозрительны. Он был убежден в виновности каждого и считал, что злодеи выворачиваются из клещей правосудия. Все они порочны, надо только хорошенько раздразнить их, и тут наружу полезет глубоко скрытое зло. Выходило пятьдесят на пятьдесят. У кого нервы послабее, тот и ломался под криком. А был ли он при этом злодеем, или так, человек заговору почти сторонний, генерал-адъютанта это не тревожило. Чернышев увеличивал поголовье виновных, предавая внушительности делу.
Даже странно, что государь находил способ не просто благоволить Чернышеву, а дружить с ними обоими. Но во главе высшей полиции поставил все-таки Бенкендорфа. Снисходительного к чужим проступкам, не склонного к гонениям.
Почему?
Многие думали, потому что во время следствия он мирволил арестантам. А молодой государь как раз не хотел раздувать дела и ждал для многих оправдания. Не так?
Отца Бенкендорфа выслали из России по доносу. Александр Христофорович на своем опыте знал, чем для человека может обернуться чужое неосторожное слово. И что бывает, когда государь такому слову верит. А потому доносителей – «тайных вестников» – шеф жандармов не баловал. Суммы гонораров для них всегда были кратны тридцати – ясный намек в христианском государстве.
Однако и государственные преступники – не та публика, с которой стоит церемониться. А потому Пушкин на Кавказе – очень соблазнительный предмет для «тайных вестников». Встречается с бывшими арестантами, пьет и говорит нараспашку. Что говорит? Кому? Пусть разузнают.
«Желал я душу освежить»
Если в Тифлисе Пушкин походил на звезду, которая уже не так ярко светит дома и потому отправляется по свету встречаться с поклонниками и возвращать полноту чувств вчерашнего дня. То в армии на Кавказе поэт должен был встретить «братьев, друзей, товарищей», которые могли воспламенить в нем память о прошедшей молодости.
Пока для него неочевидно было, что это ловля прошедшего дня дырявыми вершами. Но по возвращении в Россию, уже в 1830 г., в статье о Баратынском он с полным пониманием дела писал: «Понятия, чувства 18-летнего поэта еще близки и сродны всякому; молодые читатели понимают его и с восхищением в его произведениях узнают собственные чувства и мысли, выраженные ясно, живо, гармонически. Но лета идут, юный поэт мужает, талант его растет, понятия становятся выше, чувства изменяются, песни его уже не те. А читатели те же и разве только сделались холоднее сердцем и равнодушнее к поэзии жизни. Поэт отделяется от них и мало-помалу уединяется совершенно».
Неужели это не о себе?
Но для того, чтобы подобные мысли вызрели, необходима была поездка на Кавказ и встреча со старыми друзьями. Иногда полезно узнать, что прежние чувства не греют по-прежнему.
Еще в Петербурге поэт пытался окунулся в кутежи. «Светская молодежь любила с ним покутить и поиграть в азартные игры… – вспоминал Кс. А. Полевой. – В 1828 г. Пушкин был уже далеко не юноша, тем более что после бурных годов первой молодости… он казался по наружности истощенным и увядшим; резкие морщины виднелись на его лице; но он все еще хотел казаться юношею. Раз как-то… я произнес стих его, говоря о нем самом: “Ужель мне точно тридцать лет”. Он тотчас возразил: “Нет, нет! У меня сказано: Ужель мне скоро тридцать лет? Я жду этого рокового термина, а теперь еще не прощаюсь с юностью”. Надобно заметить, что до рокового термина оставалось несколько месяцев!» Чиновник III отделения М. М. Попов уловил ту же черту: «Молодость Пушкина продолжалась всю его жизнь, и в тридцать лет он казался хоть менее мальчиком, чем был прежде, но все-таки мальчиком».
Но уже зимой 1828–1829 гг. П. А. Вяземский заметил у друга прорывающиеся мысли о женитьбе. Пушкин желал «покончить жизнь молодого человека и выйти из того положения, при котором какой-нибудь юноша мог трепать его по плечу на бале и звать в неприличное общество». Это и было эхо приближавшейся осени. Но ведь поэт не знал, что она станет золотой. Даже в 1832 г. писал:
Желал я душу освежить,
Бывалой жизнию пожить
В забвеньи сладком близ друзей
Минувшей юности моей.
Иллюзия юности могла пробудить на секунду запнувшийся творческий поток. Прежде он фонтанировал к небесам. Недаром Пушкина называли «волканом». Следовало пройти через «роковой термин» к зрелости. А зрелости поэт пока страшился.
Между тем новый день явил новые чувства, и нельзя сказать, что они были хуже отлетевших. Да, друзья на вечеринках больше не роняли в чаши с вином лепестки роз из своих венков. Зато теперь поэт был вхож «в чертоги» и мог «истину царям с улыбкой говорить». Но, в отличие от Державина, не видел в том большого прибытка. Напротив, его чувства горчили. Еще в августе 1827 г. был сделан набросок:
Блажен в златом кругу вельмож
Пиит, внимаемый царями.
Владея смехом и слезами,
Приправя горькой правдой ложь…
Он украшает их пиры
И внемлет умные хвалы.
Эти «умные хвалы» – лишь дань просвещенного равнодушия. Они обесценены следующей картиной:
Меж тем за тяжкими дверями,
Теснясь у черного крыльца,
Народ, гоняемый слугами,
С почтеньем слушает певца.
Но уже через год противопоставление «златого круга» и гоняемого слугами народа ушло. В «Черни» («Поэте и толпе»)
«народ непосвященный» будет внимать уже «бессмысленно» рассеянному бряцанию на лире вдохновенной:
Молчи, бессмысленный народ,
Поденщик, раб нужды, забот!
Несносен мне твой ропот дерзкий,
Ты червь земли, не сын небес…
А далее следуют слова, которые поэт мог слышать вовсе не от уличной черни, а в высоких кабинетах, от умудренных «долговременной опытностью» мужей:
Нет, если ты небес избранник,
Свой дар, божественный посланник,
Во благо нам употребляй:
Сердца собратьев направляй…
Гнездятся клубом в нас пороки.
Ты можешь, ближнего любя,
Давать нам смелые уроки,
А мы послушаем тебя.
Ответ должен был охладить пыл не только толпы, но и высоких чинов «направить мысли и перо» Пушкина:
Подите прочь – какое дело
Поэту мирному до вас!
Именно в этих строках Пушкин первым, осознанно, отказался от такого желанного для многих русских литераторов права воспитывать сограждан. «Пасти народы», как много позднее скажет Н. С. Гумилев Анне Ахматовой, имея в виду романы Льва Толстого: «Аня, если я когда-нибудь начну пасти народы, убей меня».
Пушкин отказался от этой самим временем навязываемой возможности. Понимал, что не дело литературы «сердца собратьев исправлять»? Или находил, что «чернь тупая» не достигает уровня «сына небес»? Чтобы ее исправить, нужны не наставления поэта, а крутые меры правительства:
Для вашей глупости и злобы
Имели вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры; —
Довольно с вас, рабов безумных!
В этих стихах много глубокого разочарования. Оказывается, для «бессмысленной» толпы нужны карательные меры. Но что, если их применят против «мирного поэта»? С Андреем Шенье так и получилось.
В логове спящего змея
Летом, хотя бы летом, Александр Христофорович надеялся оказаться дома. Не тут-то было. Император намеревался осмотреть военные поселения под Новгородом. О прежнем шутили: «Провел всю жизнь в дороге…» Новый, кажется, намеревался продолжить добрую традицию. Хорошо, в Таганрог не сворачивал.
Поселения, конечно, давно пора было визитировать. Но сие как старая болезнь: прихватит, и больной, согнувшись в три погибели, шепчет: все, все. А едва отпустит, так никто не торопится бежать к доктору. Знает – запустил, и лечение будет тяжелым.
Дорогая игрушка почившего в Бозе Александра I. Сожрали кучу денег, а толку чуть. Так говорили, и молодой государь этому верил. Что до Александра Христофоровича, то он был вовсе не столь категоричен, как с Польшей. Надо отделять ненавистного душегубца А. А. Аракчеева от дела, которое тот, по приказу императора, сделал весьма изрядно.
«До своего восшествия на трон император слишком часто слышал общественные голоса против создания военных поселений… И теперь он был уверен в том, что эти нововведения… требуют значительных реформ и улучшений, – рассуждал Бенкендорф. – Он чувствовал в них большие неудобства, но не мог решиться на их ликвидацию из-за вложенных в них сил и денег. Кроме того, они уже дали ряд блестящих примеров в формировании войск и были очень полезны в окультуривании территорий, которые до того не обрабатывались… Надо было использовать все эти результаты исполнения нерушимой воли императора Александра, которые уже поглотили миллионы рублей и воплотились в труд тысяч рук».
Вполне реалистичный взгляд. Впрочем, государь подозревал, что с поселениями дело обстоит не проще, чем с Польшей. Все, что делал августейший брат, имело самые возвышенные, самые благие цели. И эти цели… ударившись при осуществлении о реальность, приобрели уродливый вид.
В 1822 г. царевич вместе с братом посещал новгородские «линии» и остался в полном восторге. Дороги, мосты, школы, удобные дома, кассы взаимопомощи, амбары, полные зерна… Имение графа Аракчеева Грузино располагалось всего верстах в двадцати от Чудова. Однако ощущение было такое, словно гости переехали границу между двумя державами, ни в чем не схожими, но по иронии судьбы населенными одним и тем же народом. Миновав шлагбаум, они из варварства попадали в цивилизацию. Буквально от станции начиналась широкая шоссейная дорога, по которой кибитка следовала без малейшей тряски. Под колесами стелилась дощатая мостовая, которая при въезде в само Грузино сменялась брусчаткой.
Каменные тротуары, сточные желоба и фонари по обеим сторонам улиц. А в палисадниках – астры, георгины и флоксы, вместо подсолнухов и крапивы. Высокие рубленые дома под черепичными крышами поражали застекленными окнами.
Особенно удивляли школы. Государь и ехавшие с ним генералы могли сами проэкзаменовать детей. Сделавший это начальник Главного штаба П. М. Волконский затосковал, ибо недавно имел несчастье поспрашивать собственных сыновей по программе пансиона аббата Николя и назвал молодых людей «дубинами». Не потому, что дураки, а потому, что лентяи. Здесь же лениться было не принято. Накажут. И очень больно. Баб, например, за не выбеленную ежедневно печку секли. И с детьми не церемонились.

Вид села Грузино (имение А. А. Аракчеева). Неизвестный художник
Великий князь Николай поверил бы собственным глазам. Но слишком много тревожного доходило с разных сторон. Офицерам, служившим в линиях у Аракчеева, именным указом было запрещено выходить в отставку. Переводу в другие места никто не подлежал. Могли, конечно, по болезни уволиться. Но коли выздоравливали и снова просились на службу, то возвращались обратно в линии – никуда больше. Их строжайше запрещено было брать в армию или на статские должности. Точно клеймо ложилось на лоб человека, еще вчера благородного и вольного.
О неразглашении увиденного давали подписку. Под Новгородом было село Высоцкое. Когда крестьян стали забирать в военные поселяне, те ударились в бега. Их поймали у самой литовской границы. Привели назад. Для острастки прогнали по разу через четыреста пар розог. Бабам по сотне, чтобы мужей не мутили. И определили всех в линии. Там, конечно, и дома дали, и скотину. Живите.
В Хволынской волости деревня Естьяны двенадцать дней стояла против регулярных войск. Приехал губернатор с указом о записи мужиков в поселяне. Привез на разживу тысячу рублей от государя. Крестьяне денег не взяли, а начали кричать: «Почитай свою бумажку нашим бабам в хлеву!» Народ затворился в деревне и отбивался от солдат. Время летнее, запасов в домах мало. Съели даже солому с квасных гнезд. Только на исходе второй недели, когда ноги перестали носить сопротивлявшихся, их повязали.
Среди посланий покойной императрицы Елизаветы Алексеевны в Баден осталось одно 1820 г., не отправленное за болезненностью темы. Супруга Ангела объясняла матери, принцессе Амалии Баден-Дурлихской, как славно будет жить под дудку и барабан.
«Ваша тревога мне понятна. Александр действительно похож на победителя в покоренной стране. Но подумайте, сколько выйдет пользы! Будущие блага искупают кратковременные неудобства. Солдат распределяют по избам, они делаются членами семей, каждый крестьянин приобретает работника, сын его идет на военную службу, а дочь становится женой пришедшего чужака. Плоды обнаружатся со временем. Улучшится обработка земли. Рекрутский набор исчезнет, хлебопашец сделается солдатом, солдат хлебопашцем».
В памяти оставался только «победитель в покоренной стране». Как точно. И как больно. После победы! Когда-то Николай сам восхищался грядущей пользой. «Мы затеваем нечто новое. Вы вскоре увидите!» – с горячностью убеждал прусскую родню. А когда вез невесту в Россию, бабы из казенных деревень выходили к дороге, становились на колени и выли в голос, прося отменить у них поселенные полки. Они почти пели, плача свои жалобы, и тянули к карете руки. Признаться, тогда царевич был поколеблен.
Как все красиво выходило в беседах с утопистом Робертом Оуэном. Социальный мыслитель – фаланстеры, трудовые коммуны, казармы для общего счастья. Александр слушал философа в Англии. Потом оживленно блестел глазами: вот оно, чего Россия еще не видела. Величайший эксперимент! Мы противопоставим сытость голоду, порядок хаосу, грамотность темноте.
Сколько вышло страданий, мучительства. Силком выданные за солдат девки стерпелись, нарожали дети. Рвать семьи, как прежде навязывать? «Кратковременное неудобство»! У человека одна жизнь. Примерьте на себя.
Были и голодные смерти, ибо из-за построек крестьяне не имели трех дней за лето, чтобы работать в поле. Были и самоубийства. Дело прежде невиданное. Православный народ – великий грех. Пока живут – терпят. Терпят всё, кроме философского рая.
«Революция глобуса»
О поселениях высказывались очень по-разному. От «революции глобуса», как назвал линии министр внутренних дел В. П. Кочубей, до «логова Змея», как дразнили их противники Аракчеева.
Теперь предстояло все обозреть заново и решить… Ломать – не строить. То, что увидели спутники, их несколько удивило. «Слезы жителей испарились… вместе с ростом населения и их размеренным существованием… Вместо крестьян появились тысячи гренадеров, в школах детей готовили к военной службе и к работе в канцеляриях… Император обдумывал изменения в существовании военных поселений с тем, чтобы облегчить их судьбу и уменьшить чрезмерную суровость и придирчивость, которые были привнесены графом Аракчеевым… В будущем следовало изменить однообразную и малоупотребительную для нашей страны архитектуру выстроенных в один ряд домов, которые соединяли в себе внешний вид и скуку казарм, не неся в себе их удобств и преимуществ».
О смягчении режима Николай I решил сразу. Но вот школы… «Сыновья солдат и колонистов воспитывались словно в кадетских корпусах, как в смысле образования, так и поведения. Можно было сказать, что из них готовили молодую поросль наших генералов, в то время как им было предназначено носить ружья и переносить все тяготы и лишения простых солдат. В этом было заложено противоречие».
Еще бы! Образованный, как молодой дворянин, юноша попадал в грубый полковой мир, где занимал низшее положение. Как минимум он тосковал. Как максимум – мог наложить на себя руки. Недовольство собственной участью становилось для него неизбежно. А желание исправить судьбу – непреодолимо. Вкладывать деньги в то, чтобы питать новый заговор? Как это похоже на покойного Ангела!
Но чего же он, в конце концов, хотел? Александр Христофорович давно понимал, что покойный государь создавал у себя под рукой особую вселенную, где он, бог и царь в одном лице, не просто отвечал за все – но был всему перводвигателем. Когда Бенкендорф подрос по чинам и стал поближе к источнику власти, обнаружилось, что его представления о государственных персонах совсем неверные. Нет ни права, ни лева, ни либералов, ни консерваторов. А есть те, кого хочет видеть государь. Александр I приказал Сперанскому подготовить проекты преобразований в модном духе, приказал встать во главе отечественных масонов. Все зашумели: держи его, якобинец! А тот просто бумажный червячок. С Аракчеевым еще смешнее. Бедняга на коленях просил императора не вводить военные поселения. Доказывал их разорительность. Но Александр велел, и Змей стал Змеем. А еще Ангел приказал ему составить проект освобождения крестьян, и вот незадача – это самый разумный и самый щедрый план из всех, какие были, – с землей и без выкупа.
Ученик Лагарпа, читатель Радищева: «О! если бы рабы, тяжкими узами угнетенные, ярясь в отчаянии своем, разбили железом главы наши, главы бесчеловечных своих господ, и кровию нашею обагрили нивы свои! Что бы тем потеряло государство? Скоро из среды их исторгнулись бы великие мужи для заступления избитого племени; но были бы они других о себе мыслей и права угнетения лишены. Не мечта сие, но взор проницает густую завесу времени. Я зрю сквозь целое столетье».
Покойный Ангел думал так же. Минутами страшился неизбежного. Душа его не принимала крови. А потом понимал, что надо разрубить гордиев узел. Придумал поселения. Мало кто постигал их смысл. Говорили, что там из крестьян делают солдат. Дудки! Там из низших сословий, безграмотных и диких, делали образованный класс, способный заменить офицеров и чиновников из дворян.
Конечно, того же кругозора, той же независимости, самоуважения у них нет. Но для простейших функций сгодятся. Государство не рухнет. А со временем… Управляемая пугачевщина. «Друзья 14 декабря» хотели устроить военную революцию и думали, будто войска можно удержать от погромов в якобинском стиле. Дети! Александр I жаждал того же самого, но с другой стороны. Ангел мести!
Вот что означали странные аракчеевские школы. Пока все офицеры – дворяне, попробуй тронь крепостное право. Мигом вызверятся. Покойный Ангел не доверял благородному сословию и предвидел возможность подобного исхода. Он задумал не новое комплектование армии с целью облегчить казне лишние издержки. А новую армию в чистом виде. Без старого офицерского корпуса. Помещики либо уступят, из боязни стать «избитым племенем», либо…
Хотел ли Николай того же самого? Вряд ли. Его считали решительным и даже крутым на расправу монархом. Но Александр Христофорович видел иное: сто раз отмерь. Новый государь вовсе не склонен был резать по живому. Тем более по шву, который после прежней операции едва-едва затянулся.
А потому решение было принято не во вкусе тех, кто рубит с плеча. Программы в школах заменить. Сами поселения со всеми их выгодами оставить, режим проживания смягчить сколько можно, чтобы не расплескать уже ощутимую пользу.
Через два года поселения полыхнули. Те самые, под Новгородом, где был государь. Из-за послаблений в железной, мертвой дисциплине? Из-за их недостатка? Страшная, ни с чем не сравнимая жестокость. Соразмерная прежнему давлению правительства.
Потом говорили, что смягчение режима военных поселений стало результатом этого кромешного бунта. Ложь. Александр Христофорович видел лично: еще за два года до событий государь принял решение и начал реформу. Легчайшее послабление было воспринято как сигнал и привело к бунту: слишком сильно перед этим завинтили винт – глубоко вогнали гвоздь в русскую шкуру.
Но что самое страшное – бунтовали не одни сиволапые, из которых вдруг сделали гренадер. «Школьники» не отставали. Значит, были и внутри поселений молчаливые сторонники идеи покойного Ангела о новой армии и «избитом племени». В 1825 г. они голову не подняли. Тихо делали свое делание. А вот через пять лет подтолкнули шар в лузу – темный и изобиженный в конец народ к бунту.
Присосались, клещами не вытащить. Как черви под коровьей шкурой. Расплодятся – беда. Сдохнет родимая.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.