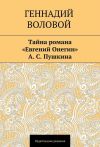Автор книги: Ольга Елисеева
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 18 страниц)
«Шкипер славный»
Пушкин успокаивался нескоро. Да и Фаддей Венедиктович не простил «Видока». Они еще раз обменялись журнальными ударами, даже когда поняли, что «мандарины» в схватке участвовать не будут. Не запретят «Северную пчелу» и не заподозрят Пушкина в большем, чем своевольный отъезд в Москву.
После пасхального яичка в виде «Записок» сыщика Булгарин подальше от глаз спрятался на своей даче Карлово на Каменном острове, выждал, чтобы не вызывать гнев свыше, и уже в августе возобновил полемику. Теперь он обвинял Пушкина за показной аристократизм и больно бил по прозвищу «русский Байрон».
«Лордство Байрона и аристократические его выходки… – писал Булгарин 7 августа в “Северной пчеле”, – свели с ума множество поэтов и стихотворцев в разных странах, и все они… заговорили о 600-летнем дворянстве! …Рассказывают анекдот, что какой-то поэт в Испанской Америке, также подражавший Байрону, происходил от мулата, или не помню, от мулатки, стал доказывать, что один из его предков негритянский принц». Когда же взялись искать документы в ратуше, оказалось, что шкипер «купил негра за бутылку рома».
Подобные намеки назывались в то время «личность» и запрещались, в отличие от косвенных. В 1829 г. Пушкин высмеивал это правило:
Иная брань, конечно, неприличность,
Нельзя сказать: Такой-то де старик,
Козел в очках, плюгавый клеветник,
И зол, и подл; все это будет личностью.
Но можно напечатать, например,
Что господин парнасский старовер…
Булгарин перешел на «личность». И личность ему ответила. Пушкин всегда очень внимательно относился к своей родословной и готов был изменить в ней кое-какие неприглядные моменты для большего облагораживания. Однако Булгарин ударил рядом, но не в цель. Как писал Жуковский, «есть что-то похожее на сведения, но сведений нет». Авраам Ганнибал действительно был африканским принцем, привезенным Петру I.
Поэт ответил только в ноябре из Болдино:
Решил Фиглярин, сидя дома,
Что черный дед мой Ганнибал
Был куплен за бутылку рома
И в руки шкипера попал.
Сей шкипер был, тот шкипер славный,
Кем наша двинулась земля,
Кто придал мощно бег державный
Рулю родного корабля.
В последней строфе слышался упрек:
Сей шкипер деду был доступен.
И сходно купленный арап
Возрос усерден, неподкупен,
Царю наперсник, а не раб…
Николай I не был по-настоящему «доступен» поэту. Но и потомок бояр Пушкиных – не камердинер царя. Александр Сергеевич сам всегда щепетильно оберегал свое достоинство. Сближение с этим «волканом» страстей могло обернуться непредсказуемыми последствиями. И это в мире, где «речи – лед, сердца – гранит». Роль «наперсника», на которую претендовал поэт, была занята, и занята по желанию самого государя, другим человеком.
Опубликовать стихи Пушкин захотел только в ноябре 1831 г. и дал пояснение Бенкендорфу: «Около года назад в одной из наших газет была напечатана сатирическая статья», в которой выставлялась мать поэта «мулатка, отец которой бедный негритенок, был куплен матросом за бутылку рома. Хотя Петр Великий вовсе не похож на пьяного матроса (утверждение спорное. – О. Е.), это достаточно ясно указывало на меня, ибо среди русских литераторов один я имею в числе своих предков негра».
Несмотря на ссылки на Петра Великого, столь близкие сердцу императора, Николай I нашел невозможным публиковать эту часть «Моей родословной», поскольку она оживила бы едва замятую ссору. «Что касается его стихов, – писал император Бенкендорфу, – я нахожу в них остроумие, но еще больше желчи, чем чего-либо другого. Он бы лучше сделал, к чести своего пера и особенно разума, если бы не распространял их».
Этих слов уже хватило. В самый разгар взаимных обвинений с Булгариным, 18 марта 1830 г., в руки Пушкина попал документ столетней давности. Вот что он писал Вяземскому: «Посылаю тебе драгоценность – донос Сумарокова на Ломоносова… Он отыскан в бумагах Миллера, надорванный, вероятно, в присутствии, сохраненный Миллером как документ распутства Ломноносова: они были врагами. Состряпай из этого статью и тисни в Литературной газете».
На что жаловались поэт А. П. Сумароков и историк Г. Ф. Миллер? Михайло Васильевич вовсе не был тихим человеком. «Напивался пьян», сшибал тростью в присутствии парики с академиков, называл их «академическими жидомордиями». Все это уживалось с гениальностью. Как и у самого Пушкина.
Стоило бы задуматься над превратностями времени: и сто лет назад ученые жаловались друг на друга и втягивали власть в свои склоки. Пройдет еще сто лет, картина не изменится. Во времена Ломоносова доносы заканчивалось «матерним» распеканием со стороны императрицы Елизаветы Петровны. Во времена не столь отдаленные – арестами и ссылками.
Тон, выбранный Николаем I и Бенкендорфом, – не оскорблять, но и не сближаться чрезмерно – позволял власти сохранять лицо.
«Какая же тень падает на вас?»
Пушкин, конечно, обиделся. Но до этого сам, без объяснений, умчался в Москву. Вновь пришлось оправдываться, по чьему позволению. Даже в вежливом послании Бенкендорфа слышится едва сдерживаемое раздражение.
«К величайшему моему удивлению, услышал я, – писал Александр Христофорович 17 марта, – что внезапно рассудили уехать в Москву, не предваря меня, согласно с сделанным между нами условием… Мне весьма приятно будет, если причины… будут довольно уважительными… но я вменяю себе в обязанность вас предупредить, что все неприятности, коим вы можете подвергнуться, должны вами быть приписаны собственному вашему поведению».
Заметно, что, несмотря на всю сдержанность, Бенкендорф готов сорваться. Два столетия было принято обращать внимание только на одну сторону вопроса: поэту даже в Москву не позволяли поехать без разрешения. А мы обратим внимание на другое: «согласно с сделанным между нами условием». Значит, договорились, а поэт опять все нарушил. Фон Фок писал, что у Пушкина «семь пятниц на неделе». Имел ли Бенкендорф основания сомневаться в этой характеристике?
Пришлось изворачиваться. Причем довольно неуклюже: «В 1826 году получил я от государя императора позволение жить в Москве, а на следующий год от вашего превосходительства дозволение приехать в Петербург. С тех пор я каждую зиму проводил в Москве… не испрашивая предварительного дозволения… Встретив вас однажды на гулянии, на вопрос вашего высокопревосходительства, что намерен делать, я имел щастье о том вас уведомить. Вы же изволили мне заметить: “Вы всегда на больших дорогах”».
Либо одно, либо второе. Либо «не испрашивая предварительного дозволения». Либо «имел щастье о том вас уведомить».
Причину спешного отъезда Пушкина в Москву почли романтической. И умилились.
Стоило бы, конечно, обеспокоиться, ведь его невеста – дочь знаменитой Наталии Ивановны Загряжской, которая едва не отбила у покойной императрицы ротмистра Алексея Охотникова. Но дело прошлое. И не государю Николаю Павловичу, у которого отношения с супругой брата не особенно складывались, блюсти обиды отлетевшей уже Психеи.
Поэтому «матушка Карса» правительство не занимала. Да и сам «Карс» пока тоже. Однако соблазнительно было привести Пушкина в состояние гражданского покоя – внешней респектабельности. У того явился шанс остепениться. А посему благоволение свыше с самого начала было обеспечено.
Тем временем Наталия Ивановна явила себя во всей красе. Приданого за невестой она дать не может. Хотя семья Гончаровых и богатая, но прежний блеск в прошлом. Обеднели. Кроме того, теща боялась, что жених под надзором.
И вот уже несчастному влюбленному надо доказывать – не царю, а родне, – что он добропорядочный подданный, все шалости и чудачества в прошлом.
Писать пришлось опять к Бенкендорфу: «Я с крайним смущением обращаюсь к власти по совершенно личному обстоятельству… – писал он 16 апреля. – Я женюсь на м-ль Гончаровой… Г-жа Гончарова боится отдать дочь за человека, который имел бы несчастье быть на дурном счету у государя. Счастье мое зависит от одного благосклонного слова того, к кому я и так уже питаю искреннюю и безграничную преданность и благодарность… ваша снисходительность избаловала меня, и хотя я ничем не мог заслужить благодеяний государя, я все же надеюсь на него».
Чуть более недели, и Бенкендорф ответил. Государь велел делать вид, будто никакого формального надзора нет. Пусть только венчается. Семья – величайший в мире якорь.
«Его императорское величество с благосклонным удовольствием принял известие о предстоящей вашей женитьбе, – писал генерал уже 28 апреля, – и при этом изволил выразить надежду, что вы хорошо испытали себя перед тем, как предпринять этот шаг».
Интересно, что бы император сказал, знай он письма Пушкина к К. А. Собаньской, старой одесской знакомой, буквально кануна сватовства? «Я увижу вас только завтра – пусть так. Между тем я могу думать только о вас… Вы – демон… Я испытал на себе все ваше могущество. Вам обязан я тем, что познал все, что есть самого судорожного и мучительного в любовном опьянении, и все, что есть в нем самого ошеломляющего».

Н. Н. Гончарова (Пушкина). Художник А. П. Брюллов
Путь от демона к Мадонне. Продолжение дороги для Мадонны окажется крестным.
К счастью, император не знал этих строк и назидал Пушкина, как всякого верноподданного, надеясь, что тот «в своем сердце и характере» нашел «качества, необходимые для того, чтобы составить счастье женщины». Иными словами, надежность.
«Что же касается вашего личного положения… – продолжал Бенкендорф, – в нем не может быть ничего ложного и сомнительного, если только вы сами не сделаете его таковым. Его императорское величество в отеческом о вас, милостивый государь, попечении, соизволил поручить мне, генералу Бенкендорфу, – не шефу жандармов, а лицу, коего он удостаивает своим доверием, – наблюдать за вами и наставлять вас своими советами: никогда никакой полиции не давалось распоряжения иметь за вами надзор… Какая же тень падает на вас в этом отношении? Я уполномочиваю вас, милостивый государь, показать это письмо всем, кому вы найдете нужным».
Так, «в надежде славы и добра» все соединились на том, что Пушкину пора жениться. Неожиданно правительство явило в частном деле поэта снисходительность и понимание. Наталия Ивановна уступила. И вскоре свадебные колокола должны были возвестить окончательное вразумление Пушкина.
Удалось ли?
Знаем, что нет. Все «благодетельные виды правительства» пропали втуне. Потому что на живого человека не надеть узды. Даже сплетенной любимыми руками.
Но мы оставим поэта и тех, кто его «опекал», в момент хрупкого довольства друг другом. Когда каждая из сторон готова была сделать шаг навстречу. Причем государь и шеф жандармов фактически обманывали Наталию Ивановну. Лишь бы мадемуазель Гончарова стала мадам Пушкиной, и можно было возложить часть ответственности за поведение мужа на нее.
Вместо заключения. «Надзор все надзор»
Итак, мы оставляем нашу недружную пару. Не в момент конфликта. Открытых разрывов между ними не было. Впрочем, как и дружбы. Не стоит забывать, что дружил Александр Христофорович с императором Николаем I. А вынужденное высочайшим приказом общение с Пушкиным нес как крест. Причем крест далеко не наградной.
Наши современники хорошо усвоили со школьной скамьи, что Бенкендорф был для Пушкина злой мачехой, нерадивой нянькой. Зададимся вопросом: а кем Пушкин был для Бенкендорфа? Занозой в ребра, как в святоотеческой притче: «Господи, убери от меня этого человека» – «Довольно с тебя и Моей милости».
Обе схемы отношений поэта и шефа жандармов реализованы в литературе. Первая восходит к письму В. А. Жуковского: «Государь хотел своим особенным покровительством остепенить Пушкина и в то же время дать его гению полное его развитие; а вы из сего покровительства сделали надзор». Недавно эта схема ожила под давлением документов, доказывающих доброе отношение Николая I к поэту. Вину привычно сложили на «псаря». «Я перечитал все письма, им от вашего сиятельства полученные, – рассуждал Жуковский, – во всех них, должен сказать, выражается благое намерение. Но сердце мое сжималось при этом чтении… Все формы этого надзора были благородные, ибо от вас не могло быть иначе. Но надзор все надзор».
Вторая схема выглядит еще ужаснее: Бенкендорф выполнял прямые указания императора, и они оба виновны в убийстве поэта. Или как минимум в суровом обращении с ним. Эта картина, закрепленная философом С. Л. Франком («Николай… отдал его под внешне вежливую, но унизительную и придирчиво-враждебную опеку Бенкендорфа») и обоснованная для историков Ю. М. Лотманом («он много сделал для того, чтобы отягчить участь поэта»), была наиболее употребительной в советское время. Однако ее корни уходят глубоко в традицию рассмотрения данного сюжета. Так, Марина Цветаева горячо отстаивала «теорию заговора» против поэта. Владимир Набоков – априори превосходство властителя дум над властителем земли. Борис Пастернак, сам заигрывая с тираном, говорил о «соблазне» предположить «знанье друг о друге предельно крайних двух начал». Все это – отголоски мифа, созданного в XIX в., подаренного веку XX и продолжающего дотягиваться до сегодняшнего дня.
Отметим особенность обеих версий: ни одна не учитывала личную ответственность Пушкина. Как если бы он был объектом приложения чужой злой силы. Творец во всем, поэт оказывался неволен лишь в собственной судьбе. И это легко оправдывалось надзором. Между тем надзор за ним был слабо выполним. Малейшее ограничение его бесило, а у тех, кто наложил и осуществлял контроль, не хватало ни сил, ни времени, ни, откровенно говоря, желания. Максимум, на что они были способны, – это делать замечания после того, как Пушкин уже «нашалил».
Письма Бенкендорфа писались именно в тех случаях, когда возникала необходимость «окрика». В остальное время контактов просто не было. Шеф жандармов не запрещал ничего, кроме безусловно запрещенного. Часто закрывал глаза на мелочи. Не проявлял личной злой воли. Упрекать его за то, что он не стал другом Пушкина, не восхитился его гением? Все равно что упрекать М. С. Воронцова за то, что тот не уступил поэту жену.
Сохранилось 90 писем шефа жандармов и поэта друг другу. Менее всего это дружеская переписка. Тем не менее эпистолы Бенкендорфа всегда взвешенные, корректные, максимально отстраненные. Была ли то вежливость сквозь зубы? Вероятно, иногда. Но столь же часто Пушкин нуждался в услугах, которые ему неизменно оказывались Бенкендорфом. Всегда ли поэт был честен? Практически ни разу. Но можно ли в условиях надзора требовать прямоты? Обмануть жандарма – доблесть.
Многостраничное письмо Жуковского – не совсем то, за что себя выдает. Кажется, что это упрек, а на деле – самооправдание друзей, которые не отговорили Пушкина от дуэли. Мудрено помочь при тайном надзоре! Уж если высшая полиция ничего не смогла сделать!
Письмо выглядит бесстрашным шагом отчаяния. Пушкин мертв – «к чему лукавить?» Однако все, сказанное в нем, следовало сказать за несколько лет до роковой черты Николаю I. В семью которого Жуковский был не просто вхож – он учил русскому языку Александру Федоровну, затем надзирал за воспитанием наследника престола Александра. Тем не менее одного взгляда Николая Павловича было достаточно, чтобы преградить поток обвинений. Значит, императора Жуковский боялся, а шефа жандармов нет? Что многое говорит о последнем.
Страшное послание писалось с 25 февраля по 8 марта 1837 г. В первые дни весны Александр Христофорович слег. Таким образом, письмо либо спровоцировало болезнь, либо должно было ее усугубить. О чем Жуковский, конечно, не думал на фоне смерти Пушкина. Однако объективность требует отметить это «странное сближенье».
При обеих разработанных версиях событий рассказ ведется только с точки зрения поэта. Публицист прошлого века Ю. В. Давыдов справедливо писал, что «всех пушкинских современников соизмерял с Пушкиным: хорош или нехорош был такой-то с Пушкиным. Все современное Пушкину сопоставлял с ним: хороша или не хороша была ситуация для Пушкина. И ни на вершок отступления от объективности? Да в ней-то и нужды не возникало».
Постановка проблемы, при которой на первое место вынесена личность шефа жандармов, позволяет сменить ракурс и захватить больше информации.
Мы постарались рассказать о том, что делали император и Бенкендорф в те ключевые моменты пушкинской судьбы, когда, по убеждению друзей поэта, должны были заниматься проблемами Александра Сергеевича. Возможно, нам удалось подложить ткань реальных событий под стежки пушкинской биографии и обнаружить для читателя очевидную истину: они на полотне – не единственные.
В течение последующих лет судьбы поэта и шефа жандармов еще крепче переплетутся. Вплоть до рокового для обоих 1837 г. Этот рассказ мы прибережем на будущее.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.