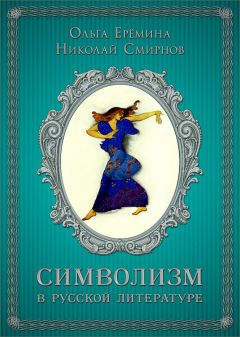
Автор книги: Ольга Ерёмина
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Сквозные темы в стихотворениях поэтов-символистов
Символ и словоПоэты – наиболее чуткие люди. Поэтами недаром называют не только собственно стихотворцев, но вообще всех людей с тонкой нервной организацией, богатым воображением и даром предвидения. Тем более эти качества присущи тем, кто занят поэтическим творчеством.
Постоянно пытаясь нащупать тонкое, почти неосязаемое биение жизни вокруг, уловить особенности её пульса и понять направление жизненного потока, поэты глубоко проникают в структуру мира, их интуитивные озарения поднимаются до высот философских обобщений и мистических пророчеств.
Поэт – это тот, кто улавливает в частных и изменчивых событиях проявление вечного, осевого начала. Он понимает, что очевидность не есть действительность, что повседневная жизнь только отражение и искажение истинной жизни, что в повседневности мы можем только уловить намёк на истину, её символ. «Любовь лишь звук», а «Кровь лишь знак», – эмоционально утверждает Зинаида Гиппиус в стихотворении «Швея». «…Всё видимое нами – / Только отблеск… / От незримого очами», – философски обобщает Соловьёв («Милый друг, иль ты не видишь…»).
Но это вечное начало запрятано так глубоко, что человеку зачастую может быть видна только та борьба, та расколотость мира, что нарушила первозданное единство:
И как в твоей душе с невидимой враждою
Две силы вечные таинственно сошлись…
(«О, как в тебе лазури чистой много…».)
Поэт постоянно идёт по острию между несказуемостью последних тайн бытия и вульгарным искажением вырванных из своего сердца образов и слов, опошленных массовым сознанием. Это раньше словом творили и могли разрушать: «Солнце останавливали словом, / Словом разрушали города» (Н. Гумилёв, «Слово»). Теперь же сам человек, восприняв божественный дар Слова, поставил его пределом «скудные пределы естества». В результате этого – первоначально живое и животворящее – слово стало формальностью, омертвело:
И, как пчёлы в улье опустелом,
Дурно пахнут мёртвые слова.
Поэт вынужден пользоваться словами, но осознаёт их неполноту; недаром Владимир Соловьёв пишет, что истинен в конечном счёте лишь «немой привет» «от сердца к сердцу» («Милый друг, иль ты не видишь…»). Сердце – не только физиологический орган, гоняющий кровь, это один из важнейших духовных центров человека. Лишь человек с чутким сердцем может понять и принять других людей, осуществить тот самый «немой привет».
Но слишком часто, становясь взрослым, человек забывает о силе искренности, сосредоточенной в сердце, забывает о том, насколько сильно мог любить и понимать в детстве, любя безгласно, но всей душой.
В последней обиде, в предсмертной пустыне,
Когда и в тебе изменяет мне всё,
Не ту же ли сладость находит и ныне
Покорное, детское сердце моё? —
вопрошает Мережковский («Детское сердце»).
Вместе с тем, трагическая раздвоенность мира велика, и человек вынужден учиться молчанию, чтобы найти ответы на свои вопросы. Ответы уже ждут людей, природа полна молчаливых символов, но человек неспособен их узреть и понять, потому что суетен и нетерпелив. «– Остановись, – призывает Волошин. – Войди в мою ограду / И отдохни. И слушай не дыша… / Учись внимать молчанию садов…» («Ступни горя, в пыли дорог душа…»).
Суметь разглядеть подлинное бытиё, ощутить себя частью живого мира, понять его знаки и идти по ним – сложнейшая задача, требующая от человека максимальной сосредоточенности и самоотдачи. Человек обречён на противоречивое существование в двух мирах – мире божественной тишины и мире попыток выразить эту тишину человеческим словом.
«Мой верный друг! Мой враг коварный!» – в смятении восклицает Валерий Брюсов, обращаясь к языку и его двойственности («Родной язык»). Но из прошлого как бы отвечает ему мудрый Владимир Соловьёв, подытоживая страсти по символу и слову, и оставляя простор для будущего:
Противоречия культурного развития
Но верится: пройдёт сверкающий громами
Средь этой мглы божественный глагол,
И туча чёрная могучими струями
Прорвётся вся в опустошённый дол.
И светлою росой она его умоет,
Огонь стихий враждебных утолит,
И весь свой блеск небесный свод откроет
И всю красу земли недвижно озарит.
(«О, как в лазури чистой много…»)
Представители Серебряного века особенно остро ощущали назревающие мировые катаклизмы, Земной шар становился тесен человеку, и различие между культурами грозило беспощадными столкновениями. Ещё за десять лет до Первой Мировой войны и за год до первой русской революции вся планета представлялась «Залитой кровью и слезами, / Повитой смертной пеленой / И неразгаданными снами» (М. Лохвицкая. «Во тьме кружится шар земной…»). Старые истины исчерпывались и теряли смысл в новых условиях, грядущее скрывалось во мраке неизвестности.
Мы бесконечно одиноки,
Богов покинутых жрецы.
Грядите, новые пророки!
Грядите, вещие певцы,
Ещё неведомые миру! —
провозглашает Дмитрий Мережковский («MORITORI»).
В истории было уже не раз, когда гибли казавшиеся вечными великие цивилизации, когда утончённая культура безжалостно уничтожалась варварами-завоевателями, этими «невольниками воли», которые по привычке ставили «шалаши у дворцов», оскверняли храмы и плясали «в радостном свете костров» (В. Брюсов. «Грядущие гунны»). Но поразительная, парадоксальная диалектика развития оправдывает творимые бесчинства, «оживляя одряхлевшее тело волною пылающей крови», полной ещё неупорядоченной энергии, таким образом освобождая место для будущих построений. Предвестие и зачарованный призыв подобного кровавого обновления можно найти в строках Валерия Брюсова:
Где вы, грядущие гунны,
Что тучей нависли над миром!
«Мы гибнем жертвой искупленья. Придут иные поколенья, – вторил ему Мережковский – <…> Грядущей веры новый свет, тебе от гибнущих привет!» («MORITORI»).
Поэты и философы чувствовали трагические последствия, к которым могло привести дальнейшее увеличение разрыва культур и эпох. Вместе с тем, противостояние Востока и Запада усиливало извечную раздвоенность человеческого бытия в эпицентре этого противостояния – в России.
Россия – самая огромная и многоликая страна мира, и при этом самая молодая по сравнению с территориями, её окружающими. Она всегда подвергалась разнообразным влияниям со стороны могущественных соседей, перед ней всегда стоял выбор между различными путями исторического развития. Недаром ещё Владимир Святославич Красное Солнышко выбирал между четырьмя (!) вероисповеданиями.
Исторически так сложилось, что Россия со времени Петра I была вынуждена учиться у своих западных соседей, обогнавших её в развитии науки и техники. Она в этом преуспела, но в Европе всё равно её воспринимали как страну восточную и цивилизационно чуждую. На Востоке же, в Азии, в ней видели безусловно европейское (потому что христианское) государство.
Преклонение перед Западной Европой, её духовная пресыщенность и довольство вызывали протест у многих проницательных людей того времени. Не бояться кровной и духовной связи с Востоком, воспользоваться ею! Переломить историческое пренебрежение со стороны европейцев, заставив их трепетать на рубеже жестокого обновления! Недаром Александр Блок бросает западникам в лицо смутные яростные признания: «Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы, / С раскосыми и жадными очами!» («Скифы»). Конечно, он имел в виду тяготение русской души к восточному миропониманию. Степной Восток поэтизировался, отождествлялся с грядущей стихией радикального обновления мира:
Топчи их рай, Аттила, —
И новью пустоты
Взойдут твои светила,
Твоих степей цветы!
Это Вячеслав Иванов («Кочевники красоты») вторит Мережковскому.
Замерший Восток и косный Запад отжили своё. Должно родиться что-то новое, и битва за это новое должна состояться в России, – так мнилось Блоку, когда он призывал:
Идите все, идите на Урал!
Мы очищаем место бою
Стальных машин, где дышит интеграл,
С монгольской дикою ордою! (А. Блок. «Скифы»)
Россия, впитавшая в себя токи многих традиций, сумеет найти пластичную форму для потрясающих преобразований. Она, непонятая и непризнанная, вечный «Сфинкс с древнею загадкой», держит в своих руках будущее мира, готова выступить посредником между эпохами и культурами, осознав своё предназначение: «В последний раз – опомнись, старый мир! / На братский пир труда и мира <…> / Сзывает варварская лира».
Но это будет не старая Россия, это будет неведомое ещё построение, со своими законами и путями развития. Неизвестно, что из ныне творимого пригодится для будущего. Обусловленные историческими рамками, могут погибнуть, как ненужные, все культурные достижения:
И что, под бурей летучей,
Под этой грозой разрушений,
Сохранит играющий случай
Из наших заветных творений? —
вопрошает Брюсов («Грядущие гунны»). Но, осознавая неизбежность нового дня, бессмысленно цепляться за ускользающие тени прошлого, остаётся лишь приветствовать новый, а потому страшный рассвет:
Бесследно всё сгибнет, быть может,
Что ведомо было одним нам,
Но вас, кто меня уничтожит,
Встречаю приветственным гимном.
Пронзительное ощущение исторического перепутья, приближающегося скачка в новую эру, – именно оно породило всю культуру серебряного века, все горячечные метания и призывы наиболее чутких и умных людей того времени. Заканчивалась инерция долгого движения, тени на карте мира исчезали, заливая духовно опустевшие пространства призрачным светом нарождающегося дня.
Судьба земли
Да, в вечность ввергнется тоска
Пред солнцем правды всемогущей.
За нами средние века.
Пред нами свет зари грядущей.
(М. Лохвицкая. «Во тьме кружится шар земной…»)
Проблема взаимодействия культур направила внимание поэтов на судьбу земли и человека на земле, заставила ощутить глубинную связь со своими корнями. Россия – страна в то время преимущественно аграрная. Глубинная связь с землёй ощущалась в каждом такте того или иного события.
Ты всему живому – мать,
Ты всему живому – сваха!
(В. Брюсов. «У земли»)
«Земля-матушка», «Мать-Сыра земля» – только в нищей России с её бедными почвами и постоянными неурожаями настолько было укоренено почитание олицетворённого плодородия вплоть до самого ХХ века.
Владимир Соловьёв поэтически так осмыслил этот древний славянский архетип:
Земля – владычица! К тебе чело склонил я,
И сквозь покров благоуханный твой
Родного сердца пламень ощутил я,
Услышал трепет жизни мировой.
(«Земля – владычица! К тебе чело склонил я…»)
Земля, почва становилась в общерусском сознании бессознательным символом материи как глубоко философского явления. Именно в материю нисходит Дух Святой, оплодотворяет её первобытную сущность божественным Словом. «Быть вспаханной землёй… И долго ждать, что вот / В меня сойдёт, во мне распнётся Слово», – провозглашал Максимилиан Волошин («Быть чёрною землёй. Раскрыв покорно грудь…»). Каждый человек – это микрокосм, в каждом человеке происходит тот же процесс духовного восхождения, что совершает вся материя. Это же одновременно и символ того, как Поэт рождает в сердце своё жгучее Слово – далёкий отблеск божественного Глагола.
Но земля не только обоготворяемая материя, это ещё и материя страдающая.
Я – твой сын, я тоже – прах,
Я, как ты – звено страданий.
Так пишет Валерий Брюсов в стихотворении «У земли».
Всё в мире стремится к смерти, и человек невольно склоняется перед титанической властью роковой конечности всякого существования. Возврат в небытиё манит тёмными пульсациями природных циклов, отпечатанных в человеке. «Где ты, дева-тишина, / Жизнь без жажды и без думы?..» Возврат к истокам, осуществляемый с такой онтологической полнотой, неизбежно приводит к возврату в до-мысленное, до-сознательное состояние, а после – к очарованию смертью, к растворению в первобытных волнах вселенских циклов.
Любые искания пытливого ума кажутся тогда «бессонным бредом», а жажда ритуального обручения с землёй приводит человека в могилу.
Помоги мне, мать! К тебе
Я стучусь с последней силой!
Или ты, в ответ мольбе,
Обручишь меня – с могилой?
Но, как и всякое предельное выражение, такое отношение не является нормой. Земля обожествлённая и освящённая выше молчаливой языческой поглотительницы всего сущего. «И в явном таинстве вновь вижу сочетанье / Земной души со светом неземным», – так Соловьёв обнимает в одной фразе тварный мир и Создателя (В. Соловьёв, «Земля-владычица! К тебе чело склонил я…»).
Другой поэт выразил это ещё более таинственно и торжественно:
Судьба России
Быть Матерью-Землёй…<…>
И видеть над собой алмазных рун чертёж:
По небу чёрному плывущие созвездья.
(М. Волошин, «Быть чёрною землёй. Раскрыв покорно грудь…»)
Судьба России при внимательном рассмотрении теснейшим образом оказывалась связана с её культурными особенностями, отношением русских людей к земле. Веками русские земли, являющиеся «зоной рискованного земледелия», выковывали особенный русский характер, совмещающий в себе совершенно противоположные элементы. Это богобоязненность и разгульность, трудолюбие и лень, поклонение земле, от которой зависит будущий урожай, и проникновение в небесные глубины божественного.
Образ России – это «убогость соломенных крыш», «горбик тесной межи», «полевая истома», стрижи, реющие «вкруг церкви Бориса и Глеба» (В. Брюсов. «По меже»). Но в этой незатейливой картине «невозможное возможно». Даже если попадёт Россия под власть «какого хочешь чародея» (А. Блок. «Россия»), то всё равно не просто выживет, но и не изменит своего пути. Достаточно самой малой надежды, мимолётного прикосновения к народному духу, чтобы получить новые силы.
Да, Россия нищая. Сейчас она «…заброшена / В тьму, маету, нищету» (С. Городецкий. «Нищая»). Надо или возвращаться к прошлому, или без оглядки идти вперёд. Или:
Ну-ка, вздохни по-старинному,
Злую помеху свали,
Чтобы опять по-былинному
Силы твои расцвели!
Или…
Начало ХХ века ознаменовалось резкими переменами в общественной жизни нашей страны. Появились новые силы; идеи, веками бродящие в народе, вдруг обнаружили способность к практическому воплощению. Нищета России велика, но не она определяет её внутренние силы, отнюдь не нищета лежит в основе национального самосознания. Россия была богата, но силы свои растеряла, забыла себя. Начав терять своё исконное, люди стали понимать то, что прежде не слишком ценили, чем не умели верно воспользоваться. Но теперь уже слишком поздно и можно только слагать песни о «бывшем богатстве» да «щедрости божьей», как это точно подметила Анна Ахматова («Думали: нищие мы, нету у нас ничего…).
«Душа, насладись и умри», – написал Валерий Брюсов («По меже»). Невольно он обратил внимание на то, что это будет последнее любование, за которым – смерть. Смерть того, что не захочет перевоплотиться, воспринять качество новых энергий. Но душа может идти «путём зерна» (В. Ходасевич. «Путём зерна»). То есть: она сойдёт во мрак – и оживёт.
Если выдержит.
Катастрофа в русско-японской войне, восстание в Москве и Петрограде – первая русская революция 1905 года, Первая Мировая война с огромными потерями с 1914 года, Февральская, затем Октябрьская революция в году тысяча девятьсот семнадцатом… Трагические события, свидетелями и участниками которых стали поэты всех литературных направлений, вызывали напряжённейшие лихорадочные попытки понять происходящее, постичь будущее страны. Всё должно измениться, возрождение возможно только через разрушение:
Рыдай, буревая стихия,
В столбах громового огня!
Россия, Россия, Россия, —
Безумствуй, сжигая меня!
– мучительно взывал Андрей Белый, полный предчувствия наступающих перемен («Родине»). Потрясения не должны пугать и ввергать в панику – надо уметь принять их космическую неизбежность: «Не плачьте: склоните колени / …В потоки космических дней». Старая Русь – это не только сельская идиллия, это то, что предстаёт перед взором вдруг прозревшего человека:
Страшное, грубое, липкое, грязное,
Жёстко-тупое, всегда безобразное, —
всё это уходит подобно клочьям предутреннего кошмара под напором безжалостного солнечного света (З. Гиппиус. «Всё кругом».). Все «роковые разрухи» и «глухие глубины» (Андрей Белый. «Родине») оказываются обнажены. Но «Жалоб не надо; что радости в плаче? / Мы знаем, мы знаем: всё будет иначе», – как заклинание, твердит Зинаида Гиппиус.
Россия – «Мессия грядущего дня». Так заявил Андрей Белый. В этой огненной стихии, что захлестнула страну, знание переплавлялось с верой, надежда – с отчаянием. Из этого сплава должно было возродиться, выкристаллизоваться нечто совершенно новое, способное вместить в себя всю противоречивость человеческого существования.
Она не погибнет, – знайте!
Она не погибнет, Россия.
Они всколосятся, – верьте!
Поля её золотые.
И мы не погибнем, – верьте!
На что нам наше спасенье:
Россия спасётся, – знайте!
И близко её воскресенье.
(З. Гиппиус. «Нет»)
Эти строки были написаны в 1918 году.
Раздел II. Из литературных манифестов
Д. С. Мережковский. О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы (Отрывок)
<…> В эпоху наивной теологии и догматической метафизики область непознаваемого постоянно смешивалась с областью непознанного. Люди не умели их разграничить и не понимали всей глубины и безнадёжности своего незнания. Мистическое чувство вторгалось и в пределы точных опытных исследований и разрушало их. С другой стороны, грубый материализм догматических форм порабощал религиозное чувство.
<…> Теперь последний догматический покров навеки сорван, последний мистический луч потухает. И вот современные люди стоят, беззащитные, – лицом к лицу с несказанным мраком, на пограничной черте света и тени, и уже боле ничто не ограждает их сердца от страшного холода, веющего из бездны. Куда бы мы ни уходили, как бы мы ни прятались за плотину научной критики, всем существом мы чувствуем близость тайны, близость океана.
Никаких преград!.. Мы свободны и одиноки!.. С этим ужасом не может сравниться никакой порабощённый мистицизм прошлых веков. Никогда ещё люди так не чувствовали сердцем необходимости верить и так не понимали разумом невозможности верить. В этом болезненном, неразрешимом диссонансе, этом трагическом противоречии, так же как в небывалой умственной свободе, в смелости отрицания, заключается наиболее характерная черта мистической потребности XIX века.
Наше время должно определить двумя противоположными чертами – это время самого крайнего материализма и вместе с тем самых страстных идеальных порывов духа. Мы присутствуем при великой, многозначительной борьбе двух взглядов на жизнь, двух диаметрально противоположных миросозерцаний. Последние требования религиозного чувства сталкиваются с последними выводами опытных знаний.
Умственная борьба, наполняющая XIX век, не могла не отразиться на современной литературе.
Преобладающий вкус толпы до сих пор реалистический. Художественный материализм соответствует научному и нравственному материализму. Пошлая сторона отрицания, отсутствие высшей идеальной культуры, цивилизованное варварство среди грандиозных изобретений техники – всё это наложило своеобразную печать на отношение современной толпы к искусству.
Недавно Э. Золя сказал следующие весьма характерные слова о молодых поэтах Франции, так называемых символистах, некоему m. Huret[2]2
Месье Гюре (фр.).
[Закрыть] газетному интервьюеру, написавшему книгу «L’enquete sur l’evolution litteraire en France»[3]3
«Исследование о развитии литературы во Франции» (фр.).
[Закрыть]: «Что они предлагают, чтобы нас заменить? Как на противовес огромной позитивной работе последних пятидесяти лет, указывают на неопределённый этикетик «символизм», прикрывающий бездарные вирши. Чтобы завершить изумительный конец этого громадного века, чтобы выразить всеобщую горечь сомнения, тревогу умов, жаждущих чего-нибудь незыблемого, нам предлагают неясное щебетание, грошовые вздорные песенки, сочинённые трактирными завсегдатаями. Все эти молодые люди, которым, кстати сказать, за тридцать, за сорок лет, занятые, в столь важный момент исторической эволюции идей, подобными глупостями, подобным ребячеством, кажутся мне ореховыми скорлупками, пляшущими на водопаде Ниагары».
Автор «Ругон-Маккаров»[4]4
Золя Эмиль (1840–1902) написал 20-томную серию романов «Ругон-Маккары», среди которых упоминающиеся далее романы «Нана», «Накипь» и «Разгром».
[Закрыть] имеет право торжествовать. Кажется, ни одно из гениальнейших произведений прошлого не пользовалось таким материальным успехом, таким ореолом газетной громоподобной критики, как позитивный роман. Журналисты с благоговением и завистью высчитывают, какой вышины пирамиду можно бы воздвигнуть из жёлтых томиков «Nana» и «Pot-Bouille». На русском языке, на который не переведены удобопонятным образом даже величайшие произведения мировой литературы, последний роман Золя переводится с изумительным рвением по пяти, по шести раз. Тот ж самый любознательный Гюре отыскал главу символистов Поля Верлена в его любимом, плохоньком кафе на бульваре Saint-Michel.Перед репортёром был человек уже немолодой, сильно помятый жизнью, с чувственным «лицом фавна», с мечтательным и нежным взором, с огромным, лысым черепом. Поль Верлен беден. Не без гордости, свойственной «униженным и оскорблённым», он называет своей единственной матерью l’assistance publique – общественное призрение. Конечно, такому человеку далеко до академических кресел рядом с П. Лоти, о которых пламенно и ревниво мечтает Золя.
Но всё-таки автор «Debacle», как истинный парижанин, слишком увлечён современностью, шумом и суетой литературного мгновения.
Непростительная ошибка думать, что художественный идеализм – какое-то вчерашнее изобретение парижской моды. Это возвращение к древнему, вечному, никогда не умиравшему.
Вот чем страшны должны быть для Золя эти молодые литературные мятежники. Какое мне дело, что один из двух – нищий, полжизни проведший в тюрьмах и больницах, а другой – литературный владыка, не сегодня, так завтра член Академии? Какое мне дело, что у одного пирамида жёлтых томиков, а у символистов – quatre sous de vers de mirliton (грошовые вздорные песенки (фр.) – выражение Золя.)? Да, и четыре лирических стиха могут быть прекраснее и правдивее целой серии грандиозных романов. Сила этих мечтателей в их возмущении.
В сущности, всё поколение конца века носит в душе своей то же возмущение против удушающего мертвенного позитивизма, который камнем лежит на нашем сердце. Очень может быть, что они погибнут, что им ничего не удастся сделать. Но придут другие и всё-таки будут продолжать их дело, потому что это дело – живое.
«Да скоро и с великой жаждой взыщутся люди за вполне изгнанным на время чистым и благородным». Вот что предрёк автор «Фауста» 60 лет тому назад, и мы теперь замечаем, что слова его начинают исполняться. «И что такое реальность сама по себе? Нам доставляет удовольствие её правдивое изображение, которое может дать нам более отчётливое знание о некоторых вещах; но собственно польза для высшего, что в нас есть, заключается в идеале, который исходит из сердца поэта». Потом Гёте формулировал эту мысль ещё более сильно: «Чем несоизмеримее и для ума недостижимее данное поэтическое произведение, тем оно прекраснее»[5]5
Из «Разговоров Гёте с Эккерманом».
[Закрыть]. Золя не мешало бы вспомнить, что эти слова принадлежат не своевольным мечтателям-символистам, жалким ореховым скорлупкам, пляшущим на Ниагаре, а величайшему поэту-натуралисту XIX века.
Тот же Гёте говорил, что поэтическое произведение должно быть символично. Что такое символ?
В Акрополе над архитравом Парфенона до наших дней сохранились немногие следы барельефа, изображающего самую обыденную и, по-видимому, незначительную сцену: нагие, стройные юноши ведут молодых коней, и спокойно и радостно мускулистыми руками они укрощают их. Всё это исполнено с большим реализмом, если хотите, даже натурализмом – знанием человеческого тела и природы. Но ведь едва ли не больший натурализм в египетских фресках. И однако они совсем иначе действуют на зрителя. Вы смотрите на них, как на любопытный этнографический документ, так же, как на страницу современного экспериментального романа. Что-то совсем другое привлекает вас к барельефу Парфенона. Вы чувствуете в нём веяние идеальной человеческой культуры, символ свободного эллинского духа. Человек укрощает зверя. Это – не только сцена из будничной жизни, но вместе с тем целое откровение божественной стороны нашего духа. Вот почему такое неистребимое величие, такое спокойствие и полнота жизни в искалеченном обломке мрамора, над которым пролетели тысячелетия. Подобный символизм проникает все создания греческого искусства. Разве Алькестис Эврипида, умирающая, чтобы спасти мужа, – не символ материнской жалости, которая одухотворяет любовь мужчины и женщины? Разве Антигона Софокла – не символ религиозно-девственной красоты женских характеров, которая впоследствии отразилась в средневековых Мадоннах?
У Ибсена в «Норе» есть характерная подробность: во время важного для все драмы диалога двух действующих лиц входит служанка и вносит лампу. Сразу в освещённой комнате тон разговора меняется. Черта, достойная физиолога-натуралиста. Смена физической темноты и света действует на наш внутренний мир. Под реалистической подробностью скрывается художественный символ. Трудно сказать почему, но вы долго не забудете этого многозначительного соответствия между переменой разговора и лампой, которая озаряет туманные вечерние сумерки.
Символы должны естественно и невольно выливаться из глубины действительности. Если же автор искусственно их придумывает, чтобы выразить какую-нибудь идею, они превращаются в мёртвые аллегории, которые ничего, кроме отвращения, как всё мёртвое, не могут возбудить. Последние минуты агонии m-me Bovary[6]6
Мадам Бовари, героиня одноименного романа Г. Флобера.
[Закрыть], сопровождаемые пошленькой песенкой шарманщика о любви, сцена сумасшествия в первых лучах восходящего солнца, после трагической ночи, в «Gespenster»[7]7
«Привидения» – драма Г. Ибсена.
[Закрыть] написаны с более беспощадным психологическим натурализмом, с большим проникновением в реальную действительность, чем самые смелые человеческие документы позитивного романа. Но у Ибсена и Флобера, рядом с течением выраженных словами мыслей, вы невольно чувствуете другое, более глубокое течение.
Мысль изречённая есть ложь. В поэзии то, что не сказано и мерцает сквозь красоту символа, действует сильнее на сердце, чем то, что выражено словами. Символизм делает самый стиль, самое художественное вещество поэзии одухотворённым, прозрачным, насквозь просвечивающим, как тонкие стенки алебастровой амфоры, в которой зажжено пламя.
Символами могут быть и характеры. Санчо-Панса и Фауст, Дон-Кихот и Гамлет, Джон-Жуан и Фальстаф, по выражению Гёте, – schwankende Gestalen[8]8
Неопределённые, неясные, смутные образы (нем.).
[Закрыть].
Сновидения, которые преследуют человечество, иногда повторяются из века в век, от поколения к поколению сопутствуют ему. Идею таких символических характеров никакими словами нельзя передать, ибо слова только определяют, ограничивают мысль, а символы выражают безграничную сторону мысли.
Вместе с тем мы не можем довольствоваться грубоватой фотографической точностью экспериментальных снимков. Мы требуем и предчувствуем, по намёкам Флобера, Мопассана, Тургенева, Ибсена, ещё не открытые миры впечатлительности. Эта жадность к неиспытанному, погоня за неуловимыми оттенками, за тёмным и бессознательным в нашей чувствительности – характерная черта грядущей идеальной поэзии. Ещё Бодлер и Эдгар По говорили, что прекрасное должно несколько удивлять, казаться неожиданным и редким. Французские критики более или менее удачно назвали эту черту импрессионизмом.
Таковы три главные элемента нового искусства: мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности <…>.
1893
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































