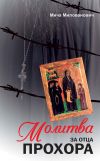Текст книги "Ровесницы трудного века: Страницы семейной хроники"

Автор книги: Ольга Лодыженская
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 54 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Ольга Сергеевна Лодыженская
Ровесницы трудного века: Страницы семейной хроники
Допущено к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви ИСР15-515-0742
Предисловие
Одним из неожиданных последствий информационного бума начала XXI века оказался небывалый прежде интерес к мемуарной литературе. Особым образом это касается России как страны, находящейся в крайне непростых отношениях с собственным прошлым. Воспоминания Лилианы Лунгиной («Подстрочник»), Натальи Трауберг («Сама жизнь») или Марины Шторх («Дочь философа Шпета») оказываются культурными событиями первого ряда, псевдоавтобиография Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени» получает Букеровскую премию, а автор книг-интервью со свидетелями наиболее болезненных эпизодов советской и постсоветской истории Светлана Алексиевич – Нобелевскую. Несмотря на остро переживаемый книжной индустрией кризис, издательства запускают серии воспоминаний. Очередной пример – новая автобиографическая серия издательства «Никея», в которой уже вышли «Записки уцелевшего» Сергея Голицына, а одновременно с «Ровесницами трудного века» увидят свет воспоминания Сергея Десницкого.
Все это вполне закономерно. В переизбытке литературы на любую тему особенно ценным и оказывается человеческий голос, сам «тембр» которого говорит о времени и человеке больше, чем тома изложений и исследований. Неслучайно расцвет исследований так называемой исторической памяти, то есть не фактов истории, а того, как эти факты откладываются в человеческом сознании, пришелся на 1990-е годы XX века, когда распад империи лишил ее жителей готовых «официальных» форм памяти о прошлом, оставив их наедине с памятью частной, полной боли, страхов и обид, но также радостей и надежд.
Ольга Сергеевна Лодыженская (1899–1984), или Леля, как называли ее домашние – дочь можайского судебного следователя и выпускницы московского института благородных девиц. Отец умер от туберкулеза, когда Леле было три года, а ее сестре Таше, второму главному действующему лицу воспоминаний, не исполнилось и года, и мать с двумя дочерьми оказалась предоставлена сама себе и милости родственников. Семья отца – богатые пензенские помещики Лодыженские, зимой жившие большим домом в Москве, семья матери – обедневшие дворяне Дурново (брат Лелиного деда – выдающийся лингвист Николай Дурново, арестованный по «делу славистов» и расстрелянный в 1937 году). Незадолго до революции, после нескольких лет жизни на съемных квартирах они унаследовали маленькое имение прадеда под Можайском. Впрочем, вдруг обретенное благополучие «липовых помещиков», как называют себя сестры, было довольно относительным: дохода с имения они почти не получают и даже покупка лошади оказывается Лодыженским не по карману. Сестры идут по стопам матери, поступая в Московский институт благородных девиц у Красных ворот, – сейчас на его месте конструктивистское здание Министерства путей сообщения. Первая мировая гремит где-то на периферии детской памяти, не слишком нарушая привычное течение жизни, и концом ее оказывается Октябрьская революция, после которой институт распускают, а имение приходится покинуть, ведь жить в собственном доне – значит подчеркивать свое происхождение и рисковать жизнью. Отъезд из дома открывает череду скитаний – жизнь в съемных комнатах, у чужих людей или «самоуплотненных» знакомых, неустроенность гражданской войны, поиски работы, попытки пересидеть голод на Украине в начале 1920-х, снова Можайск и безработица, – которые заканчиваются подобием устроенности в Москве в конце 1920-х, когда сестры выходят замуж и жизнь входит в более-менее надежное русло. Героини воспоминаний оказываются «ровесницами трудного века» не только по возрасту; их частная история очень точно, почти аллегорически, повторяет все то, что переживает страна в его первые десятилетия.
Воспоминания Ольги Лодыженской были записаны поздно, в начале 1970-х. Изначально они задумывались как дань памяти умершей в 1969 году Таше, но в процессе написания переросли в полномасштабный рассказ о жизни семьи. Этот рассказ оканчивается сравнительно благополучным для Лодыженских 1927 годом. Ксения Александровна Разумова (Ася), дочь Таши и племянница Лели, завершает их красноречивой припиской: «Мы спрашивали Ольгу Сергеевну, почему она не стала писать дальше, ведь жизнь была еще очень сложная. Она отвечала: „Дальше было так плохо, что не хочется вспоминать“». В 1937 году мать Лели и Таши все-таки оказалась в лагере как «крупная землевладелица», где вскоре умерла, а в 1941 умер муж Лели: его сердце не выдержало вызовов на Лубянку.
Именно Ксении Александровне воспоминания Ольги Лодыженской во многом обязаны своей публикацией. Маленькая Ася, названная в книге «человеком незаурядным», стала выдающимся физиком-ядерщиком, дважды лауреатом Государственной премии. Увидев в воспоминаниях тети ценность, выходящую за пределы семейной памяти, она сначала перепечатала их на машинке, а потом организовала издание крошечным тиражом для семьи и друзей. Под этой обложкой воспоминания приводятся в значительно сокращенном виде – в рукописи много вставных эпизодов и косвенных линий, не всегда представляющих интерес для стороннего читателя.
* * *
Первое, чем эти воспоминания обращают на себя внимание, – их литературный характер, обилие живых сцен и прямой речи. Конечно, спустя 60 лет воспроизвести в деталях гимназические диалоги или разговоры пассажиров едущего на юг эшелона невозможно. Это беллетризованные воспоминания: на склоне лет Ольга Сергеевна словно бы проживает заново свою юность и молодость, отчасти «разыгрывая» события прошлого, как это делают авторы исторических романов. Но тем показательнее особенности работы человеческой памяти. Обладая замечательным литературным слухом, автор облекает личные воспоминания, личный голос в формы, характерные для такого рода литературы. Воспоминания о гимназии сразу напомнят читавшим рассказы Лидии Чарской, невероятно популярной в начале века; Ольга Сергеевна рассказывает, как младшие девочки «играют в Чарскую», а старшие читают ее книги под партой на уроках. Описывая романтические эпизоды прошлого, а Леля пользуется успехом у мужчин, она прибегает к художественному языку близких ей авторов – на этих страницах можно расслышать отзвуки прозы Всеволода Гаршина, Николая Гарина-Михайловского, Дмитрия Григоровича, Александра Куприна. В стихах, довольно многочисленных в рукописи, но по большей части не вошедших в настоящее издание, хорошо различимо влияние Семена Надсона, властителя умов гимназисток дореволюционной поры.
Но преломление личных воспоминаний в языке этих авторов – лишь один из крайне интересных механизмов памяти, задействованных в воспоминаниях Лодыженской. Ведь содержательно здесь мы тоже отчасти имеем дело с известным преломлением действительности. Одно из самых сильных впечатлений от воспоминаний Ольги Лодыженской – ровность и легкость голоса, которым она описывает распадающийся на глазах мир. Налаженный быт в собственном, хоть и совсем небогатом имении – с няней, лошадьми и домашними котлетами – уходит в небытие стремительно и бесследно. Эфемерность любого «устройства» подчеркивается тем, с какой готовностью и даже задором эти недавние институтки берутся за любой труд, от шитья транспарантов до секретарства в больничной канцелярии, бросают насиженное место, с трудом найденную работу и драгоценные человеческие связи, чтобы отправиться в украинские степи навстречу неизвестности, полтора месяца трястись в тесно набитых поездах, несколько раз переболеть тифом, пережить набег махновцев, снова голод и два года спустя с такой же легкостью кинуться назад, в Можайск. Мир распался, нет и следа былого благополучия, а эти барышни, привыкшие к лепешкам из плохой муки и годами лишенные возможности «залезть в ванну», случайно встретившись на вокзале под Харьковом, сидя на узлах, читают на память Брюсова и Надсона.
Как ни удивительно, нигде на страницах этих воспоминаний не слышно горечи об ушедшем стройном и благополучном мире, ни слова о том, что нянины домашние котлеты лучше, чем оладьи из картофельных очисток, приготовленные на коммунальной кухне. Терпимость к творящемуся вокруг ужасу, распаду мира и связей, не случайна именно потому, что перед нами не дневники, а запись воспоминаний, корректировавшихся на протяжении десятилетий. Тем важнее вглядеться и постараться понять, что же за ней стоит и как она устроена.
У этой терпимости, или у принятия действительности, как минимум несколько причин. Леля с искренним воодушевлением принимает советскую власть. И дело не столько в романтическом восприятии революции, сколько в распространенных среди дворянской молодежи того времени левых настроениях и мечтах о социальной справедливости. Вместе с Лялей Скрябиной, дочерью композитора, Ольга Сергеевна мечтает после института организовать «музыкальные школы для народа». И когда в 1917-м студент-патрульный с винтовкой в руках и красной повязкой на рукаве обращается к ней «товарищ», ее сердце, как признается она, наполняется теплом. Можно ли видеть здесь результат десятилетиями формировавшихся под давлением советской действительности представлений о преимуществах нового строя? Или дело в атмосфере страха и чувстве незащищенности, закрепившимися у всех, переживших 1930-е и 1940-е годы прошлого века в СССР? Наверное, отчасти и то и другое. Но только отчасти – заметим, что о НЭПе Леля вспоминает безусловно сочувственно, хотя он и был заклеймен впоследствии. Куда важнее другое, явно висящее в воздухе в 1910-х годах ощущение надвигающейся бури, причем бури благотворной и очистительной, а потому, в общем, желанной. Вот как Таша описывает прощание с имением:
Мы ждали ветра, я и ты.
Он налетел, такой суровый,
И в дымке призрачной мечты
Навеки скрылось Отяково.
Это ожидание ветра – не блоковское упоение музыкой революции, но ощущавшийся всеми современниками слом, тектонический сдвиг эпох – свидетельств тому много в лучших произведениях искусства этого времени: от «Черного квадрата» Малевича до «Белой гвардии» Булгакова и «Стихов о неизвестном солдате» Мандельштама. Неудивительно, что происходящее не воспринимается как результат злой воли человека – большевиков, Ленина, красных или белых. В книге вообще, на удивление, нет ни красных, ни белых, и даже махновцы, захватывающие украинский Старобельск как раз тогда, когда там живут Лодыженские, описаны в первую очередь с бытовой стороны. Из военных или лагерных воспоминаний, на которые так богат XX век, мы знаем, что экстремальные лишения человек воспринимает без горечи, как стихийное бедствие: когда кругом смерть и разруха, им перестаешь ужасаться, а смысл жизни сводится к тому, чтобы прожить еще один день.
У ровной и светлой тональности, с которой Лодыженская описывает полное лишений время, есть еще одна, быть может, самая психологически убедительная и оттого особенно важная причина. Пожилой человек описывает время своей юности и молодости, которое всегда остается в памяти как светлое и беззаботное время – какие бы невзгоды не выпадали на его долю в действительности. Автор хорошо знает об изнанке этой действительности («дальше было так плохо…»), но вспоминать предпочитает иное. И это тоже важная правда о памяти: самые страшные страницы часто стираются из нее или заменяются мифами не потому, что кто-то намеренно стремится спрятать и исказить страшную правду, а просто потому, что человечек естественным образом отторгает и вытесняет такие воспоминания. Это вовсе не значит, что следует идти на поводу у такой защитной памяти. Но знать об этом механизме и учитывать его эффект совершенно необходимо.
Мы знаем много воспоминаний тех, кто ценил и помнил былой ушедший мир и оплакивал его, и диапазон переживаний тут очень широк – от трезвого отчаяния Ивана Бунина до сентиментальных идеализаций Ивана Шмелева. Большинство из них покинули Россию, унеся с собой на чужбину ее образ, другие ушли во внутреннюю эмиграцию. Примеры такой памяти представляют другие книги серии «Семейный архив». Но тех, кто так или иначе принял происходящее, куда больше, и мы, читающие эти воспоминания, скорее всего, именно их потомки. Их голос особенно важен для нас, потому что с большой вероятностью описывает восприятие, разделявшееся нашими предками. Понять их – значит отчасти понять самих себя.
* * *
Груз «трудного прошлого» не просто требует переосмысления – без него это прошлое грозит оставаться настоящим, протаскивая в настоящее свои реликты и рефлексы. Историки и социологи правы, когда говорят, что российское общество разделено и останется разделенным, если не сумеет выработать формулы национального примирения, договорившись о прошлом. Но для того, чтобы такой договор оказался возможным, необходима работа с памятью, важная часть которой состоит как раз в том, чтобы дать зазвучать разным голосам тех, кто жил тогда и видел все своими глазами. Ведь упрощенное или схематическое представление об этом прошлом не менее опасно, чем отказ извлекать из него уроки. Парадные картины жизни молодой родины победившего пролетариата – такая же схема и неправда, как картины беспросветного мрака диктатуры и сплошной мясорубки войн, голода и репрессий. Было и то и другое, и лучший способ избежать механических оценок – почувствовать атмосферу того времени, описанную трезво, но сочувственно, без идеализаций, но и без отторжения, читая о том, как люди просто жили, мучались и радовались, ссорились и влюблялись, голодали и читали стихи. Такое чтение – лучшее свидетельство того, что реальная, «живая жизнь» намного сложнее схем и идеологических конструкций.
В каком-то смысле сочувственный взгляд даже важнее критического. Ведь благодарное принятие того в прошлом, что достойно благодарности, такая же важная часть его осмысления, как осуждение и покаяние за то, что достойно осуждения и покаяния. Духовная работа благодарения за добро – не менее необходимое условие осуществления связи с прошлым, заявления и признания прав на него, чем усилие принятия ответственности за совершенные в прошлом злодеяния.
Воспоминания Ольги Лодыженской, буквально дышащие жизнью, насыщенные языком и деталями времени, – бесценное подспорье, чтобы почувствовать прошлое и выстроить с ним личные, а не абстрактные отношения.
Часть 1
Первые тропинки
Как ветер, память с тихой лаской
Колышет прежних дней ковыль,
И кажется далекой сказкой
Годами сглаженная быль.
В виде эпиграфа к моим воспоминаниям, а также отдельным главам я написала отрывки из незаконченной поэмы о нашем детстве, написанной моей сестрой, Наталией Сергеевной Разумовой, урожденной Лодыженской. Ей я и посвящаю свои воспоминания.
Глава I
Наша семья
ОтецЯ родилась в 1899 году в городе Можайске, в семье судебного следователя. Папа умер в 1902 году, когда сестра моя Таша была еще грудная. Он простудился, выезжая куда-то в глушь уезда на следствие, и заболел туберкулезом.
Об отце я слышала много хорошего от знавших его людей. С первых же лет работы в Можайске он организовал общество вспомоществования учителям, был его председателем до самой смерти. Вот что написано о нем в печатном отчете общества за 1902 год: «В конце года, 28 декабря, умер председатель правления С.М. Лодыженский. Доводя до сведения общего Собрания об утрате столь полезного, деятельного, много поработавшего на пользу общества члена, горячо любившего школу и народное просвещение, правление выражает уверенность, что общество вполне разделяет вместе с ним чувство глубокого сожаления об этой потере…» Еще он организовал кружок по устройству народных чтений с туманными картинами в Можайском уезде. Об этом мне рассказывал один из его лучших друзей Петр Иванович Корженевский. О Петре Ивановиче речь впереди еще будет, но я скажу только, что он работал в Москве адвокатом, а так как отец его жил в Можайске, то он часто приезжал туда. Много, конечно, о папе я слышала от мамы. Как-то еще в детстве, роясь в нашей небольшой библиотеке, я наткнулась на пять тоненьких брошюрок-отчетов «общества взаимопомощи» за папиной подписью и один рукописный отчет о производстве чтений. <…> Несмотря на то что отчет ведь чисто финансовый и озаглавлен: «Приходно-расходная запись сумм, собранных на устройство народных чтений и т. п.», чуть не на каждой странице проскальзывает горечь о том, как темны и невежественны люди и как несправедливы упреки в пьянстве и суеверии народа – несправедливы, потому что народ не виноват, что он беден и лишен возможности «разумных и нравственных развлечений».
Папу я помню плохо. Он был высокий, худой, носил пенсне, усы и бороду. По портрету, он немного похож на Чехова. Для меня он всегда был символом всего хорошего и доброго. Мама часто говорила об его исключительно мягком характере, за четыре года жизни с ним она не помнит, чтобы он на кого-нибудь повысил голос. Его большой портрет в черной раме, висящий у нас в детской, как бы удерживал меня от злости и капризов, а их было много в моем детстве.
Когда на улицах Можайска мы гуляли с няней и Ташей, часто к нам подходили незнакомые мне люди и говорили: «Старшая – вылитый портрет Сергея Михайловича, хорошо бы и характером на него походила». А я уже тогда понимала, что характером я не в папу.
Из самых ранних воспоминаний сохранилось два.
Помню аллейку в прадедушкином имении Отякове, по аллейке идут папа, мама и я. Папа везет колясочку. Аллейка на возвышении, направо парк, налево деревня Отяково, а прямо, когда кончается аллея, открывается очень красивый вид на поле, лес. На самом горизонте – железнодорожное полотно, пересекающее деревню Рыльково. Когда я рассказывала об этом воспоминании маме, она говорила, что это было самое любимое папино место, и когда они жили в Отякове, часто ходили туда гулять. Только вот не могли установить, кто же лежал в колясочке, Таша или Мишенька. Мама с папой поженились в 1898 году, в 1899-м родилась я, в 1900-м – Миша. Он умер в 1901-м «от зубов», как мама говорила. А Таша родилась в апреле 1902 года. Думаю, что все же в колясочке лежала Таша, а мне тогда было три года.
Второе воспоминание – смерть папы. Мы в Москве, у бабушки Оли, папиной мамы. Очень ясно помню утро, я стою на кровати, и меня одевают, даже помню, что мне надевали красную вязаную нижнюю юбочку, вдруг входят мама и тетя Соня, папина сестра, обе заплаканы. Особенно запомнилось мамино, все распухшее лицо. Мама говорит: «Леля, папа умер», и слезы закапали прямо на меня. И хорошо запомнилось мне странное ощущение. Я чувствую, что должна заплакать, все плачут, но заплакать я не могу, мне не совсем понятно слово «умер».
МамаОбраз нашей мамы очень хорошо передан в стихах сестры:
Наш папа умер. В черной раме
Висел большой его портрет.
В то время было нашей маме
Всего лишь двадцать с чем-то лет.
Она с двумя детьми осталась,
Беспомощна и хороша.
Но не согнулась, не сломалась
Ее веселая душа.
В ней словно искорки сверкали,
Из синих глаз смотрел Апрель,
И даже волосы сияли,
Как темно-золотистый хмель.
Она простор полей любила,
Любила ветер грозовой
И в детский наш мирок вносила
Лучи поэзии живой.
Любимый образ сквозь ненастье,
Сквозь все тревожные года
Я пронесла как символ счастья,
Что не вернется никогда.
Мне хочется рассказать о тяжелом детстве, которое выпало на ее долю.
Мама родилась в семье Сергея Николаевича и Марии Михайловны Дурново. Когда произносится эта фамилия, первым делом приходится оговариваться, что к «вешателю» Дурново дедушка Сергей отношения не имел. В то время эта фамилия была распространена. Со мной в институте учились две девочки Дурново, совсем нам не родные, а также не родственники ни между собой, ни министру. Читала я, что была революционерка Лиза Дурново, и видела ее фамилию в «Словаре революционеров».
Братья Сергея Николаевича были скромные интеллигенты. Николай Николаевич – довольно известный профессор-языковед, а Михаил Николаевич – преподаватель гимназии; оба отличные семьянины. А у Сергея Николаевича семьи не получилось. Они развелись, когда мама была еще совсем маленькая. Развод в восьмидесятых годах прошлого века! Это же редкость! И вот эта редкость обрушилась на маленькую Наташу всей своей тяжестью. Отец, блестящий офицер и красавец, не замедлил жениться на богатой купчихе, вдове с тремя детьми, а мать тоже с кем-то сошлась, но прожила недолго, года через два она отравилась.
Сначала Наташа жила с матерью, но, как это ни странно, мать не любила ее. Била, запирала одну в комнате. А после ее смерти Наташа переехала к отцу. С ранних лет ребенок чувствовал, что он никому не нужен, что им тяготятся. Как только появилась возможность, отец отправил ее в институт. Из института ее не брали даже на каникулы. Затем в семействе отца родилось еще двое ребят. «Мои, твои и наши», как говорил Сергей Николаевич. И одно только светлое пятно было в ее детстве – это отец матери, ее дедушка Михаил Павлович Савелов. Он жил один, на покое, в своем небольшом именьице под Можайском, Отякове. Михаил Павлович рано потерял жену, и двое детей умерли тоже молодыми. Сын Павел даже не был женат. Все это ожесточило его, он забросил работу, общественно-выборные должности, охоту (в молодости он был страстный охотник, во время сезона охоты к нему съезжался чуть ли не весь уезд) и поселился со своей экономкой Александрой Егоровной, которая реально стала ему и женой.
В имении был чудный фруктовый сад. Михаил Павлович не нанимал садовника и сам за ним не ухаживал. <…> Был большой старинный двухэтажный дом, который помнил еще нашествие французов в 1812 году. Дом стал приходить в ветхость, требовался ремонт, тогда Михаил Павлович переехал в старенький флигель.
У Михаила Павловича и Александры Егоровны родилась девочка Машенька, она года на два была моложе моей мамы. Она выдавалась за сироту-племянницу Александры Егоровны. Как удивительно любили все скрывать и обманывать в старину! Я узнала, что Мария Михайловна дочь моего прадедушки, уже будучи большой девочкой, и то случайно. Сумели также скрыть и то, что мамина мать покончила жизнь самоубийством, а официальная версия была – отравление, как несчастный случай. Но возможно, что в этом была необходимость, ведь раньше самоубийц не разрешали хоронить на кладбище.
Так вот, как-то еще до института, во время очередных перебросок из дома в дом, моя мама попала в Отяково, к своему дедушке Михаилу Павловичу. Дедушка был строгий, высокий, носил длинные бакенбарды, не любил много говорить и называл маму Наталия Сергеевна. В общем, вид был суровый, а сердце доброе. А Александра Егоровна была намного моложе его, полная, добродушная, отнеслась к маме, как к своей дочке, закармливала ее всякими пышками и лепешками, и почувствовала мама там родное, и привязалась к ним всем своим сердцем. Но недолго ей приходилось там бывать – то отец получал назначение в другой город, то надо было ехать в институт. У мамы сохранились ее письма к дедушке из института. Это целая пачка трогательных детских излияний. Она, очевидно, взяла ее себе на память после смерти дедушки, а мы нашли эти письма после ее смерти – нашли в том же чемоданчике, где были папины отчеты.
«Дорогой мой дедушка, – писала она, – я только и живу мыслью о милом Отякове. Молю Бога о вашем здоровье. Несчетное количество раз целую дорогую Александру Егоровну. Вы пишете: „Тебе будет скучно у нас, может, захочешь поехать к отцу на лето“. Милый дедушка, у вас мне скучно никогда не может быть, а ехать к новой маме мне не хочется».
И вот закончила Наташа институт. Веселая, очень хорошенькая, с золотистой толстой косой и голубыми наивными глазами, она очень доброжелательно относилась к людям, и тем не менее жить в семье отца ей не хотелось. Кроме того что в этой большой семье все были чужие, ее отец обладал довольно трудным характером. Он был очень вспыльчив, взбалмошен и эгоистичен. Стоило кому-нибудь случайно разбить одну тарелку, как он хватал весь сервиз и швырял его на пол, приговаривая: «Бейте, бейте всё». Это из-за одной разбитой тарелки, а на что-нибудь более серьезное он мог и не обратить внимания.
После выпуска решили Наташу направить в Петербург, к ее родной тетке, сестре отца, Анастасии Николаевне Дурново. Тетку эту я никогда в жизни не видела, и представления о ней и об ее образе жизни у меня очень смутные. Слышала только, что она была очень красива, жила почему-то одна в Петербурге и каждое лето выезжала на дачу в Царское Село. Была она очень важная и строгая, но к маме отнеслась хорошо, увидела, что мама неплохо играет на рояле и голосок у нее довольно приятный (она и музыке, и пению училась в институте), и устроила ее тут же на какие-то музыкальные курсы. Мама ходила на них с большим удовольствием.
Жили они очень замкнуто, сразу маму поразило, что все буфеты у тети Насти были на запоре, и, видя такую скупость, бедная девочка стеснялась попросить прибавки к отпущенной ей порции. В смысле одежек тоже было плохо. Как-то вечером, идя домой с курсов, она почувствовала, что у нее отрывается подметка, зашла Наташа за уголок, оторвала эту подметку и пошла шагать на одной стельке. А на другой день долго мучилась перед тем, как сказать тетке о своей неудаче.
Но ни отсутствие туалетов, ни рваная обувь Наташиной жизнерадостности не сбавляли.
Окончив курсы (они были краткосрочные), Наташа поехала в свое любимое Отяково. Там ей было хорошо и просто. Летом – грибы, ягоды, дальние прогулки, и на рояле поиграет, и попоет, развлечет стариков. А зимой – с девушками-подружками из деревни на салазках с горы каталась, а под Новый год и в Крещенский вечер гадать к часовне ходили. <…>
И вот прошло немного времени, и познакомилась Наташа в Можайске с новым судебным следователем Сергеем Михайловичем Лодыженским. И конец зимы, и всю весну заливались под дугой колокольчики. Это можайские ямщики возили на тройке или на паре Сергея Михайловича в Отяково. А в июне сыграли свадьбу. Но только четыре года прожила мама с мужем, трое детей родилось, а с 1902 года, с двумя сиротами, осталась вдовой. Мы продолжали жить в Можайске, мама получала на нас небольшую пенсию. Квартиру сняли поменьше.