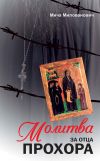Текст книги "Ровесницы трудного века: Страницы семейной хроники"

Автор книги: Ольга Лодыженская
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 54 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
И вот опять мы в Москве у дедушки Сергея. Дедушка сообщает мне, что в этом году поступает в институт в седьмой класс дочка его товарища и прямого начальника, Кира Ушакова.
– Советую тебе подружиться с ней, она очень умная и хорошая девочка. Ты подойди к ней и скажи: а я знаю, что вас зовут Кира.
– Во-первых, мы все на «ты», – отвечаю я, – а во-вторых, как я узнаю, какая из новеньких Кира Ушакова, ведь их много будет.
И дедушка начинает описывать мне необычайную красавицу.
– У нее толстая, вьющаяся коса пепельного цвета, синие глаза, румяная, хорошие брови и ресницы.
– Ладно, познакомлюсь с вашей красавицей, – сказала я дедушке.
Мама сводила меня в фотографию, почему-то фотограф счел необходимым сунуть мне в руки игрушку – сломанного мопса. На карточке запечатлелась худенькая девочка в матроске, с испуганным выражением лица и с волосами до плеч.
– Волосы-то, наверно, заставят подвязывать, – говорила мама, укладывая в мою корзинку черные ленты.
И вот я опять в институте. Седьмой класс оказался в противоположном конце коридора, противоположном моего бывшего приготовительного. Он упирался в квартиру начальницы, а дверь его находилась напротив желтой парадной лестницы. Он размещался как-то совсем обособленно от остальных классов. У него даже была своя умывальная и уборная. <…>
Из всех новеньких сразу выделялась хорошенькая девочка, небольшого роста, причесанная в две косы, косы толстые и до пояса, темно-каштанового цвета; у нее были очень красивые, большие глаза, сине-зеленые, лицо немного бледное, но очень подвижное. Увидев, что мы, «старенькие», образовали небольшую группу, она подошла к нам и непринужденно заговорила о том, как ей хотелось в институт, какая скука дома – сестры взрослые, детей больше нет.
– Ay вас шалят здесь? – закончила она вопросом.
– Еще как, погоди, вот Лелька, Белка да и я покажем тебе, – ответила Тамара.
– Так примите меня в свою компанию, – попросила Вера Сейдлер, так звали эту девочку.
Она нам сразу понравилась.
– А кто у нас классухи? – спросила я всеведущую Тамару.
– Ничего, жить можно, – ответила Тамара. – Антонина Яковлевна Зотова – немецкая и Алиса Николаевна Виту – французская.
– Какое счастье, – завопила я, – что нет Ступиной!
– Ступина взяла пятый класс и будет вести его до выпуска, а вашу тетю Любу оставили на второй год в приготовительном.
Вскоре пришла молодая дама со строгим, но приятным лицом. Это была Зотова. Она стала нас рассаживать по партам и снабжать книгами и тетрадями. Я оказалась по росту в середине класса, не так как в прошлом году, тогда я была меньше всех. Моя парта стояла крайняя в третьем ряду, рядом сидела новенькая Лида Дрейер. Своим обликом она мне напомнила нашу Параню. Только Параня и старше намного, и полнее, и чуть погрубее, а все остальное очень похоже: те же золотистые негустые волосы, хороший цвет лица, и глаза те же, а главное, их выражение – дружелюбное и спокойное. Но сейчас девочка заметно волновалась, и по лицу видно было, что она недавно плакала. «Наверно, при прощании с родителями», – подумала я. Она что-то спросила меня по поводу учебников, и мы разговорились.
Лида рассказала, что приехала вместе с сестрой Олей, которая поступила в пятый класс. Они из Пензенской губернии, у них там имение и конный завод.
– Посмотри на мои руки, – говорила Лида, голос у нее какой-то приглушенный и низкий, – видишь, какие они широкие и загорелые, это оттого, что я очень люблю править, много езжу верхом и люблю ухаживать за лошадьми.
Я рассказала ей про Ташу.
Весь вечер мне не хотелось отходить от Лиды, и, хотя меня отвлекали и Тамара, и Белка, я старалась возвращаться к ней.
Белка – так звали Наташу Велихову. Девочка эта была на редкость некрасива: у нее были совершенно косые глаза, бледное и нечистое лицо и широкий курносый нос. Сзади болталась тоненькая косичка. Белка производила впечатление человека себе на уме. Помню, иногда она подходила к нам с Менде, но, как только начинали кого-нибудь из нас дразнить, она моментально отдалялась. Вообще, нейтралитет она умела держать здорово, и молчать умела – скосит глаза, надует щеки и может молчать целый день.
К моей радости, я обнаружила в дортуаре, что моя кровать стоит рядом с Лидой Дрейер, и тут мы оказались соседями; я видела, что она тоже довольна. Я предупредила Лиду, что завтра утром, когда она проснется впервые в институте, ей будет очень тяжело, – Только ты не поддавайся этим чувствам, – говорила я, – а то поддашься, впадешь в отчаяние, и все у тебя пойдет вкривь и вкось. Вспомни завтра, что у тебя здесь есть сестра, ты можешь каждый день с ней видеться, гулять в саду вместе будете.
Лида слушала меня внимательно и сказала:
– Как хорошо, что я тебя здесь встретила. <…>
Первый урок был русский язык. Вошла знакомая мне Юлия Ивановна Тимофеева и вызвала к доске «девочку Высоцкую». Вышла высокая, какая-то очень яркая девочка. Волосы у нее иссиня-черные, кудрявые до плеч. На щеках румянец, лицо смуглое, глаза черные, небольшие, но благодаря густым ресницам тоже кажутся очень яркими, и даже нос, немного длинный и вздернутый, не портит ее. Я обратила внимание на ее ладную фигуру. <…>
«А ведь новенькая!» – подумала я. Отвечала она очень хорошо. Говорила немного быстро, но громко и внятно, нисколько не смущаясь. Юлия Ивановна смотрела на нее с одобрением и сказала:
– Очень хорошо, девочка, садитесь.
Дальше последовала Трескина, тоже высокая, черноглазая, с русой косичкой и очень приятным лицом, но вид совсем другой. Вышла боком, как и я в первый раз. Животик вперед, очень смущается, когда стала писать на доске, грамотно и почерк красивый, но строчки, видно от волнения, тоже полезли вниз. Несколько раз роняла мел. Она мне как-то понятнее была. Затем Юлия Ивановна вызвала Ушакову – вот рассмотрю дедушкину красавицу. Хорошенькая, но вовсе не красавица, во-первых, когда сидела, казалась высокой, а у доски стала маленькой. Что-то холодное и строгое в лице, может, от узких, как бы поджатых губ. Дальше Юлия Ивановна вызывать не стала, а объясняла следующий урок. Я старалась слушать, но все время отвлекалась рассматриванием девочек. <…>
Через несколько дней к нам привели в класс еще одну новенькую. Ее сначала приняли в шестой класс, а потом решили перевести в седьмой. Звали ее Вера Куртенэр. Не знаю, чем это объяснить, но я с первого же взгляда почувствовала к ней необычайную симпатию. Все мне в ней очень понравилось: и ее очень тоненькая фигурка с русой косой, и какие-то особого разреза «длинные глаза» зеленоватого цвета, и даже то, что она немного скуластенькая. Она пришла в переменку, посадили ее сзади, рядом с Таней Трескиной, и я весь урок вертелась, чтобы на нее посмотреть. А в следующую переменку не утерпела и подошла к ней.
– А меня в прошлом году перевели из седьмого в приготовительный, – почему-то сочла нужным сказать я.
– Значит, друзья по несчастью, – улыбнулась Вера.
Я заметила, что новенькая понравилась также Ирине Высоцкой. До сих пор Высоцкая держалась как-то обособленно. А сейчас взялась показывать ей, что задано на завтра, видно, хочет подружиться, подумала я. <…>
Однажды вечером, в ее дежурство, Вера Сейдлер стала тихонько сзывать всех в коридорчик перед «маленькой комнаткой» – так называлась у нас уборная.
– Там кто-то заперся, – говорила она, – и никого не пускают. Там двое, я стучусь, а они хихикают.
– Кто там? – басом сказала Кичка. – Откройте дверь.
Дверь открылась, из нее вышли Вера Куртенэр и Таня Трескина, Таня пробежала быстро в класс, она что-то несла в фартуке. А Сейдлер накинулась на Куртенэр:
– Как тебе не стыдно, чем вы там занимались?
– А тебе какое дело, – гордо сказала Куртенэр и прошла в класс.
Сейдлер тоже прошла за ней и, пользуясь отсутствием Алисы, громко продолжала свои вопросы.
– Отстань от меня, – ответила Куртенэр, – не хочу с тобой разговаривать.
– Стыдно признаться, – презрительно сказала Сейдлер.
Трескина вскочила и начала:
– Это я просила Веру…
Но Куртенэр перебила ее.
– Не унижайся, Таня, почему ты должна оправдываться перед глупой девчонкой, пусть подозревает, что хочет.
– Как ты смеешь называть меня глупой девчонкой! – закричала Сейдлер.
И вдруг Таня горько заплакала. Мы с Кичкой бросились ее утешать.
– Это я во всем виновата, – твердила она, всхлипывая, – я попросила Веру помочь мне отломать у куклы голову. Хочу ее приделать к другому туловищу, вот она.
Таня приподняла парту и показала растерзанную куклу, но голова ее еще держалась. А Сейдлер продолжала кричать и возмущаться.
– Уймись, Сейдлер, – сказала Кичка, – видишь, до чего хорошую девочку довела. Она вся дрожит прямо. Ты привыкла дома всеми командовать, а здесь, если будешь задаваться, с тобой никто дружить не станет.
Сейдлер замолчала и недовольная пошла на свое место. Когда в класс вошла запыхавшаяся Алиса (она всегда очень торопилась к нам после недолгих отлучек), было сравнительно тихо. Лицо у Тани просто пылало, Алиса заметила это и потащила ее в лазарет. Мне жалко было Таню, брала злость на Сейдлер, но больше всего меня восхищала Вера Куртенэр. Какая молодчина, я, наверно, никогда не смогу так поступать. Недаром Высоцкая так и прилепилась к ней и не любит, когда кто-нибудь подходит…
Антонина Яковлевна недавно читала нам немецкий рассказ про двух шаловливых мальчишек, толстого Макса и худого Морица, про их приключения. Мы все смеялись, а Куртенэр сказала <…>
– Это мы с Высоцкой: Высоцкая – Макс, а я – Мориц, она толстая, а я худая.
И кличка Макс так и прилепилась к Высоцкой. Но Морицем Веру никто не звал. А Кичка однажды сказала ей:
– Тебя не Морицем надо звать, а «фуф».
Действительно, Вера очень любила это междометие и часто употребляла его. Фу, как холодно, фу, как жарко, фу, как нехорошо, и даже фу, как хорошо, сегодня русского не будет. И эта кличка прилепилась к Куртенэр.
Семь братьев-разбойниковАлиса вернулась одна. «У Трескиной 37,5, ее оставили в лазарете», – сказала она и даже не поинтересовалась, почему Таня плакала, ведь по ее лицу это было видно. Что здесь происходило? Сейдлер погрустнела, она чувствовала себя виноватой перед Трескиной, почему-то перед Куртенэр она себя виноватой не чувствовала.
Через несколько дней Таня вышла в класс. Все девочки ее встретили очень приветливо. Незлопамятная Таня все забыла и даже подружилась с Сейдлер.
– Мне велели каждый вечер после ужина ходить в лазарет и мерить температуру, она у меня почему-то повышается по вечерам, – рассказывала нам Таня.
Итак, она жила наполовину в лазарете. А через месяц мы узнали печальную новость: у Тани нашли туберкулез. До Рождества она будет лежать в лазарете, а после каникул ее повезут на юг.
Новость произвела на всех удручающее впечатление, хотелось что-то сделать для Тани. Сейдлер предложила собрать всем денег и купить Тане хорошую игрушку, чтобы ей было веселей в лазарете. Это предложение всем понравилось. У нас у каждой было понемногу денег, вернее, не у нас, а у классной дамы. Родители оставляли на всякий случай, мало ли на что могло пригодиться: потерялась лента, вышел зубной порошок, к большим праздникам собирали классной нянечке на подарок. На руках держать деньги строго запрещалось, мы сдавали классухам, и они вели бухгалтерию. Стали думать, что купить, кто предлагал хорошую куклу, кто интересную игру. И наконец остановились на марсианине. Была такая модная игрушка в те годы. Очевидно, в то время была распространена гипотеза о том, что на Марсе есть люди, и благодаря этому во всех игрушечных магазинах Москвы появились куклы-марсиане. Их изображали очень примитивно. Громадная голова, от нее прямо из щек выходят маленькие ручки, а из подбородка такие же ножки. На самой макушке небольшая матросская шапочка с лентами. Так представляли себе жителя Марса. Мы попросили Алису, но она, по своей нерешительности, ничего нам определенного не ответила, сказала, что она должна посоветоваться с начальницей. Тогда на другой же день мы обратились к Антонине Яковлевне, она внимательно выслушала нас и предложила в первый же свободный день сходить к Мюру и купить подарок.
– Да, – вдруг вспомнила я, – ведь надо сказать, что мы вчера обращались к Алисе Николаевне, а то она сунется к Ольге Анатольевне, когда подарок будет уже куплен.
– Длинный язык у тебя, – проворчала Белка.
Но Антонина Яковлевна запротестовала.
– Очень хорошо Лодыженская сделала, что сказала мне, а то мы могли поставить Алису Николаевну в неловкое положение. Только выбирай выражения, что значит «сунется»?
А я подумала: спасибо, не сказала «сунется к г-же». Нянечки и швейцар звали Ольгу Анатольевну «госпожа начальница», а институтки прозвали ее Гжа.
И вот скоро Антонина Яковлевна принесла нам громадного марсианина, он весь был розовый, из какой-то мягкой материи, а на макушке беленькая матросская шапочка с синими лентами. Мы написали Тане письмо, и Сейдлер с Кичеевой понесли подарок в лазарет. Вернулись они расстроенные: дальше передней их не пустили и Таню они не видели. Тогда я решила завтра утром, во время Алисиных занятий, пробраться в лазарет, повидаться с Таней и узнать, понравился ли ей марсианин.
Сразу после утреннего чая я потихоньку вышла из пар и побежала по другой лестнице прямо к лазарету. Около двери остановилась перевести дыхание, вдруг, на мое счастье, смотрю: идут два полотера со щетками, я, согнувшись, проскользнула между ними, прошла пустой холл, в столовой были открыты форточки, быстро пробежала ее и открыла дверь в коридор, ведущий в палаты. Очевидно, палаты убирались, потому что постели больных стояли в коридоре. Вон она, Танина кровать. Таня сидит, и в руках у нее наш марсианин, но рядом с ней стоит доктор Владимир Григорьевич; ну, была не была, он, кажется, не злой и скандала не поднимет.
– Доктор, правда, он замечательный? – говорит Таня, показывая ему марсианина.
– Хорош, хорош, – смеется Владимир Григорьевич.
Я смотрю на Таню, она веселая, розовая, даже не скажешь, что она больна, и личико у нее полненькое. Вдруг оба сразу замечают меня.
– Лелька Лодыженская, – весело кричит Таня, а доктор делает строгое лицо.
– Это что за явление? Марш отсюда, и поскорей, пока Евгения Петровна не пришла.
– Танечка, как ты себя чувствуешь? – спрашиваю я.
– Хорошо, только очень скучно.
Доктор быстро берет меня за руку и тащит к двери.
– Ведь сию же минуту Евгения Петровна придет.
– Мы будем писать тебе письма, – говорю я, удаляясь не по своей воле.
– Передай спасибо всем-всем за марсика! – успела крикнуть Таня, и дверь захлопнулась.
В столовой плясали полотеры. Тем же манером обратно, и наконец я в классном коридоре. Там тишина, я пулей несусь в другой конец. Через стекло двери смотрю, что делается в нашем классе. Белка стоит у своей парты и читает из французской книжки, запинаясь на каждом слове. Алиса поправляет ее. Лицо у Белки надутое, у Алисы несчастное.
– Можно войти? – по-французски смиренно спрашиваю я.
– Где ты была, Лодыженская?
– У меня живот болит, – вру я.
– Ну иди тогда в лазарет.
– Нет, он проходит.
– Тогда садись.
Не успел прозвенеть звонок, девочки окружили меня. Я подробно рассказала свои впечатления о Тане.
– Ей очень скучно, целый день одна. Давайте писать ей почаще.
– Обязательно будем писать.
У Кички появляется идея.
– Знаете что, – говорит она, – давайте сделаем как в сказке «О семи разбойниках и принцессе». Таня будет у нас принцесса, а мы семь братьев-разбойников, мы будем посылать ей в лазарет книги и описывать в письмах свои шалости.
– Вот здорово. <…>
Началась новая жизнь, мы держались кучкой и так шалили, что даже строгой Антонине Яковлевне приходилось трудно с нами, но мы все же ее побаивались, а уж бедной Алисе прямо на голову сели. И она, видно, боялась жаловаться на нас: начальство скажет, не умеет справиться, и лишит ее места. Уроки, как правило, у нас не учились. Я много думала о том, что представляли собой подобные мне девочки, а таких в каждом классе было человек по шесть-восемь. Как бы протестуя против суровой институтской дисциплины и чисто внешних правил хорошего тона, мы поставили себе цель шалить и учить уроки только ввиду острой необходимости. Совершенно не соображая, что ни к чему хорошему такое поведение привести не может. В результате в институте было очень распространено второгодничество. Дойти до выпуска с приготовишек со своим классом вряд ли удавалось 7 %. Может, начальству и выгодно было второгодничество, ведь платили за нас очень дорого – 300 рублей в год платили только дворяне Московской губернии, а остальных губерний платили по 500 рублей. Все, конечно, было построено на коммерции, а таких слов, как «успеваемость класса» или «успеваемость института», не существовало.
Психология «отчаянных» девчонок если и понятна была в десять лет, то совершенно непонятна в старших классах, а она тем не менее продолжала существовать, и в таких же масштабах. Ведь уже с 15 лет мы начинали мечтать о курсах, о дальнейшем образовании, а учились так же плохо. Должна отдать справедливость, что учителя у нас были подобраны замечательно. <…>
Однако преподаватели были очень далеки от своих учениц. У них просто не было возможности нас узнать. На уроке неизменно присутствовала классная дама и строго следила за нашим поведением, подойти в переменку к преподавателю не разрешалось. <…>
Конечно, много было воспитанниц, которые сумели взять то хорошее, что давал им институт. Но в данном случае я говорю о группе отчаянных, которая существовала в каждом классе. Взять хотя бы наших «братьев-разбойников». Из шести человек только одна Ирина Высоцкая по прозвищу Максик не оставалась ни разу в классе, она всегда была лучшей ученицей и окончила институт с «шифром» (это высшая награда, после шифра уже шла золотая медаль). И тем не менее Высоцкая никогда не была тихоней и зубрилкой. Остальные же пять человек, со мной во главе, оставались, и не раз. <…>
Стояла хмурая погода начала ноября. <…> Прозвучал звонок к обеду. Обед, как всегда, очень вкусный. Борщ со сметаной, на второе тушеное мясо с морковкой и картошкой и на третье моя любимая «зандткухен». Это круглая лепешка из песочного теста. Порции, правда, очень маленькие. Супу наливают меньше, чем современные полпорции в столовой, гарнир две чайные ложечки, да и мяса маловато, но в десять лет этого еще хватало. Главное, «зандткухен» такая вкусная и сытная. После сладкого две дежурные подают на подносе конфеты и фрукты, принесенные родителями. Вот это была неприятная процедура – конечно, для тех, у кого не было гостинцев. За столом должны были оставаться все и, сидя за пустым прибором, наблюдать, как лакомятся сладостями счастливчики. Помню, это возмущало меня еще в детстве. Было много девочек, к которым приезжали очень редко, и были москвички, которых заваливали конфетами. Конечно, все девочки разные, некоторые не могли есть в одиночку и быстро раздаривали свои коробочки, а некоторые деловито насыщались, стараясь угостить только самую близкую соседку. Например, Кира Ушакова, протягивая коробочку с конфетами, неизменно говорила: «Возьми одну». Институтская этика не позволяла попрошайничать, и удивительно, как твердо она укоренилась даже в маленьких девочках. Они молча ждали, когда насытятся счастливчики, уныло потягивая кипяченую воду из стакана.
Но вот мы уже в раздевалке. Это громадная комната между столовой и наружной дверью, выходящей в сад. Она вся уставлена шкафчиками типа тех, которые у нас ставятся в передних детсадов, только те маленькие и с картинками, а в институте большие и с цифрой класса и номером. Внутренность такая же. Наверху полочка для шляп, перчаток, башлыков. Затем висит верхняя одежда, посередке полочка для теплых штанов и гетр, а внизу боты и калоши. На среднюю полочку мы обычно садились, когда одевались.
– Не забудьте все подвязать юбки, – раздалась строгая команда дежурной по прогулке классухи.
К подкладке нашей юбки было пришито много тесемочек, мы должны были их связывать, получался комичный синий пузырь, который был выше щиколоток. Я что-то заканителилась с этими тесемками и почувствовала, что раздевалка стала пустеть, в нашем проходе почти все дверки уже закрыты, мой шкафчик первый от выхода, только у окна две дверки открыты, кто-то еще одевается. Вдруг слышу знакомый голос Фуфа (Веры Куртенэр):
– Почему, Максик, тебе не нравится Лелька Лодыженская, по-моему, это самая лучшая девочка в классе, добрая, хорошая.
«Подслушивать нечестно», – думаю я и добросовестно кашляю. Но они не слышат. Голос Высоцкой отвечает:
– Мне она просто противна: всегда лохматая, фартук вылезает из-под пояса, ботинки надеты с правой на левую, обрати внимание, даже ногти у нее подстрижены лопатой, и потом, она, по-моему, бестолкова, ведь она понимает только, когда ей говоришь второй раз, а уж на уроках это просто пень.
– Что ты выдумываешь, – обижается за меня Фуф, – она неглупая девочка, просто она всегда витает где-то. Впрочем, тебе никто не нравится, ни Кичка, ни Белка.
– О Белке говорить не будем, она чересчур некрасива, а Кичка, конечно, лучше, но мне не нравятся ее выпученные глаза, восторги и объятия.
– А по-моему, Лелька такой милый цыпленок.
– Именно ощипанный цыпленок и тряпка бесхарактерная.
Они стали вставать, и я быстро смылась.
В сад я вышла ошарашенная. Вон неподалеку шумит наша компания. Мне не хотелось ни играть, ни шуметь, хотелось осмыслить сказанное. Я быстро пошла в противоположную сторону.
А ведь она права, я всегда такая неаккуратная, это, наверно, противно со стороны. И бесхарактерная. Я шагала, не глядя перед собой, и столкнулась с Лидой Дрейер, она шла под ручку с сестрой Олей.
– Лелька, что с тобой? – сказала она. – Ты какая-то расстроенная, и почему ты не со своими разбойниками?
– Так, что-то мне холодно, – соврала я.
– Вот и Лидочке моей холодно, – сказала Оля, – сегодня очень сыро, боюсь, как бы она не простудилась. Давайте сцепимся покрепче и будем ходить быстро-быстро, чтобы согреться.
Мы крепко сцепились и стали быстро бегать по главной дорожке.
– Хватит, – смеялась Лида, – я чересчур согрелась.
Когда мы пришли в класс, я не утерпела и обратилась к Лиде:
– Скажи, только честно, я похожа на ощипанного цыпленка?
– На цыпленка да, но не ощипанного, а иногда, наоборот, такой задиристый петушок получается.
«Лида ко мне слишком хорошо относится», – подумала я. И тут же внимательно посмотрела на свои ботинки: конечно, правый на левой. Это происходит оттого, что они мне очень велики. Я замечала, что другие девочки всегда требуют, чтобы им меняли белье и обувь, если не по росту, а мне что сунут, то и ладно, вон даже носки загнулись на ботинках, как у карлика-волшебника. А как Высоцкая все замечает, действительно, у меня ногти подстрижены лопатой, иначе не умею стричь, попрошу Лиду, она мне острижет. А про Кичку она сказала «выпученные глаза, восторги и объятия». Кичка, по-моему, хорошенькая, у нее большие карие глаза, правда немного выпуклые, изредка она надевает очки. Кичка правда любит изъявлять свои чувства, она может запрыгать и затанцевать от радости, может броситься на шею, но разве это плохо? И при чем тут Белкина некрасивость, кому она мешает? Ну, это ладно, а вот про меня она правду сказала.
На другой день Лида все-таки попала в лазарет. Оля ходит расстроенная, пишет ей записочки, я тоже написала Лиде и Тане Трескиной. Настроение у меня так и оставалось пониженным.
Дня через два я почувствовала легкую простуду и пошла утром к врачу, в лазарет меня не взяли, но гулять не разрешили, и то ладно. Во время прогулки Таня Кормилицына предложила мне вместе с ней сделать упражнение по-русски.
– Оно очень трудное, может, поможешь мне, – сказала Таня.
«Ну-ка, преодолею свою бестолковость», – подумала я.
Таня Кормилицына была с нами и в приготовительном классе. Тихенькая и старательная девочка, со светлыми двумя косами и совершенно белыми бровями и ресницами. Она и Соня Ханыкова были из имений, находящихся в Рязанской губернии, Сапожковского уезда. Соня Ханыкова училась хорошо, а Тане было трудно, но она очень старалась. Упражнение оказалось понятным, и хотя я редко слушала объяснение в классе, как его писать, сообразила.
Только мы достали с Таней тетради и стали выводить первые предложения, как в класс гурьбой ввалились девочки. Пошел дождь, и прогулка была прекращена.
Высоцкая и Кичеева быстро прошли и сели за преподавательский столик. В руках у Высоцкой была какая-то тетрадка.
– Господа, – торжественно обратилась Кичка ко всему классу, – сейчас мы с Максиком прочтем вам дневник одной девочки. Никогда не думала, что наша Фуф такая плохая.
Я стала искать глазами Веру Куртенэр. Вот она, сидит за своей партой и опустила голову.
– Вера, ты сама дала им дневник? – громко спросила я.
– Нет, они у меня его утащили. – И она опять опустила голову.
– Как же ты могла это сделать, Кичка, уж от тебя я этого никогда не ожидала, – возмутилась я. – Это же нечестно.
– Ладно, честно, – перебила Сейдлер, – ты послушай только, что она здесь пишет! Девочки, садитесь ближе и слушайте.
– Не желаю слушать. – Во мне все кипело. Я повернулась к ним спиной и пошла к Кормилицыной.
Таня невозмутимо писала упражнение, я села рядом и стала выводить буквы. В классе стоял шум, многие девочки подошли к столу, слушали и возмущались. Белка тоже села ближе, но молчала. Кира Ушакова со своего места бросила несколько реплик, осуждающих Куртенэр. Но больше всех возмущалась Сейдлер: она так чернила Веру, как будто та действительно была негодяйка. Я взглянула на Веру, она как-то странно улыбалась.
И вдруг я почувствовала на себе Кичкины объятия.
– Господа, вот кто у нас самый честный человек в классе. Ведь это мы все придумали, Максик, Фуф и я, никакого дневника Фуф не писала, мы сочинили его сами; мы разыграли вас, чтобы узнать, кто честно откажется слушать украденный дневник, и честной оказалась одна Лелька Лодыженская.
– Неправда, – говорила я, освобождаясь от Кичкиных объятий, – Таня Кормилицына тоже не стала слушать вашу ерунду, а потом, ведь в классе нет Лиды Дрейер, она в лазарете, нет Тани Трескиной.
Вера Куртенэр тоже подошла ко мне.
– Я знала, что ты так поступишь, – сказала она и добавила, обращаясь к Высоцкой: – Вот видишь, Максик, я оказалась права.
Остальные девочки были как-то озадачены. Оля Гиппиус и еще несколько тихеньких вообще ничего не поняли, так что эксперимент не удался. Сейдлер обиделась и сказала: «Мы не куклы, чтобы в нас играть». А Белка, как всегда, молчала.
Дни проходили. Лида вышла из лазарета. Гулять стало веселее, выпал снежок. Братья-разбойники опять носились вместе и придумывали все новые шалости. Кому-то пришло в голову, что разбойники должны выглядеть по-мальчишески и кос не носить. Короткие волосы были у Высоцкой, Кичеевой и у меня. Сейдлер не задумываясь решила отрезать свои толстенные косы. Вера Куртенэр тоже, а Белка и подавно – косичка у нее была тоненькая. Решили в этот же день удрать с прогулки и в коридорчике между классом и маленькой комнаткой проделать эту операцию. Причем нужно еще было покороче постричь волосы у меня и Высоцкой, у Кички стрижка была короткая. Так как дел предстояло много, решили удрать с самого начала. Ирине Высоцкой примкнуть к нам не удалось, она была дежурной по классу, а одной из скучнейших обязанностей дежурных была ходить на прогулки с классухой. Вот мы уже в коридорчике, Кичка, как парикмахер, щелкает ножницами, а Сейдлер распускает свои косы.
– Эх, жаль, ножницы одни, – говорит Фуф, – а то я бы пока подстригла Белку.
Несколько минут, и чудные каштановые волосы лежат на полу. Сейдлер лихо встряхнула стриженой головой. Потом поглядела на волосы, видно, ей стало жалко их, и она собрала их в бумагу: «Это для мамы, может, она захочет сохранить на память».
– Ты отдохни, Кичка, а я постригу Белку, а потом ты меня, – сказала Фуф.
Белкину косичку остричь недолго. Фуф еще стоит наклонившись, а Белка решила, что все уже кончено, и как тряхнет головой – и прямо затылком угодила в рот Куртенэр. Звякнули упавшие ножницы, плачут обе: у Веры весь рот в крови, у Белки кровь на затылке. Что делать? Кичка и я ведем обеих в лазарет. Белке выстригают затылок, там оказывается ранка, ей сделали перевязку, а у Веры разбита губа и искривлен передний зуб.
Евгения Петровна идет с пострадавшими и с нами к Алисе. Картину мы застаем такую. Сейдлер стоит посреди класса, гордо подняв стриженую голову, а Алиса наступает на нее, размахивая руками. Когда открылась дверь и в класс вошла процессия с ранеными и с Евгенией Петровной в белом халате, Алиса вообще потеряла дар речи. Потом собралась с силами, вздохнула и сказала:
– Я должна все это доложить Ольге Анатольевне.
И вот началась расплата сразу за все прегрешения. Ольга Анатольевна пришла к нам в класс. Больше всего ее возмутило само название «братья-разбойники».
– И это в стенах института! – говорила она, высоко поднимая палец. Потом, крепко сжимая сложенные руки и слегка потрясая ими, добавила: – Всех вас исключу немедленно.
Стало очень жутко. В дальнейшем мне приходилось не раз слышать эту фразу, и, конечно, такого впечатления, как в первый раз, она на меня уже не производила.
Кончилось тем, что все пять человек, участвовавшие в стрижке, были на Рождество оставлены без каникул.
Высоцкая сама созналась, что она тоже принадлежала к братьям-разбойникам, но Алиса сразу вступилась за нее и сказала, что она всю прогулку проходила с ней и в стрижке не участвовала. Гжа ограничилась по отношению к Высоцкой строгим внушением и снижением отметки за поведение. Конечно, это наказание сразу ввергло нас в уныние. Лишиться поездки домой на целые две недели! Обычно незадолго до каникул чья-то рука неизменно выводила на классной доске после занятий цифру дней, оставшихся до роспуска воспитанниц. Стали мелькать цифры – 20,18,13, но нас они уже не радовали.
Я написала маме, в ответ получила очень грустное письмо. «Очевидно, тебе не хочется домой и не нужны родные, любящие тебя», – писала она.
Все-таки как в детстве и юности много эгоизма, легкомыслия и как мало чувства любви и признательности к близким! Конечно, не во всех, но во многих. Да, мы переживали тяжесть наказания, но не так, чтобы это сдавило нас и не дало бы возможности веселиться и развлекаться. Нет, мы продолжали пошаливать и лодырничать. Самый тяжелый день был 22 декабря, когда после уроков начали приезжать родители за девочками. Мы сидели грустные, но никто не плакал, крепились.
Ужинать пошли как-то непривычно, осталось от всего института человек 18, были и большие девочки, мы, седьмушки, были самые маленькие, приготовишек не было.