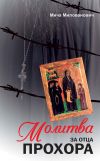Текст книги "Ровесницы трудного века: Страницы семейной хроники"

Автор книги: Ольга Лодыженская
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 54 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Однажды вечером мы сидели с Таней на моей парте и вели свой обычный дневник. Она вдруг спросила меня:
– Леля, у тебя есть жених?
Я опешила.
– Какой жених, что ты?
– Ты не понимаешь меня, – стала объяснять мне Таня. – Конечно, я знаю, что мы еще не взрослые и сначала должны кончить институт, но жених уже у каждой должен быть. Я спрашивала у многих девочек, и у всех есть, даже у Шурочки Челюскиной, и у Оли Гиппиус, и, конечно, у меня. Почему же у тебя нет? Ты такая умная и смелая.
Последние слова произвели на меня впечатление, и я сказала:
– Может, и есть, надо вспомнить.
Пока мы пили вечерний чай и укладывались спать, я настойчиво думала. У Шурочки Челюскиной, у этого младенца, есть жених, а у меня нет? Как же так? А у Оли Гиппиус! Была в нашем классе такая толстенькая, маленькая девочка, с длинным птичьим носиком и со склоненной набок головкой. Еремеева прозвала ее Соня. Я первое время думала, что ее так и зовут, и однажды даже назвала ее Соня, а она вдруг заплакала и сказала:
– И ты меня теперь дразнишь, ведь меня Оля зовут.
Я тут же попыталась воздействовать на Еремку, но безрезультатно. Зато после истории с графином я сразу стала для Еремеевой авторитетом, и она вдруг сама заявила мне:
– Если хочешь, я Гиппиус больше дразнить не буду.
Итак, даже у этого цыпленка есть жених. Я стала перебирать знакомых мальчиков, кого могла бы назвать своим женихом. Коля и Юра Шевченко в счет не идут, я их первый раз увидела на Масленицу, Витя Буланов, по-моему, меня презирает, Гога Кацауров, тоже можайский житель, моложе меня, и вдруг вспомнила: Грушецкие, Володя и Коля. Их мать, Юлия Михайловна, когда приходила к нам в Можайске в гости с мальчиками, часто говорила:
– Ну вот, невесты, я вам женихов привела.
Володя мне ровесник, а Коля – Таше. Так значит, Володя Грушецкий, и я, успокоенная, заснула. Наутро я с удовольствием сообщила о своем женихе Тане.
Игра на этом не кончалась. Каждый должен был рассказать о своем женихе и описать его наружность. И вдруг в этот же день обо всем узнала Ступина. Каким образом это получилось, мы с Таней просто понять не могли. Кто мог ей это рассказать, может быть, она подслушала, не знаю. Но громить нас она начала строго. Первым делом взяла бумагу и карандаш и заставляла каждую назвать имя и фамилию своего жениха. Шурочка, расплакавшись, назвала какого-то Николая Петровича, фамилию она его не помнила, причем он оказался старым, а считает она его женихом потому, что, когда он приходит к ним домой, всегда берет ее на руки и говорит: «Вот моя невеста». В таком же духе и также со слезами повествовала Оля Гиппиус о дяде Пете. Еремка гордо ответила, что ее жених капитан Михайлов, а считает она его женихом, потому что у него красивая кавалерийская форма и он очень хорошо ездит верхом. Но на вопрос, считает ли он ее своей невестой, она помолчала, потом вздернула плечом и ответила: «А мне какое дело!»
Когда Ступина стала спрашивать меня, я назвала Володю Грушецкого и рассказала, почему он мой жених. Ступина презрительно прервала меня:
– Незачем повторять то, что говорили другие, – и продолжала допрос.
Некоторые, так же как и я, называли знакомых мальчиков, но кто меня поразил, так это Таня Шатохина: она категорически отрицала существование жениха и уверяла, что она все придумала.
– Все говорят, что у них есть женихи, ну и я не хотела от них отставать. Я, конечно, виновата, что соврала, – закончила она с опущенной головой.
Тогда Ступина стала допытываться, кто первый поднял этот разговор. У меня было твердое убеждение, что подняла всю эту историю Таня. Но все молчали, да и вообще, выдавать кого-либо было не в наших правилах. Неписаный закон гласил, что виновник должен сам сознаться, если его вину переложили на другого. Но другого виновника мы не знали. Шурочка как-то робко вопрошающе взглянула на Таню, но та сидела опустив свои длинные ресницы. Вдруг она подняла глаза и сказала:
– А может, это Мартынова?
– Что ты? – возмутилась я. – Мартынова заболела в начале недели, а разговор у нас был совсем недавно.
– Не знаю, – сказала Таня и опять опустила глаза.
– Ну вот что, – объявила Ступина, – завтра воскресенье, те, к кому придут в прием, должны рассказать все это своим родным, а те, к кому не придут, должны все описать в письмах. Понятно?
«Господи, хоть бы пришла ко мне завтра Анна Степановна», – подумала я.
Проще рассказать ей, чем описывать все маме, как-то стыдно и неприятно. И мое желание исполнилось. Анна Степановна пришла и притащила мне конфет и фруктов.
– Ах, я думала, что вас уже соединили с институтом, – сказала она, облачаясь в белый халат.
– Нет, у нас заболела еще одна девочка, так что карантин продлен.
Мне показалось, что Анне Степановне это неприятно, ведь правда, у нее свои дети, может заразить их. И я взяла и поставила свой стул подальше от нее.
– Да что ты, ведь это же не чума! Ну, рассказывай, как ты живешь?
И я смиренно рассказала историю с женихами.
Как она хохотала, хорошо, кроме нас, никого в передней не было. Увидев, что я с опаской гляжу на дверь, она сказала тихо:
– Да, я вижу, что классные дамы остались те же, что были в мои времена. Вместо того чтобы внушить, что это глупо, раздувают из мухи слона. <…>
Никогда не забыть отъезда из института на Пасху. Я уже говорила, что нас отпускали в субботу вечером, на шестой, Вербной неделе, после всенощной. В церкви все стояли с ветками распустившейся вербы и с горящими свечками. Стояли с замиранием сердца и часто оглядывались. В конце церкви и на паперти собирались родители, приехавшие за нами. Оттуда доносился легкий шумок и пахло духами. А рядом шипят классухи:
– Не оглядывайтесь, стойте спокойно.
Но как трудно стоять спокойно, когда не знаешь, здесь мама или еще не приехала, а вдруг почему-либо не приедет? А всенощная тянется долго-долго. Наконец выходит священник, уже без ризы, и читает последнюю молитву. Хочется броситься в коридор, но нужно выходить одна за другой, чинно и спокойно идти в класс и ждать, когда назовут твою фамилию. И только когда доберешься до заветной желтой картонки, откроешь ее и вдохнешь чудесный домашний запах, только тогда поверишь, что ты действительно едешь домой.
После холодных институтских просторов наш домик такой крошечный и такой милый-милый, кажется, все стенки бы перецеловала. А Таша и няня так рады мне! Они внешне этого не показывают, ни та ни другая не любят изъявлять своих чувств, но Таша не отходит от меня и спешит сообщить все новости: о родившейся телочке у Лысенки, о котятах, а последнюю новость – черного пуделя Муську – демонстрирует тут же. В детской висят кольца, и Таша ловко на них упражняется. А няня угощает меня моими любимыми блюдами: котлеты с макаронами и взбитые сливки с безе.
На этот раз я уезжала в институт не с таким тяжелым чувством, ведь через месяц, 15 мая, нас, приготовишек, отпустят на лето, до 1 сентября, буду дома три с половиной месяца!<…>
Неожиданно в конце апреля приехала мама на один день и пришла ко мне с дедушкой в воскресенье в прием. В этот день прием бывает сразу после обеда, с часу до трех. В конце зала ставится большой круглый стол, за ним садится дежурная классуха и из каждого класса по девочке. Обычно берут воспитанниц с хорошим поведением. За всю мою жизнь в институте мне ни разу не довелось дежурить в приеме, а наверно, это приятно – быть радостным вестником для институток, запертых в четырех стенах.
На этот раз дежурила тетя Люба. Мама пришла такая интересная: на ней светло-серый шерстяной костюм, отделанный зеленым шелком, и зеленая шляпа. Я уже привыкла, что многие девочки из других классов мне говорили:
– Какая у тебя хорошенькая мама, – и некоторые спрашивали: – А почему ты на нее не похожа?
После приема свои соображения о маме высказала мне тетя Люба и добавила:
– И папа тоже красивый, но он намного старше ее.
– Какой же это папа, – возмутилась я, – это дедушка.
Тетя Люба оживилась:
– Неужели? А бабушка к тебе приходит?
– Она давно умерла.
Мамину мачеху я за бабушку не считала, да я ее никогда и не видела.
– Интересно, – сказала тетя Люба, но я так и не поняла, что интересно.
А весна здорово красит жизнь даже в институте. Сад у нас хороший, это довольно большое каре, заключенное между четырьмя институтскими корпусами. Тогда этот сад мне показался громадным, но он и на самом деле был немаленький. Весной, когда все деревья и кусты покрылись крошечными клейкими листочками, а все куртинки и лужайки зажелтели неприхотливыми цветами, наш сад становился очень привлекательным. Листочки на кустах чудесно пахнут, а цветы так смешно обсыпают нос желтой пылью. Так хорошо, что не надо напяливать на себя ни длинной шубы, ни драпового пальто, все это такое тяжелое, черное и мрачное, а весной нам выдали темно-синие жакеты, которые мы надевали после бани, и на голову синие береты с резинкой. Зимой же на голову нужно было надевать такую противную маленькую шапочку пирожком, ее заставляли надевать на самый лоб и сверху повязывать коричневым башлыком. Все канительно и неудобно. А сейчас так легко выйти в сад, и в «знамя» бегать легко, но, как это ни странно, мы меньше играем в «знамя»; ведь как тяжело было бегать в шубах, и не пропускали ни одной прогулки, а сейчас больше ходим кучкой, плетем венки из желтых цветов, ловим божьих коровок и жуков, и, когда приходим в класс, наши руки так замечательно пахнут весной, и очень жалко их мыть перед ужином.
Лето 1909 года. ВексельНо вот наконец и 15 мая. Мама приехала за мной с Ташей.
– Я хочу поговорить с твоей мамой, – сказала тетя Люба и пошла вместе со мной.
Тут же вызвали и Шуру Челюскину, и мы пошли вниз втроем. В самом начале коридора, на первом этаже, налево, есть комната, которая называется тоже гимнастическая, в ней по стенам висят лестницы и разные приспособления для врачебной гимнастики. Там ею и занимаются в будни. В дни же отъезда и приезда воспитанниц она служит раздевалкой. Мы с Шурочкой так и бросились переодеваться, а тетя Люба пошла за мамой в швейцарскую и привела ее вместе с Ташей в гимнастическую. Я и обрадовалась, и удивилась, обычно родителям вход туда был запрещен. Тетя Люба совсем завладела моей мамой, они обе сели за классухин стол и о чем-то оживленно беседовали.
Мы с Шурочкой успели переодеться, сдать нянечке казенные вещи, и Шура начала знакомиться с Ташей. Обычно Таша застенчива и не очень быстро сходится с детьми, но Шурочка, очевидно, ей понравилась, и они разговорились о собаках. Когда наконец мама спохватилась, что нам пора на вокзал, а тетя Люба сказала, что ей надо в класс, мы стали прощаться. Простившись со мной, Шура также долго и крепко целовалась с Ташей, как будто они были знакомы давно. Мама и тетя Люба очень смеялись над ними.
Когда тяжелая дубовая дверь в швейцарской открывается, чтобы тебя выпустить из института, она кажется дверью в рай. Сразу солнце, шум улицы и весенний ветерок, который 60 лет тому назад почти не был пропитан бензином, а если в нем и была небольшая часть, то она мне казалась ароматом духов «Ориган» модной в то время фирмы «Коти».
– Какая очаровательная твоя Любовь Михайловна, – сказала мама.
– Не такая уж она очаровательная, но раз в сто лучше Ступиной, – ответила я.
Еще по дороге Таша мне рассказала, что она уже ела баранчики, очевидно, и я их застану. Так мы называли бледно-желтые цветочки, которые бывают недолго весной; у них толстый и сладкий стебель, а цветочки рожками, их бывает очень много на лужайках и в поле. А серпиги еще нет. Серпигой у нас называлась полевая редька, также желтые очень мелкие цветочки кистями, в ней тоже употреблялся в пищу стебель: он тонкий, и с него еще нужно сдирать верхнюю кожицу, зато на вкус он очень острый и напоминает редиску.
Первое лето в новом доме. Оно уже внешне отличалось от предыдущих лет. Старый дом и флигель стоят в густом, тенистом парке, очень много тени, таинственно, но и сумрачно, а новый дом мама поставила на возвышенном, открытом месте. Кругом деревьев много, но отступя. С парком соединяет недавно посаженная молодая аллейка из сирени и жасмина, идущая прямо от балкона. А кругом красивый луг, который часто меняет свой покров. То ромашки, то лютики, то одуванчики, но лучше всего крупные колокольчики, лиловые, красные, синие и розовые. Теперь я встречаю эти цветы на клумбах как садовые, а в Отякове их никто не сажал. Луг со всех сторон упирается в ров, огораживающий усадьбу. Перед рвом горка, вся усаженная деревьями: кленами, ветлами, березами. Деревья, очевидно, посажены давно, потому что они очень большие. Мне нравится, как стоит наш дом, – он и открыт для солнца, и вместе с тем кругом не голо. Я слышала, как многие знакомые хвалили выбранное мамой место. А некоторые, преимущественно старые, говорили, что надо было строиться там, где строились деды. Таша рассказала мне, что ей очень нравится наша Параня, новая нянина помощница.
– Ты знаешь, сколько она песен поет, и такие песни интересные, не про глазки, а целые истории, вот подожди, она освободится после обеда и придет к нам на балкон, мы с ней часто здесь сидим, и она мне поет.
И Параня пришла, мы сели на широкие выступы балкона, сделанные вместо перил. Сначала она спела песню, которая начинается так: «На паперти Божьего храма оборванный нищий стоит…» В этой песне рассказывается, как старик нищий повстречал в «шикарной» коляске и «шикарно» одетую свою дочь. Он бросился за этой коляской, и на него не обратили внимания, только обдали комьями грязи. Вторая песня про солдата, возвращающегося домой после 25-летней службы. Он спрашивает о своих родных, и оказывается, все погибли, а дом сгорел. И все песни в таком же духе.
Мне понравилось, как она поет, но уж очень уныло содержание.
– А что-нибудь повеселее ты не знаешь? – спросила я.
– Нет, я не люблю веселых песен, – ответила Параня. – Песня за сердце должна брать.
Интересно, что ее любовь к печальным сюжетам так не соответствовала ее внешности: румяная, с такими ласковыми голубыми глазами, она как бы излучала добродушие, спокойствие и дружелюбие.
– А, пожалуй, дождь будет, – сказала Параня, – вон какая туча заходит, пойду быстрей белье сниму.
– Гром слышишь? – запрыгала Таша.
– Леля, Таша, домой, – сказала мама, поднимаясь по лестнице на балкон, – гроза начинается.
До чего же я боялась грозы в детстве! И во взрослом возрасте ее не любила, но тогда меня прямо ужас брал. Я ложилась на кровать и прятала голову под подушку. А мама с Ташей, наоборот, очень любили грозу. Им обязательно нужно было все видеть, они старались не пропустить ни одного зигзага молнии.
– Это ты так боишься? – спросила Параня, входя в детскую с охапкой белья. – Не убьет, она стороной проходит, а чему быть, того не миновать.
– Посиди со мной, – попросила я.
И вдруг свет молнии осветил всю комнату и сразу раздался грохот. Параня невольно опустилась на стул, стоящий рядом с моей кроватью, а я схватила ее за руку.
– Ну, чего ты, вот в поле сейчас страшно или в лесу, около старых деревьев, – могут упасть.
А я, невольно сжимая ее загорелую, большую руку, думала, как хорошо быть сильным и спокойным человеком.
Через несколько дней мама опять уехала в Москву. Параня собралась в город за продуктами. Приехав, она подала няне письма и газеты. Я заметила, что няня старательно разглядывала какую-то бумагу, вроде большой почтовой открытки. На ней стояли печати.
– Боже мой, – сказала няня тихонько.
– Что случилось? – спросила я.
– Ничего, ничего, это вас не касается. – И няня понесла почту маме в спальню.
Но я увидела, что она положила всю почту на письменный стол, а эту бумагу заперла в шифоньер. Тут вскоре пришла Дуня, я заигралась и забыла про странную бумагу.
Мама приехала через два дня, с утренним поездом, очень веселая.
– Вот, – сказала она, – всего два дня пробыла в Москве, а сколько дел наделала. И перевод от Лодыженских получила, и внесла плату за Лелю в институт (за меня платила бабушка), и в земельном банке побывала, и у своей портнихи, а там недалеко до Александры Егоровны, была и у нее. Они все такие милые, так встретили меня хорошо.
– Милые! – сказала няня возмущенно. – Посмотрите, что эти милые вам прислали.
И она принесла бумагу из шифоньера. Мама стала читать вслух:
– В комиссию при окружном суде вызывается Лодыженская Наталия Сергеевна, опекунша малолетних дочерей своих Ольги и Наталии, по оставленному им имению Отяково от Михаила Павловича Савелова, вызывается для предъявления ей векселя, составленного М.П. Савеловым на имя наследников имения Отякова по уплате Логиновой Александре Егоровне и Федотовой Марии Михайловне, урожденной Логиновой, восьми тысяч. – Последние слова мама с трудом выдохнула из себя.
– Не пожалели малолетних, – сказала няня.
А я, как водится, сразу ничего не поняла.
– Что значит «вексель»? Кто кому должен уплатить восемь тысяч?
Но мне никто ничего не ответил.
– Восемь тысяч! – как во сне повторяла мама. – Да если продать все, что у нас есть, вплоть до белья и посуды, мы не наберем столько! Нет, дедушка не мог оставить такого векселя: или это подделка, или ему дали подписать бумагу, когда он уже был не в своем уме. Что же делать? – Мама стала какая-то бледная и беспомощная.
Я ее никогда такой не видела. И вдруг она сделала над собой усилие и заговорила сразу другим тоном:
– Прежде всего надо опротестовать этот вексель, завтра с утра я еду в Москву, обращусь к Ледницкому – это замечательный адвокат, восходящее светило, – и тут же надо составить прошение в земельный банк, чтобы мне разрешили продать часть леса для уплаты по векселю. Думаю, в этом мне поможет Петр Иванович Корженевский. Няня! Велите Якову запрячь Красотку в шарабан, я сейчас поеду в Можайск, а если Петра Ивановича там нет, его отец Иван Доминикович мне поможет, ведь он был член окружного суда.
Я чувствовала, что мама вся закипела энергией, и сразу успокоилась. А Ташенька стала очень грустной.
– Ты теперь все время будешь ездить в Москву, – печально сказала она маме.
– Что же делать, детка, не по миру же нам идти!
Когда мама уехала, Таша совсем поникла.
– Ты так расстроилась из-за этого векселя? – спросила я ее.
– Не из-за векселя, а из-за мамочки.
– А по-моему, она сейчас уже не так расстроена.
– Да, но как ей тяжело-то будет! – вздохнула моя мудрая сестричка.
– Пойдем на кухню, – сказала я.
На кухне все трое – няня, Яков и Параня – говорили все про тот же вексель. Я подсела к няне и попросила мне объяснить кое-что непонятное. И все-таки в мои мозги никак не могло уложиться, что Сашенька, которая так любила и маму, и меня, могла потребовать с нас такую огромную сумму денег, зная, что у нас их нет.
– Как же она могла это сделать? – спрашивала я няню.
– Трудно сказать, – задумчиво отвечала няня, – а может, ее натолкнули на это, ведь люди бывают очень жадные, из-за денег родного отца не пожалеют.
Из этих слов я поняла, что няня намекает на Машеньку или на ее мужа, и мне как-то сразу стало легче. Вообще, должна сказать, что, несмотря на свои десять лет, я была очень легкомысленна и ни разу не задумалась над тем, каково было маме пережить это лето, которое так и прошло под знаком судов и пересудов, прошений и хлопот. Таша в семь лет понимала это лучше меня.
Мама вернулась из Можайска скоро и привезла с собой Петра Ивановича Корженевского. Мы с Ташей очень обрадовались, ведь Петра Ивановича мы считали своим гостем вроде Булановых и Дуни. Он всегда очень много уделял нам внимания. Мы сообщали ему свои новости, он рассказывал нам что-нибудь интересное, но больше всего мы любили, когда на большом турецком диване, стоящем в столовой, изображалась «куча-мала».
– Давно, давно вас не видел, – говорил Петр Иванович, – большие стали. Ну, как институт для благородных девиц? – обратился он ко мне. – Там только благородные или есть и порядочные и хорошие девочки?
– Есть очень хорошие девочки. – И я начала рассказывать про Мартышку и Марусю, не удержалась и представила Ступину, как она ест глазами свою жертву.
Петр Иванович живо реагировал на все и тут же стал расспрашивать «наездницу», так он звал Ташу, какие новые рысаки появились в ее конюшнях. Таша не замедлила притащить ему своих лошадей.
Петр Иванович обладал даром изображения детской речи, он изумительно читал стихи и рассказы от имени ребенка. Такой подлинный детский голос я слышала только впоследствии у Рины Зеленой. И тут он прочел нам стишок: «Как-то Боб своей лошадке дал кусочек шоколадки, а она, закрывши рот, шоколадки не берет!» В этом пустячке было интересно, что ребенок у него начал всхлипывать еще при слове «закрывши» и под конец разражался плачем. Затем он изображал институтку, очень глупенькую, со сложенными руками и глубокими реверансами. Она порола всякую чушь на вопросы учителя и под конец заявила, что в море вода соленая оттого, что там селедка плавает.
Мы очень любили нашего взрослого друга. Он был маленького роста, весь как будто обыкновенный, но вот глаза были у него совершенно особенные: они лучились и искрились, даже когда он молчал, а когда он рассказывал что-нибудь смешное, они просто сияли.
До «куча-мала» на этот раз дело не дошло. Мама даже с обидой сказала, что надо заниматься делом, и послала нас гулять. Петр Иванович остался ночевать, назавтра с одиннадцатичасовым поездом он должен был вместе с мамой поехать в Москву. Вечером, уходя спать, мы поинтересовались, где ляжет наш друг.
– Мы постелем ему в столовой на диване, – предложила мама.
– Если разрешите, мне бы очень хотелось во флигеле, – ответил Петр Иванович. – Хорошо помню, как еще мальчишкой я ночевал там, когда мы приезжали с отцом к Михаилу Павловичу на охоту, там столько было интересных чучел и рогов на стенах. Наверно, это все уже не сохранилось.
– Чучел нет, – ответила мама, – а рога кое-какие есть. Эх, только бы добраться до Ледницкого! – вспомнила она опять про свое.
– Доберемся, льды превратятся в послушные ручейки, конечно, с вашей помощью.
– Вы все шутите, – вздохнула мама.
Наутро Петр Иванович что-то долго не шел к завтраку, мама послала нас с Ташей во флигель за ним.
– Только постучите сначала, – напутствовала она.
Параня мыла кухонное крыльцо.
– Куда это вы так торопитесь?
– За Петром Иванычем.
– Эва хватились, он, почитай, в четыре часа в город пешком пошел, я как раз коров гнала в стадо. – Параня засмеялась. – Чудной такой, я гоню коров мимо флигеля, а он с балкона спускается, я ему говорю: «Здравствуйте, барин», а он фуражку снял, помахал ей как-то затейливо и говорит: «Мое почтение, барыня».
Мы очень расстроены. А мама, когда Параня повторила ей свой рассказ, улыбнулась, пожала плечами и сказала:
– Но он к поезду придет, я уверена.
Когда мама уехала, няня пошла с нами в лес за ландышами. Это любимые мамины цветы, и мы с Ташей решили набрать их много-много, чтобы наполнить все вазы и в столовой, и в спальне. Когда спускаешься по лестнице с балкона, направо расстилается луг, сейчас он лиловеет полевыми мелкими колокольчиками и пушится одуванчиками, налево молодая аллейка из сирени и жасмина, она упирается в беседку в начале парка. Собственно, строения там никакого нет, просто вырубили заросли между вековыми елями и поставили там стол и скамейки, получилась очень уютная беседка с живыми стенами и крышей. А прямо от балкона идет протоптанная дорожка с ходом через ров в поле. Это поле обычно бывает засеяно овсом, и сразу за полем лес, он недалеко, поэтому мы прозвали его ближним. Лес этот пересекается пополам глубоким оврагом, который в половодье бурлит рекой, а начиная с мая уже высыхает. Любили мы этот овраг за крупные голубовато-розовые незабудки, они росли на самом дне, и за красивую, липкую дрему, растущую по склонам. Лес – лиственный, там очень много березок, они такие нарядные в своих белых платьицах с зелеными лентами. На небольшой полянке за оврагом всегда бывает много фиалок «ночная красавица», белых и лиловых, сейчас еще рано, их нет. А вот во второй половине леса обычно растут ландыши. Но что-то их очень мало, редко попадаются. Мы набрали по небольшому букетику.
– Весна была ранняя, – говорит няня, – вот и отошли уже, ну, давайте привал сделаем у опушки, – и расстилает на траве свой фартук.
Мы садимся и ждем, что она нам даст. Ведь недалеко от дома отошли, а так приятно пожевать что-нибудь в лесу. Няня достает по лепешке. О няниных лепешках можно было написать целую поэму. Таких я больше нигде и никогда не ела. Знаю только, что она их делала на сметане и пекла в духовке. Они буквально таяли во рту.
– Давай бегать, кто быстрее, – предлагает Таша, – вон до той ветлы в поле.
Мы начинаем состязание, а няня ложится на землю, и фартук уже играет другую роль – он покрывает ей лицо.
Набегавшись, мы возвращаемся к няне, она просыпается.
– Заснула, – говорит она, садясь и поправляя волосы, – и во сне и то опять про вексель с кем-то говорила.
– А почему мама не поручит это все Петру Иванычу? – спрашивает Таша. – И не надо было бы так часто в Москву ездить.
– Ишь, ты как рассудила! Там хлопот знаешь сколько, хватит на всех. Вон она к какой-то знаменитости хочет обратиться, чтобы вернее было. Небось и сдерет эта знаменитость! А Петру Ивановичу большое дело надо будет сделать, добиться разрешения продать хоть что-нибудь. А то вот оно, имение, возьми откуси от него. – И, помолчав, заговорила опять: – Петр Иванович очень хороший человек, справедливый, он со многих своих заказчиков бедных и денег не берет, и за дела принимается только за такие, где обмана нет, а другой адвокат за любое дело возьмется и докажет, что черное – это белое. Он даже за одно дело сам в тюрьме отсидел.
– Как же это может быть? – возмутилась я.
– А так и может, судили красных, которые помогали рабочим забастовку делать – уж очень мало рабочим платили, и бедствовали они с семьями. А Петр Иванович и доказал, что хозяин не прав, что пить-есть каждому нужно. Вот и причислили его к красным, вроде он подстрекает людей на забастовку, и посадили. Вот таку него до сих пор ничего за душой и нет. А пословица говорит: «Кто в двадцать не умен, в тридцать не женат, а в сорок не богат, то и век так».
– Ну, он, наверно, раньше двадцати лет был умен, – обиделась за Петра Ивановича Таша.
– Умен-то конечно, – согласилась няня, – а вот остальное-то и правильно.
– Как соловьи поют, – сказала я, услышав знакомые трели, щелканье, переливы.
– А ты знаешь, – заговорила Таша, – мы с мамой, перед тем как за тобой ехать в Москву, слушали одного соловья, он живет где-то очень близко от нашего балкона, иногда садится на березку у канавки, а иногда вдруг совсем близко; мама говорит, что это он садится на кустики сирени, но ведь они еще маленькие.
Я почему-то вспомнила, как однажды у Булановых Нина спросила Ташу:
– Что ты больше всего любишь делать?
Таша не задумываясь ответила:
– Кататься верхом.
– Я тоже, – запрыгала Нина.
– И я, – присоединился Витя. – А ты, Маня?
– Конечно, читать. А ты, Леля?
– А я люблю лежать на кушетке, есть грушу и слушать соловья.
– Какая поэзия! – засмеялась Софья Брониславовна.
– Это не поэзия, а изнеженность, – сказала мама.
«Действительно, я какая-то изнеженная и хилая», – подумала я с грустью.
Когда мы поставили свои скромные букетики в вазочки, Таша прошла в детскую, я пошла за ней и увидела, что она встала около маминого портрета, висящего на стенке над ее кроватью.
– Я уже соскучилась без мамочки, – сказала она.
– Ничего, она скоро приедет, и увидишь, все будет хорошо. А почему у тебя мамин портрет такой грязный? – спросила я.
Таша засмеялась.
– А это потому, что когда я была маленькая, кормила его обедом в дни маминого отъезда. А спать я его и сейчас кладу с собой. Я тебе не читала стихотворение, которое написала?
– Нет, покажи.
Таша достала из ящика стола листочек и прочла. <…> Мне очень понравилось Ташино стихотворение.
– Ну ты молодец, в семь лет так писать. Ты прямо у нас дочка-семилетка.
У няни была книжка афанасьевских сказок, не помню, в чьей обработке, с иллюстрациями. Любимая наша сказка была про мудрую дочку-семилетку. <…>
Добраться до Ледницкого маме удалось. Она уезжала часто и приезжала то расстроенная, то обнадеженная. И наконец последнее, окончательное решение было уплатить четыре тысячи. Почему четыре, чем руководствовались, мне неясно и спросить теперь некого. Разрешение на продажу леса было дано. Мама продала 200 десятин земли, осталось 100 с усадьбой вместе.
На случайно оставшиеся деньги мама решила купить рабочую лошадь. Подобрала с помощью Гудкова и Якова небольшую гнедую лошадку и, возвращаясь уже домой, повстречалась с крестьянином, который вел на живодерню старого коня. Увидев привязанную сзади к тарантасу лошадь, крестьянин сказал маме:
– Купи, барыня, и моего Фоньку, смерть как жалко его на живодерню вести, служил он мне долго, да вот стар стал, пахать не может, надо нового коня покупать, а двоих не прокормить.
Мама посмотрела на коня. Маленький, светло-желтый, с белой гривой, а глаза большие и очень грустные, видно, чувствовал Фонька, куда его ведут. «Купить для Таши, верхом кататься, – подумала мама, – авось немного поживет, и от живодерни спасу».
Но, хоть и мало спросил крестьянин, денег у мамы уже не хватало, заняла у Гудкова, благо рядом в тарантасе сидел.
Как же Таша радовалась этому подарку! Как она целовала своего Фоньку! А на другой день вскочила рано утром, побежала к маме в спальню, разбудила ее и спрашивает:
– Мамочка, милая, правда, у меня Фонька есть?
Будить маму у нас не полагалось, но тут уж она, конечно, не могла рассердиться.
А лето проходило. Ехать в институт очень не хотелось. Я знала, что в седьмой класс поступит много новеньких. Пугала мысль о Ступиной. В общем, тосковать я начала уже с половины августа.