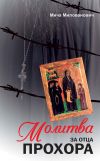Текст книги "Ровесницы трудного века: Страницы семейной хроники"

Автор книги: Ольга Лодыженская
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 54 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
И вот наконец я попала домой, поздно вечером, 1 июня. Проснувшись на другой день приезда в милой детской, я села на кровать и посмотрела, спит ли Таша: нет, она не спала, уставилась на меня своими глазищами.
– Как хорошо, что ты приехала, – заговорила она, – тебя так долго не было. Расскажи, как цари к вам приезжали, какие они?
И я с увлечением стала рассказывать, представляла все в лицах, вскакивала с кровати. Таша хохотала, когда я изображала, как мы расхватывали сладости на галерее и как я от жадности подавилась майонезом. И вдруг послышался мамин голос:
– Что это вы там так весело смеетесь? Идите сюда ко мне.
– Мамочка, – взвизгнула Таша и, забравшись к ней в постель, стала целовать ее (Таша вчера уже спала, когда мы приехали). А я остановилась на пороге спальни, как очарованная. Комната вся залита солнцем, окна открыты, и пахнет жасмином, а в саду, прямо под окнами, расцвели мои любимые крупные колокольчики – лиловые, розовые, синие и белые.
– Ну, что ж ты встала? Иди ко мне, – говорит мама, – рассказывай…
И мы долго разговариваем… <…>
И опять незаметно подходит Петров день, можайская ярмарка, где нас ждет много забавных приключений. На этот раз мама отпускает нас на ярмарку в воскресенье, с Дашей. Это радует. С ней очень весело, она живо на все реагирует, только и слышно: «Да ба!» День проходит оживленно и интересно. <…>
Жестокость к вору. Бородино<…>
Вскоре мама уехала ненадолго в Москву. Проснувшись на другой день, я увидела, что входная дверь из передней открыта – она обычно была заперта. Мы ходили больше через балкон или через сени, кухонным крыльцом. На парадном крыльце стояли няня и Даша и о чем-то беседовали. Увидев меня, Даша сказала:
– Пойдем, Леля, вора избитого смотреть, сейчас провезут его в полицию.
– Ты с ума сошла, – рассердилась няня, – не позволю детям ходить и тебе не советую.
– А что случилось, какого вора? – спросила я.
Даша рассказала, что в Косьмове вчера поздно вечером к одному мужику залез в клеть вор и хозяин с помощью набежавших соседей так избил его, что он уже сам идти в полицию не может и его везут на телеге.
– Вон лошадь за ветлами показалась, это, наверно, они, я побегу.
– Подумать только, за несколько горстей крупы или муки человека калекой сделать, а то, может, и совсем жизни лишить, – горячо говорила няня.
Во мне все закипело.
– Да как они смеют, няня, их судить за это будут?
– Судить! Кому это нужно, кто это за него заступится. Бедный-то человек и честный никому не нужен, а тут еще вор! Звери люди!
Я вдруг расплакалась. Няня стала меня уговаривать, а у самой были на глазах слезы.
– Смотри, Таше ничего не говори – не надо ее расстраивать, благо спит.
Это событие произвело на меня сильное впечатление. Я долго не могла успокоиться и, хотя няня оберегала меня от разговоров с Яковом и Дашей, все же услышала, что вор еле жив и что у него спина «как то рубленое мясо, из которого няня котлеты жарит». И странное дело, этот факт, вначале заставивший меня расплакаться, как-то ожесточил меня, я стала злее и раздражительнее.
В середине лета из института пришла официальная бумага. В ней говорилось, что в связи со столетием Бородинской битвы, состоявшейся 26 августа 1812 года, наш институт будет участвовать в торжествах. В Москву вновь приедет царская фамилия, и воспитанницы с пятого класса должны прибыть не 31 августа, как обычно, а 23-го. Младшие же классы прибывают в начале сентября, а вновь поступающие еще позднее. Конечно, Таша радовалась, а я огорчалась. Но больше всего меня печалило то, что в мамины и Ташины именины, 26 августа, меня дома не будет. А мы проводили эти именины совершенно особенно, не с гостями и пирогами.
Давно-давно в семье маминого дедушки, Михаила Павловича Савелова, создалась традиция 26 августа ехать в Бородино и служить панихиду о погибшем дедушке Михаила Павловича. Внук погибшего героя выполнял этот долг всю жизнь и перестал ездить в Бородино, когда уже плохо передвигался. Он умер 89 лет.
Когда мама еще девочкой гостила у него летом, он брал ее с собой, а так как дедушка был для мамы самым близким и родным человеком, мама продолжила эту традицию и в день своих и Ташиных именин уезжала с нами в Бородино. Чтобы попасть в церковь на общую панихиду, мы должны были выехать из дома в семь утра.
Как любили мы эти поездки! С вечера мама рано укладывала нас спать. Будили около шести часов. Мы волновались, торопились и успокаивались только тогда, когда коляска, запряженная тройкой, останавливалась у крыльца. Все так торжественно. На лошадях сбруя, украшенная серебряными пуговками и ременной бахромой, на расписной дуге качаются валдайские колокольчики, и принаряженный Яков завершает картину. На нем темно-синяя бархатная безрукавка, красная сатиновая рубаха и на голове круглая темно-синяя шапка с красными перьями. Дорога до Можайска хорошо знакома и неинтересна. Зато за Можайском все новое, хотя мы едем не в первый раз. Так бодрит утренний холодок. Легкий туман лежит на начинающих желтеть деревьях. Ведь 26 августа – это по старому стилю, а по новому это 8 сентября. Частично едем лесом. Вот пугливо убегает по веткам белочка, иногда заяц перебегает дорогу. Яков плюется: «Пути не будет». А лошади бегут ровно, и перед глазами мелькают привычные и любимые картины русской природы.
И такой большой радости меня лишают в этом году. Разве не обидно? Бывало, спохватишься к концу лета: «Боже мой, скоро опять в институт! – и тут же утешишь себя: – Ничего, еще предстоит поездка в Бородино!» <…>
23 августа подкрадывается незаметно.
– До свидания, Ташенька, – кричу я из коляски сестре, стоящей на крыльце, – скоро увидимся в институте.
По Ташиному лицу пробегает тень.
– Зачем ты ей напоминаешь? – шепчет мама.
– Не отдавала бы нас в институт!
– А что делать? – грустно говорит мама. – Были бы деньги, сняла бы квартиру в Москве и отдала бы вас в гимназию, а сама бы занялась уроками языков. Но денег нет, а жизнь на два дома слишком дорога, да и няню не разорвать пополам – ее нужно оставить в Отякове, а без нее в Москве нам тоже будет плохо.
– Без няни нельзя, – говорю я.
– Ты думаешь, мне легко смотреть, с какой тоской вы уезжаете из дома? Но что делать?
100-летие Бородинской битвы<…>
Через несколько дней нас, одетых в парадную форму, повезли на бал в Дворянское собрание. Оно помещалось в том здании, где сейчас Дом союзов, один из лучших домов тогдашней Москвы. Этот бал давался в честь торжеств 1812 года, на нем должна была присутствовать царская фамилия и вся знать Москвы. Мама на этот бал приглашения не получила, хотя ее и наградили медалью как потомка героя Отечественной войны 1812 года.
Перед тем как ехать на бал, нам в зале прочитали царский указ о награждении потомков героев и упомянули фамилии родителей девочек нашего института; фамилий было немного, всего, наверное, десять или двенадцать. Гжа торжественно поздравила нас.
Институток привезли, как всегда, задолго до начала бала и провели прямо на хоры, а так как наш пятый класс был самый младший, нас поставили в первый ряд. Ни старшеклассницы, ни педагогички, ни классухи спуститься вниз не имели права. Зато наша начальница блистала внизу своим «придворным декольте». Я первый раз видела это декольте – половина груди и почти вся спина голые.
Наконец громадный зал начал наполняться. Дамы в светлом, мужчины во фраках с орденами и с широкими муаровыми лентами через плечо, военные чересчур разукрашены – столько на них всяких побрякушек, качаются серебряные и золотые шнуры, позвякивают шпоры. Вдруг все засуетились. Образовался широкий проход, и по нему торжественно проследовали царь и царица. Они оба встали на какое-то возвышение в начале зала, и оркестр заиграл царский гимн «Боже, царя храни». Пел весь зал.
– Незабываемая картина, она запомнится на всю жизнь! Правда? – услышала я шепот. Это говорила стоящая рядом Наташа Друцкая, переведенная в наш класс. <…>
Гимн кончился. Царь подал руку знатной московской даме Базилевской, грянул оркестр, и бал открылся торжественным полонезом. Картина была красивая. И вот прошло очень много лет, я смотрела вторую серию фильма «Война и мир» по роману Толстого в одном из московских кинотеатров. И вдруг машина времени сделала крутой поворот, сместились века, перевернулись годы, и я опять почувствовала себя девчонкой на хорах Дворянского собрания. До чего же хорошо и похоже был сделан придворный бал. Вообще, этот фильм Бондарчука я считаю эпохальным и очень люблю его.
После полонеза танцевали вальс. Хорошо танцевали старшие царские дочки Ольга и Татьяна (из детей только они и присутствовали), и еще все восхищались великим князем Дмитрием Павловичем, который впоследствии убил Распутина. Он танцевал то с Ольгой, то с Татьяной. Вальс исполнялся с фигурами, и в левую, и в правую сторону. Старшие институтки стали сзади напирать на нас, некоторые просили: «Дайте и нам посмотреть», а другие бесцеремонно отодвигали нас назад. Мазурку я еще немного видела, а потом вдруг очутилась в последнем ряду и, заметив у стен скамейки, с радостью уселась. Скоро рядом со мной оказалась Вера. Наташа Друцкая держалась впереди. <…>
Настал день приезда Таши. <…> С утра в ожидании волновалась, бегала к седьмому классу и заглядывала в стеклянный верх дверей. И наконец вот она приехала. У последней парты стоят несколько «стареньких» девочек. Новеньких в седьмом классе всегда много, но ведь это сестра отчаянной шалуньи Лельки Лодыженской, слава о которой доходила и до прошлогодних приготовишек. Таша в синей кофточке и беленькой косынке, подвязанной под подбородок, как и полагается после бани. Белый платок очень идет к ней. Он так оттеняет хрупкость и нежность ее бледно-розового личика. Но глаза заплаканы, а губы пытаются улыбаться девочкам. Я поцеловала ее. Первый раз в жизни она крепко обняла меня.
– Сейчас мы идем ужинать, – быстро говорю я, – а потом пойдем в дортуар надевать «полупарад», я обязательно прибегу к тебе помочь одеться.
В дортуаре Таша ведет себя очень растерянно. Ведь как часто твердила я ей дома все гласные и негласные институтские правила, она, видно, все забыла, так потрясло ее расставание с мамой. С этой минуты мне непрерывно щемит сердце, точно это я в первый раз приехала в институт. В зале я все время оглядываюсь на седьмушек. Таша сидит спокойно, но глаза у нее такие несчастные и на щеках два красных пятна. Ступина, которая изображает роль главной надзирательницы за порядком, подходит ко мне, я сижу у раскрытой в коридор двери, и, наклонившись, шипит в ухо:
– Перестань вертеться, это неуважение к лектору. <…>
Тем временем в коридоре началось оживление. Из последней двери зала выскочила Евгения Петровна. Мартышка, оглядываясь, бегом побежала по направлению к лазарету. Косички взлетели, а туфли громко шлепали.
«Странная она, – подумала я, – надо же такое представление устроить!»
Вера Куртенэр, пожалуй, права. Она считает, что у Мартышки в голове не все дома. Помню, в приготовительном классе Мартынова под большим секретом сообщила мне, что ее дедушка убил Лермонтова на дуэли. Я не знала в девять лет, кто такой Лермонтов. Понятно, развитие детей начала века сильно отличалось от развития современных детей. Я сообщила маме об этом факте. Лермонтов был любимый мамин поэт, она пришла в ужас:
– Уж молчала бы об этом, дурочка!
Она тут же стала мне читать стихи поэта. Они мне очень понравились, особенно «По небу полуночи ангел летел…» и «Русалка».
– И вот на такого поэта какое-то ничтожество подняло руку, – сказала мама.
Позже, в шестом классе, я была свидетельницей того, как одна из девочек выразила Мартыновой возмущение поступком ее дедушки. Я видела, как Мартышке это больно, и высказалась в ее защиту:
– А твой дедушка, может, запорол десять человек крепостных, разве ты можешь отвечать за него?
Потом Мартышка, присев ко мне на парту, рассказала мне, что, когда она заговорила об этом со своим отцом, он очень волновался и рассказывал ей, что Лермонтов всегда издевался над дедушкой и его долг чести был вызвать Лермонтова на дуэль. Мы обе согласились, что дуэль – это глупость.
Потянулись скучные институтские дни. Таша очень страдала. На первое же воскресенье мама взяла ее домой, при возвращении опять слезы. Мама решила снять комнату в Москве, чтобы брать Ташу по воскресеньям домой. А жить и тут, и там. <…>
В институте Таша жила как во сне. Каждый четверг мама приходила к нам в прием от полшестого до полседьмого, а в субботу приезжала за Ташей. Раз как-то она не пришла к нам в четверг. В первую же переменку в пятницу Таша прибежала ко мне высказывать свои опасения. Я, как могла, утешила ее. На прогулке я увидела, что она гуляет с Ириной Высоцкой. Ирина вскоре после приезда новеньких сказала мне:
– Какая у тебя красивая сестра.
Они очень оживленно разговаривали. «Ну, наверно, успокоилась», – подумала я. И вдруг около пяти часов кто-то сказал мне:
– Там твоя сестра в маленьком коридорчике плачет.
Таша стояла у подоконника, закрыв руками лицо, плечи ее вздрагивали. Рядом стояла Высоцкая.
– Ну, не плачь, приедет завтра твоя мама за тобой, – говорила она, – вспомни своего Фонечку, Лютку, Джека, поедешь на Рождество, всех увидишь, – и, обратясь ко мне, добавила: – Какая-то ты, Леля, холодная, неужели тебе сестры не жалко.
Я промолчала. Не буду же я объяснять ей, что сердце у меня разрывается, а сделать я ничего не могу, да и не умею выражать своих чувств. Конечно, все обошлось благополучно, и в субботу мама приехала. <…>
О пятом классе у меня осталось не очень хорошее впечатление. Постоянная боль за Ташу, да и в классе не было дружбы.
К нам поступило несколько новеньких, одна из них, Ляля Скрябина, дочь известного композитора, невольно явилась причиной вражды двух девочек. Ляля очень хорошо играла на рояле, помимо этого, она обладала каким-то внешним обаянием. Как будто ничего особенного в ней не было. Маленькая, курносенькая, небольшая кудрявая косичка болтается сзади, совсем детская фигурка и манера держаться немного животом вперед. Но что-то в ее карих глазах было очень милое, особенно когда она улыбалась. Она очаровала всех на одном из концертов. Вышла такая фигурка, сделала смешной книксен и села за рояль, и вдруг полились звуки такой певучести и чистоты, как будто играл большой мастер. Кончила, гром аплодисментов. Встала, опять сделала книксен и хотела уже было сходить с эстрады, как вдруг к ней подошел Сергей Васильевич Рахманинов, наклонился и торжественно поцеловал ей руку.
Рахманинов бывал у нас часто, он устроил свою дочь к нам на уроки гимнастики, и девочка, приблизительно нашего с Лялей возраста, приходила некоторое время ежедневно. <…>
Я как-то очутилась вместе с Лялей в лазарете, и даже кровати наши стояли рядом. К ней пришла в прием мама, она мне очень понравилась. Лицо какое-то спокойное и строгое. После ее ухода Ляля долго плакала, потом повернулась ко мне и спросила:
– У тебя есть папа?
Я рассказала.
– Ay меня отняли папу, он живет в Москве, но он у нас почти не бывает, а мы, и мама, и сестра Маруся, так любим его.
Уже будучи взрослой, я читала в мемуарах о Скрябине, что во втором браке он был очень счастлив, что у него был необыкновенно талантливый сын. Рассказываю только о том, как реагировала 12-летняя девочка на уход отца из семьи. <…>
Одно качество сильно разрослось в девочках в пятом классе. Почему-то полюбили врать. Если раньше титул врунишки считался позорным, то сейчас враньем не пренебрегали даже в собственных взаимоотношениях.
Еще одна новенькая появилась у нас – Инна Давыдова. Когда в класс вошла маленькая, черненькая, с большими глазами девочка, мы отнесли ее к разряду тихонь. Но уже на другой день увидели, что она вовсе не тихоня, и вечером классуха, делая ей замечание, сказала:
– Давыдова, ты должна вести себя примерно: помни, что тебя исключили из Екатерининского института и Ольга Анатольевна приняла тебя условно.
Разумеется, Инна вошла в нашу компанию. Инна была с Кавказа, папа у нее умер, а мама в Москву приезжала редко. У самых моих близких подруг Тамары и Веры отцов тоже не было. Инна очень любила рассказывать о богатстве, в котором она живет. <…>
Никогда не врала Тамара. Наоборот, она, нисколько не смущаясь, рассказывала всем, что ее мама с тремя младшими детьми (Тамара четвертая) живет в небольшой квартирке во вдовьем доме, что пенсия за папу очень маленькая и они прислуги не держат и делают все сами. Остальные же любили похвастаться пышностью и изобразить из себя изнеженных роскошью аристократок, хотя это и не соответствовало действительности.
Богатство мне никогда не казалось добродетелью, наоборот, мне стыдно было нашего «богатства» перед Дуней. Но совсем другой факт заставил меня тоже прибегнуть ко лжи. Хоть и неприятно писать об этом, но я хочу, чтобы мои воспоминания были правдивы.
Вера Куртенэр часто рассказывала о своей жизни дома. Я очень любила слушать ее рассказы, хорошо знала всех ее родных и как бы сама участвовала во всех событиях. <…> Жизнь Веры сильно отличалась от нашей уединенной жизни. Детей много, собирались часто, устраивали спектакли, шарады, живые картины. О богатстве Вера никогда не говорила Может, его и не было. Да и на что оно, раз так интересно и весело жилось. У нас же сверстников почти не было, а с отъездом Булановых в Москву вообще осталась одна Дуня. Помню, как часто я, бывая в Можайске и ожидая маму в экипаже, наблюдала, как в каком-нибудь дворе играют ребята в лапту, горелки. «Как им весело!» – думала я.
Передавая мне свои истории, Вера иногда прерывала себя:
– Ну что ж я все говорю, тебе уж, наверно, надоело слушать. Теперь ты расскажи что-нибудь.
А мне рассказывать было нечего. И вот я решила придумать себе двоюродных брата и сестру. Они, оказывается, жили где-то далеко и приехали недавно. Я видела их, только когда была маленькая. А теперь мы очень понравились друг другу и подружились. Брата я назвала Левкой. А сестру – наверное, под влиянием Лермонтова – Мэри. Конечно, она оказалась писаная красавица, а Левку я сделала некрасивым – так будет естественнее. Плела целые истории и сама очень увлекалась ими, и странно, при всей моей любви к правде и справедливости мне ни капли не было стыдно.
А время приближалось к Рождеству. В декабре мама рассчиталась с квартирной хозяйкой и уехала в Отяково. То ли в ожидании зимних каникул, то ли по другой причине, но Таша стала спокойнее. <…>
Вскоре после Рождества настал день моего позора и разоблачения во лжи. <…>
Как-то на прогулке к нам с Тамарой подошла Наташа Велихова и поведала о том, что Таша невзначай ей рассказала, что никаких Левки и Мэри не знает. И прибавила, что она, Наташа, никогда меня не выдаст.
Я готова была провалиться сквозь землю, мне стало так стыдно. Обе, и Белка и Тамара, казались мне такими хорошими, а к себе я чувствовала отвращение. И они действительно оказались благородными: никто в классе не узнал о моей лжи. Белка даже ни разу не упомянула об этом, а Тамара иногда слегка поддразнивала меня. <…>
В течение зимы у нас бывала небольшая эпидемия гриппа – «инфлюэнции», как говорили тогда. Пожалуй, даже это нельзя было назвать эпидемией – ничего похожего на то, что случается теперь. Люди, что ли, крепче были. Поболеют насморком и кашлем по три, по четыре девочки в классе (и ведь абсолютно никаких мер не принимали), самое большее неделю посидят в лазарете и опять включаются в суровый институтский режим. Осложнения случались редко. Второй раз в эту зиму заболела и я. Нас привели с утреннего приема врача, несколько человек, и всех поместили в одну палату. Рядом со мной положили приготовишку Верочку Мегеровскую. Она казалась чем-то очень удрученной и временами принималась плакать. Я села к ней на кровать и стала ее уговаривать. Она рассказала мне, что вчера, в воскресенье, их классная дама, мадемуазель Круае, наказала ее «без приема». Верочка весь день проплакала, а на вечерней прогулке ела снег и снимала с головы башлык и шапку: она хотела заболеть, чтобы отомстить классухе.
Я была удивлена и возмущена, наказание «без приема» у нас не было принято. Ведь это значит наказывать и родителей. И главное, кто это сделал? Мадемуазель Круае, Куроешка, как ее прозвали. Она казалась такой добродушной, никогда ни к кому не привязывалась и не доносила. Толстенькая, маленькая, она уже года три работала с приготовишками.
– Вон идет Куроешка со своими цыплятами, – говорили у нас, и действительно, она была похожа на хлопотливую наседку.
Вот как внешность бывает обманчива! Наказать «без приема» новенькую, которая и так тоскует без матери. Что это, жестокость? А может, непроходимая глупость?
К вечеру у Мегеровской было под 40°, а на другой день ее отделили от нас и сказали, что у нее менингит. Дня через три меня выписали в класс, положение Верочки было тяжелое. Когда я вышла из лазарета, все спрашивали меня про Мегеровскую, но я знала не больше, чем они. Оказывается, приходила фельдшерица из лазарета и просила девочек не шуметь и не бегать – наш класс помещался близко от лазарета. А через день Верочка умерла.
Это была первая смерть в моей сознательной жизни, первый раз я видела покойника. Ее отпевали в институтской церкви. Смерть эта на всех произвела удручающее впечатление. Когда мы пришли после похорон ужинать в столовую, никто не притронулся к еде, плакали буквально все.
– Это какие-то психопатки, – сказала Ступина нашей классной даме.
Я задумывалась позднее над этим массовым явлением. Мегеровская была первый год в институте, большинство ее почти не знали. Правда, девочки независимо от возраста и классов относились друг к другу хорошо. Дружелюбие и участие были сильно распространены в средних и старших классах. Тому пример, как к Таше подходили разные девочки. Но все же объяснить этот массовый порыв одной дружбой коллектива нельзя. Конечно, наверно, имело значение то, что для некоторых, как и для меня, это был первый покойник. Но опять же это не главная причина. А основная причина в том, что я называю «бактерией массовых настроений».
Поясню примером. 32 года из моей жизни мне пришлось прожить в большой коммунальной квартире. У нас жило 9 семей. На кухне и в общих местах сталкивалось 30 человек. Разное, конечно, было, и плохое, и хорошее. Но неизменно я замечала, что настроение жильцов передавалось очень быстро, как инфекция. Стоило кому-нибудь утром выйти в благодушном состоянии, уступить место около раковины, и все становились добры и предупредительны, и наоборот, одна язвительная фраза как спичка зажигала пожар ненависти и склоки. Примером моей теории я могла бы привести чисто исторические события, но пусть все будет на своем месте.