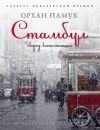Читать книгу "Наивный и сентиментальный писатель"

Автор книги: Орхан Памук
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Из чего же сделан этот самый центр, из какого вещества? Из всего, что составляет роман, мог бы я ответить. Однако он расположен далеко от поверхности романа, которую мы обозреваем слово за словом; он прячется где-то на заднем плане, его не так-то просто найти, он, можно сказать, не стоит на месте и не дается в руки. Благодаря этому центру, признаки существования которого мы встречаем повсюду, все детали ландшафта связаны друг с другом.
Если мы знаем, что у романа есть центр, то во время чтения мы становимся похожими на пробирающегося по лесу охотника, который обращает внимание на каждый листок, на каждую сломанную веточку. Нас не оставляет чувство, что все, встречающееся нам на пути, будь то слово, предмет, персонаж, диалог, описание, особенности языка и стиля или повороты сюжета, намекают и указывают на что-то другое. Знание о центре романа заставляет нас подозревать, что любая незначительная на вид подробность может оказаться важной, что у всего, что лежит на поверхности, может найтись совсем иной смысл. Роман может вызывать чувство вины, паранойю, тревогу. Ощущение глубины или иллюзия того, что мы находимся в трехмерном мире, также проистекают из наличия у романа скрытого центра.
Это главное, что отличает роман от легенды, средневекового эпоса, поэмы или традиционной книги о путешествиях. Разумеется, особенность романа и в том, что его герои сложнее и современнее, что они могут быть самыми обычными людьми, а повествование может включать в себя рассказ о мельчайших подробностях повседневной жизни; но всеми этими особенностями роман обязан присутствию на заднем плане скрытого центра, который читатель надеется обнаружить. Когда автор показывает нам обыденные мелочи, знакомые нам маленькие мечты, житейские привычки и предметы, мы читаем про них с любопытством и даже с изумлением, поскольку знаем, что у всего этого есть другое, более глубокое значение и тайная цель. Любой фрагмент ландшафта, каждый листик и цветок внутри пейзажа привлекают внимание и вызывают интерес, поскольку несут в себе тайный смысл.
Роман именно потому обладает таким мощным потенциалом воздействия на нас, людей современной эпохи, и даже на все человечество, что является трехмерным вымыслом, то есть, с одной стороны, может показывать жизнь на самом ее поверхностном уровне, исходя из опыта и сведений, которые дают нам органы чувств, а с другой – способен дать некое интуитивное понимание, крупицу знания, какой-то намек относительно того, до чего так трудно добраться, что скрыто на заднем плане, как бы мы это ни называли – центром, сутью или, как Толстой, «смыслом» жизни. Упование на то, что можно овладеть самым глубоким, самым ценным знанием о смысле жизни, не мучая себя трудностями философии и не испытывая социального давления религии, – это надежда, по сути своей, очень эгалитаристская и демократическая.
В возрасте от восемнадцати до тридцати лет я жадно глотал роман за романом именно с этой надеждой в душе. Каждая книга, которую я, как зачарованный, читал в своей комнате, знакомила меня с новым миром, который был бесконечно богат сведениями, словно энциклопедия или музей, населен людьми, которых я мог бы встретить в своей собственной жизни, и полон требованиями, утешениями и обещаниями, которые по содержательности и всеобъемлемости могли сравниться только с теми, которые предлагает философия и религия. Желая постичь суть жизни и сформировать свою личность, я читал романы запоем, забывая обо всем на свете.
Э. М. Форстер[4]4
Эдвард Морган Форстер (1879–1970) – английский писатель, литературный критик, сценарист и эссеист.
[Закрыть], которого нам предстоит еще несколько раз упомянуть, пишет в своем эссе «Аспекты романа», что главное мерило ценности произведения в этом жанре – это наша любовь к нему. Для меня же значимость романа зависит от того, в какой степени поиски его центра способны помочь в поисках центра мира (его смысла). Выражаясь проще, истинная ценность романа определяется тем, порождает ли он в нас ощущение (и насколько сильное), что в жизни «все так и есть». Роман должен обращаться к нашим основополагающим представлениям о жизни, и читать его нужно с соответствующими ожиданиями.
Роман воспитания или, как говорят придумавшие этот термин немцы, bildungsroman, – наиболее полно отвечающая этому духу и форме разновидность этого жанра (ибо его структура способствует поиску и исследованию тайного смысла жизни и утраченных ценностей). В романе воспитания обычно рассказывается о том, как молодой герой взрослеет, знакомится с миром и формируется как личность. В юности я формировал свою личность, читая такие романы – например, «Воспитание чувств» Флобера или «Волшебную гору» Томаса Манна. Со временем я начал видеть то главное, что дает центр романа (а именно знание о том, что такое мир и что такое жизнь), не только в самом центре, но и на каждой странице. Возможно, дело в том, что в хорошем романе каждое предложение порождает в нас такое чувство, будто мы обладаем самым главным знанием и понимаем, что значит существовать в этом мире… Читая романы, я осознал и то, что наш путь в этом мире, то есть наша жизнь в городах и на природе, на улицах и в домах, есть не что иное, как поиск скрытого смысла, которого может и не быть.
В ходе этих лекций мы будем выяснять, как роман может выдерживать такую нагрузку. Для этого мы, подобно читателю, ищущему в тексте тайный центр, или юному герою романа, ищущему смысл жизни, предпримем, движимые любопытством, искреннюю и честную попытку добраться до центра романа как жанра. На пути внутри обширного пейзажа нас ждут писатель и его герои, понятия вымысла и сюжета, вопросы о том, что такое время и что значит «видеть»; мы побываем в музеях и, может быть, как случается в настоящих романах, окажемся в удивительных местах, о существовании которых и не догадывались.
Орхан-бей, все это и вправду было с вами?

Если человек любит романы и имеет привычку к их чтению, это говорит о том, что ему хочется сбежать из однообразного картезианского мира, где логика и воображение, тело и разум противопоставлены друг другу. Роман – это специальная конструкция, позволяющая противоположным мыслям уживаться у нас в голове, не вызывая дискомфорта, и наделяющая нас способностью понимать все точки зрения одновременно. Эту тему я затрагивал в предыдущей лекции.
Теперь мне хотелось бы поделиться двумя своими убеждениями, глубокими и искренними – и при этом противоречащими друг другу. Но сначала познакомлю вас с контекстом. В 2008 году вышел мой роман «Музей Невинности». Одна из сюжетных линий романа, не единственная, но очень важная, была связана с глубоко, безумно влюбленным молодым человеком по имени Кемаль, с его поступками и чувствами. Вскоре читатели, поверившие в то, что в романе описана реальная история любви, стали настойчиво задавать мне вопросы: «Орхан-бей, все это и вправду было с вами? Кемаль – это вы?»
И вот я даю на эти вопросы два противоречащих друг другу ответа, в истинности которых в равной степени убежден:
1. Нет, мой персонаж Кемаль – это не я.
2. Я никогда не смогу убедить своих читателей, что я – не Кемаль.
Второй ответ, с одной стороны, означает, что мне – как в большинстве случаев и всем другим писателям – было бы трудно убедить читателей в том, что я и герой моего романа – разные люди, а с другой – намекает, что мне, по правде говоря, не хочется прилагать к этому особых усилий. На самом деле я писал роман, отлично понимая, что читатели (назовем их «наивными читателями») будут думать, что Кемаль – это я. Мало того, отчасти в глубине души я желал, чтобы они так думали. Иными словами, мне хотелось, во-первых, чтобы мой роман воспринимался именно как роман – как вымысел, плод воображения, а во-вторых, чтобы казалось, будто главные герои и их история реальны, а большую часть рассказанного я пережил лично. И при этом я вовсе не чувствовал себя ни обманщиком, ни лицемером. Таким образом, я на собственном опыте убедился в том, что, сочиняя роман, одновременно ощущаешь эти два противоречащих друг другу желания, но не видишь в этом никакой проблемы и спокойно продолжаешь писать.
Когда Даниэль Дефо опубликовал «Робинзона Крузо», он скрыл тот факт, что рассказанная в романе история была плодом его воображения, и утверждал, что она произошла на самом деле, а потом, когда выяснилось, что это не так, пристыженно признал, что в его книге была доля вымысла. За сотни лет, начиная с «Дон Кихота» и даже «Повести о Гэндзи»[5]5
«Повесть о Гэндзи» – одно из наиболее значимых произведений японской классической литературы. Авторство приписывается поэтессе и писательнице Мурасаки Сикибу, жившей в конце X – начале XI века.
[Закрыть] до «Робинзона Крузо», «Моби Дика» и литературы наших дней, писателям и читателям так и не удалось прийти к единому взгляду на природу художественного вымысла.
Но не следует думать, что мне бы хотелось, чтобы это произошло. Напротив, я считаю, что искусство романа обладает такой силой воздействия именно благодаря тому, что у писателя и читателя нет общего понимания того, что такое художественная литература. Оба согласны в том, что написанное в романе не является ни чем-то полностью выдуманным, ни точным отражением реальности; но чем дальше читатель слово за словом, предложение за предложением продвигается по роману, тем сильнее становится его сомнение и любопытство. Наверняка, думает читатель, автор сам пережил нечто подобное, но потом кое-что преувеличил и додумал. Или же, напротив, читатель начинает подозревать, что автор о многом умолчал, и пытается сам додумать, как все было на самом деле. Читатель наивный и читатель сентиментальный делают противоположные друг другу умозаключения о соотношении правды и вымысла в одном и том же романе. Более того, один и тот же человек, возвращаясь к какой-либо книге через некоторое время, может приходить к совершенно иным, чем ранее, выводам на этот счет.
Размышления о том, что было на самом деле, а что придумано, – лишь одно из многих удовольствий, которые дарит нам чтение романа. Другое, связанное с первым, заключается в чтении авторских предисловий, аннотаций на задней обложке, интервью и воспоминаний, в которых писатели стараются убедить нас, что реальные события их жизни – вымысел, или, наоборот, что придуманные ими истории – чистая правда. Мне тоже нравится читать всю эту металитературу, представляющую собой попытки автора оправдать свою книгу перед читателями и достигающую порой выдающихся теоретических, метафизических и поэтических высот. Воздействие романа на читателя отчасти зависит и от критических отзывов в прессе, и от высказываний автора, пытающегося как-то повлиять на то, как будет встречено и прочитано его детище. В шестидесятые годы ХХ века, через двести пятьдесят лет после того, как Дефо утверждал, будто в «Робинзоне Крузо» описаны реальные события, Набоков будет настаивать на том, что его романы, действие которых происходит на американских дорогах и в американских университетах, следует читать как сказки.
Куда бы роман ни проник за триста лет, прошедших со времен Дефо, он всюду вытеснял другие литературные формы, начиная с поэзии; так по всему миру постепенно распространилась та концепция художественного вымысла, с которой мы сегодня соглашаемся (или же которую соглашаемся не принимать). Эта заимствованная у романа концепция легла в основу искусства кино, а кино за последнюю сотню лет превратило ее в идею, с которой согласны мы все – во всяком случае, так это выглядит. Тут можно вспомнить, как ренессансная живопись, основанная на приеме перспективы, заняла господствующие позиции во всем мире (в этом ей помогло изобретение фотографии и репродукции). Подобно тому, как представления горстки итальянских художников и аристократов XV века о том, как следует видеть и изображать мир, сегодня везде считаются само собой разумеющимися, а другие способы видеть и изображать не вызывают интереса и преданы забвению, так и концепция художественного вымысла, популяризованная романом и кинематографом, во всем мире воспринимается как самая естественная, причем никто уже не помнит, как и когда она возникла. Таково положение дел на сегодняшний день.
Нам в общих чертах известна история возвышения романа в Англии и Франции, а также история утверждения идеи художественного вымысла в этих странах. Куда меньше мы знаем о том, какие делали открытия и какие находили решения писатели из незападных стран, которые переносили искусство романа на родную почву и осваивали принятое на Западе понимание художественного повествования, обращаясь к своим читателям и национальным проблемам. В основе этих проблем и порождаемых ими новых стилей и форм лежал процесс творческой и прагматической адаптации западной идеи «вымышленности» романа к особенностям собственной культуры. Эти писатели, вынужденные бороться с запретами, табу и деспотизмом авторитарных государств, творчески воспользовались заимствованной идеей художественного вымысла в том числе и для того, чтобы высказать «правду», которую они не могли выразить открыто. (То же самое делали в свое время и на Западе.)
Когда эти писатели, в противоположность Дефо, утверждали, что их романы – чистейший плод воображения, они, разумеется, тоже говорили неправду. Однако делали они это не для того, чтобы, как тот, обмануть читателей, а чтобы защитить себя от властей предержащих, всегда готовых запрещать книги и наказывать их авторов. С другой стороны, эти же писатели, желая быть понятыми своей аудиторией, всячески намекали в интервью и предисловиях, что в их романах рассказана «правда». Такая неоднозначная позиция превращала местных писателей в своего рода лицемеров, и чтобы избавиться от этого морального груза, большинство из них рано или поздно начинали искренне верить в то, что говорят. Появление в какой-то период необычных голосов и новых форм в искусстве романа за пределами Запада объяснялось этими своеобразными вынужденными маневрами. Тут мне вспоминаются романы, прочтение которых может быть аллегорическим: «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (Россия), «Слепая сова» Садега Хедаята (Иран), «Любовь глупца» Дзюнъитиро Танидзаки (Япония), «Институт настройки часов» А. Х. Танпынара.
Местный писатель стремится достичь того высокого эстетического уровня, на который вышло искусство романа в Лондоне или Париже, и искренне желает использовать в собственной стране новейшее понимание художественной литературы; ведет борьбу с тем пониманием, которое привычно у него на родине («В Европе больше так не пишут!»); пытается прикрыться идеей художественного вымысла, как щитом, от карающей руки государства («Я ни в чем не виноват, все, что я написал, – просто выдумка!») – и при этом гордится тем, что открыто говорит правду. А если ему все-таки удается создать нечто подлинно новое и ценное в таких сложных условиях, он чувствует, что в конечном счете его роман будут любить именно благодаря всем этим обстоятельствам.
Если бы у нас была возможность провести подробное и обширное исследование того, как писатели, живущие в незападных странах с закрытым (в большей или меньшей степени) обществом, начиная с конца XIX и на протяжении всего ХХ века использовали идею художественного вымысла, то главное, что мы усвоили бы из этой запутанной и увлекательной истории, было бы вот что: во-первых, сочиняя роман, автор словно бы играет с читателем в шахматы, угадывая его ожидания и намеренно не оправдывая их, а во-вторых, он должен уметь искусно и со знанием дела сплетать свой собственный жизненный опыт с выдумкой. Даже после того, как возникшее благодаря современному роману понимание художественного вымысла распространилось по всему миру посредством кино, вопрос времен Дефо – «Это случилось с вами на самом деле?» – не потерял актуальности. Напротив, этот вопрос продолжает оставаться одним из основных факторов, позволяющих роману последние три сотни лет не сдавать своих позиций и сохранять притягательность для читателя.
Раз уж речь у нас зашла о кино, приведу еще один пример, связанный с «Музеем Невинности». В этом романе я уделил место рассказу о турецкой киноиндустрии семидесятых годов. Должен признаться – простодушно и без тени улыбки – что в начале восьмидесятых я писал сценарии для турецких фильмов и кое-что из того, о чем писал в романе, испытал на собственном опыте. В начале семидесятых турецкий кинематограф был на подъеме и имел огромную аудиторию. В те времена часто с гордостью повторяли, что по количеству производимых в год фильмов Турция уступает только США и Индии. Знаменитые актеры, снимавшиеся в этих фильмах, порой играли персонажей, которые имели такие же имена, как у них самих, и вели схожий образ жизни. Например, Тюркан Шорай[6]6
Тюркан Шорай (род. 1945) – турецкая киноактриса, сценарист и режиссер.
[Закрыть] играла кинозвезду по имени Тюркан Шорай, а затем в многочисленных интервью пыталась убедить зрителя, что ее настоящая жизнь не очень-то и отличается от показанной в ее последнем фильме. Зритель же, подобно наивному читателю, убежденному, что герой романа – это портрет либо писателя, либо какого-то другого реального человека, искренне верил, что Тюркан Шорай на экране изображает Тюркан Шорай в жизни, размышлял о том, в чем они все-таки различны, и гадал, какие подробности в фильме подлинны, а какие выдуманы.
Я и сам, когда беру в руки знаменитый роман Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», где описывается мир героя, очень похожего на его автора, пытаюсь угадать, какие подробности Пруст взял из собственной жизни и насколько точно их изложил. Поэтому я люблю читать биографии и стараюсь не посмеиваться над наивными зрителями, путающими кинозвезду и образ, который она воплощает на экране. Для нашей темы, то есть в контексте основных особенностей искусства романа, интереснее поведение «образованных и культурных» читателей. Их забавляет наивность кинозрителей, они хохочут, когда слышат, что какого-нибудь актера второго плана, играющего злодеев, обругали, побили и едва не линчевали на улицах Стамбула узнавшие его разгневанные сограждане; и при этом они не могут противостоять искушению спросить меня: «Орхан-бей, Кемаль – это вы? Это все случилось с вами на самом деле?» Это отличное напоминание о том, что читатели любого культурного уровня, принадлежащие к самым разным социальным слоям, могут находить в романах что-то свое.
Прежде чем привести второй пример на эту тему, я хочу сказать, что во многом согласен с теми, кто говорит, что не стоит начинать попытки понять роман с изучения биографии автора, и путать писателя и его героев. Однажды, вскоре после публикации «Музея Невинности», я повстречал на улице своего старого знакомого, профессора, которого давно не видел и с которым время от времени, бывало, беседовал на эти темы. Решив, что кому, как не ему, меня понять, я посетовал, что меня постоянно спрашивают, не Кемаль ли я. И мы с моим старым знакомым завели разговор, прогуливаясь по району Нишанташи, по тем самым улицам, где происходит действие моего романа. Вспомнили сначала работу Мишеля Фуко «Что такое автор?», потом концепцию имплицитного читателя, выдвинутую Вольфгангом Изером, и концепцию читателя образцового, предложенную Умберто Эко, которого мы оба любим и который много лет назад, как я сейчас, тоже читал Нортоновские лекции в Гарварде. Мой добрый приятель привел пример упомянутого мной в «Черной книге» (в главе «Три мушкетера») арабского поэта Абу Наваса, который писал так, что создавалось впечатление – не соответствующее действительности, – будто он гомосексуален; рассказал о многовековой китайской традиции, в соответствии с которой писатели-мужчины вели повествование от женского лица. Как и полагается интеллигентам из незападной страны, привычно жалующимся на невысокий культурный уровень своего народа, мы без особой горечи поговорили о том, что газеты распаляют интерес читателей к сплетням, а это замедляет усвоение западной концепции романа и художественного вымысла.
Тут мой старый знакомый остановился у двери одного дома напротив мечети Тешвикийе. Я тоже остановился и вопросительно посмотрел на него.
– Я думал, ты идешь домой, – сказал он.
– Именно так, но я живу не здесь, – ответил я.
– Вот как? – удивился мой приятель-профессор и, улыбнувшись своей ошибке, пояснил: – В твоем романе написано, что Кемаль живет здесь вместе с матерью, и я, должно быть не отдавая себе в том отчета, решил, что и вы с мамой сюда переехали…
И мы, словно два старика, уже ко всему относящиеся снисходительно, улыбнулись тому, что спутали вымысел с реальностью. Мы чувствовали, что поддались этой иллюзии не потому, что забыли, что роман в равной степени опирается и на реальность, и на силу воображения, а потому, что эту иллюзию внушает читателю сам роман. В тот момент мы поняли, что читаем романы именно за этим: чтобы в нашей голове реальность смешалась с вымыслом. Чувство, владевшее нами тогда, я могу назвать желанием быть наивным и сентиментальным одновременно. И сочинение, и чтение романа предполагает постоянные колебания между этими двумя состояниями.
Теперь мы можем перейти к главной теме второй лекции, к вопросу о личности автора. Однако сначала напомню кое-что из того, о чем говорил в прошлый раз: от других жанров с подробным повествованием (повестей, эпических поэм) роман отличает то, что у него на заднем плане есть некий центр. Путь к центру, к скрытой истине, по которому ведет нас роман, начинается с небольших подробностей и происшествий, схожих с теми, которые все мы наблюдаем в собственной повседневной жизни и с которыми по-своему знакомы. Упрощая, каждое из таких наблюдений можно назвать «чувственным опытом». Когда мы открываем окно, пьем кофе, поднимаемся по лестнице или по крутому склону, шагаем по людным городским улицам, скучаем в машине, застрявшей в пробке, прищемляем палец дверью, теряем очки, мерзнем в стужу, летом впервые идем купаться в море, встречаемся с красивой женщиной, едим печенье, которое ели когда-то в детстве, смотрим в окно мчащегося поезда, нюхаем цветок, который прежде никогда не видели, ссоримся с родителями, целуемся, впервые в жизни глядим на океан, мучаемся от ревности, пьем стакан холодной воды, – уникальность нашего опыта накладывается на схожий опыт других людей, и это становится основой нашей способности понимать роман и получать от него удовольствие.
Когда мы читаем о том, как Анна Каренина пытается сосредоточиться на чтении, сидя в ночном поезде, а за окном бушует метель, мы припоминаем собственный чувственный опыт, похожий на этот. Возможно, мы сами когда-то ездили на поезде снежной ночью. Возможно, вы не понаслышке знаете, как трудно читать, когда мысли заняты чем-то другим. Наверняка этот ваш опыт не совпадает в точности с тем, что описал Толстой, – скажем, на поезде из Москвы в Петербург вы не ездили; однако и того сходства, что есть, достаточно, чтобы вы могли понимать чувства персонажа. Эта общность опыта повседневной жизни наделяет роман универсальной силой воздействия, и она же определяет границы этой силы. Если в будущем люди перестанут ездить ночными поездами и читать в дороге, им станет трудно понимать ощущения Анны, а когда десятки тысяч таких мелких подробностей уйдут в прошлое и сотрутся из памяти, читателям станет трудно понимать сам роман «Анна Каренина».
То, что Анна чувствует в поезде, одновременно настолько похоже и непохоже на наш опыт, что мы оказываемся словно бы зачарованными. Мы догадываемся, что источником таких подробностей и чувств может быть только сама реальность, что их нужно «пережить», и потому каким-то уголком разума понимаем, что на самом деле Толстой через Анну рассказывает нам о собственном жизненном опыте, о мире собственных ощущений. Именно так следует понимать часто цитируемую фразу, которую приписывают Флоберу: «Госпожа Бовари – это я». Флобер не был женщиной, никогда не состоял в браке, и его образ жизни совсем не был похож на образ жизни его героини. Однако ее чувственный опыт (тоску по счастью и яркой жизни, подробности провинциального домашнего обихода) он переживал, как свой собственный; свой взгляд на мир он представил нам как взгляд госпожи Бовари, и сделал это с величайшей убедительностью. Однако, несмотря на весь талант и мастерство автора – а может быть, как раз благодаря его таланту, – нам иногда кажется, что все эти подробности, которые мы считаем взятыми из жизни, на самом деле могли быть выдуманы Флобером.
Точность деталей, ясность, красота, а еще ощущение, которое можно было бы сформулировать как «да, так оно есть, очень верно подмечено!», и свойственная тексту особенность, позволяющая нам оживлять сцены романа в собственном воображении, – все это заставляет нас восхищаться писателем и чувствовать, что он способен описать что угодно, будто сам это пережил, причем так, что мы в это поверим. Назовем способность создавать эту иллюзию «силой» писателя. Не удержусь и еще раз скажу, до чего же удивительна эта сила, и напомню, что читать роман, полностью забывая о существовании автора, – неинтересно, да и почти невозможно. Забыть о существовании автора мы способны разве что ненадолго, потому что постоянно сравниваем чувственный опыт, описанный в романе, со своим собственным и благодаря этому воссоздаем описанное у себя в голове. Одно из главных удовольствий, которое получаешь от чтения романа, – возможность сравнивать свою жизнь с жизнью других людей, в точности как делала, сидя в поезде, Анна Каренина. Это относится и к тем романам, которые, казалось бы, полностью созданы одной лишь силой воображения. В сущности, очень многие исторические, фантастические, философские и любовные романы, а также их гибриды не хуже любых «реалистических» произведений опираются на повседневную жизнь той эпохи, когда они были написаны. Полностью погрузившись в роман, пребывая в поисках глубинного смысла, спрятанного за переплетением множества деталей, и одновременно с удовольствием изучая чувственный опыт героев (то, как они воспринимают мир или разговаривают с другими персонажами) и мелкие подробности их жизни, мы можем забыть о существовании автора. Мало того, мы можем даже в наивности своей совершенно забыть о том, что роман, который мы держим в руках, был задуман и сочинен писателем, – точнее, делать вид, что не помним об этом. Важная особенность искусства романиста заключается в том, что именно в те моменты, когда мы крепче всего забываем об авторе, он в наибольшей степени присутствует в тексте. Дело в том, что в эти моменты мы считаем мир автора настоящим, подлинным миром, а его «зеркало» (да будет мне позволено употребить здесь эту старинную метафору) – идеальным, безупречно правдивым. Разумеется, идеальных зеркал не существует, мы лишь считаем таковыми те, которые идеально соответствуют нашим ожиданиям. Каждый человек, которому хочется почитать роман, выбирает зеркало по своему вкусу.
Утверждая, что идеального зеркала не существует, я имею в виду не только стилистические различия. Мы говорим сейчас о другом явлении, благодаря которому возможна литература в целом. Когда мы раздвигаем шторы, чтобы впустить солнце, или ждем лифт, а он все никак не приходит; когда входим в незнакомую комнату или чистим зубы, когда слышим раскаты грома, улыбаемся тому, кого терпеть не можем, или засыпаем в тени дерева, наши ощущения одновременно и похожи на ощущения других людей, и отличаются от них. Благодаря сходству мы можем с помощью литературы представлять себе все человечество. Однако каждый писатель по-своему воспринимает и описывает чашку кофе, восход солнца, первую любовь. Это своеобразие распространяется на всех его героев. Оно-то и составляет основу авторского стиля и почерка.
– Орхан-бей, я прочла все ваши книги, – сказала мне однажды (дело было в Стамбуле) одна добродушная тетушка, примерно ровесница моей собственной тети. – Вы удивитесь, как хорошо я вас знаю.
Меня охватило чувство смущения и стыда; наши взгляды встретились, и я решил, что понял, о чем она хочет сказать. В последующие дни я много размышлял о словах и о взгляде этой женщины, которая была старше меня почти на поколение и многое повидала в жизни, а еще о тогдашнем моем смущении и пытался понять, что же не дает мне покоя.
Говоря, что хорошо меня знает, моя добродушная читательница не имела в виду, что у нее есть сведения о моей биографии и семье, о том, где я жил, в какие школы ходил, на ком женился, какие романы написал и с какими политическими затруднениями сталкивался. Не хотела она намекнуть и на то, что знакома с моей личной жизнью, привычками, характером – со всем тем, о чем я попытался рассказать, увязав со своим восприятием родного города, в книге «Стамбул. Город воспоминаний». И моих персонажей со мной пожилая женщина вовсе не путала. Говорила она словно бы о чем-то более глубоком, сокровенном и тайном, и мне казалось, что я ее понял. Мой чувственный опыт, который я, сам того не замечая, вплел в ткань всех своих книг и которым наделил всех своих героев, – вот что позволило проницательной тетушке хорошо меня узнать. Мой опыт отразился в моих персонажах, и оказалось, что во всех своих романах я рассказываю о том, что чувствую, когда вдыхаю запах мокрой после дождя земли, когда пью в шумном ресторане, прикасаюсь к вставной челюсти покойного отца, жалею о том, что влюбился, немного привираю, стою в очереди в государственное учреждение с влажной от пота бумажкой в руках, наблюдаю за мальчишками, играющими на улице в футбол, сижу в парикмахерском кресле, смотрю на портреты пашей и натюрморты, висящие в стамбульских овощных лавках, проваливаю экзамен на водительские права, грущу в конце сезона в опустевшем курортном поселке, засиживаюсь в гостях, хотя давно уже пора встать и уйти, жду своей очереди в приемной врача, где невыносимо громко орет телевизор, и выключаю его щелчком кнопки, случайно встречаю старого армейского приятеля, или когда посреди оживленного разговора вдруг наступает тишина. Я никогда не смущался, если мои читатели полагали, будто приключения моих героев на самом деле происходили со мной: во-первых, мне было известно, что это неправда, а во-вторых, я мог защититься от этих утверждений теорией литературы, история которой насчитывает три столетия, ведь я знал, что эта теория для того и придумана, чтобы отстаивать свободу, существующую в пространстве между реальностью и вымыслом. Но когда проницательная читательница дала мне понять, что по наитию обнаружила в моих романах мой собственный жизненный опыт – то, что делает их именно «моими», – я смутился, словно человек, который доверил бумаге слишком много сокровенного, и эти признания прочли.
Смущение мое усиливало еще и то, что я обращаюсь к читателям в мусульманской стране, где не принято рассказывать о сокровенном «в публичной сфере», используя термин Хабермаса[7]7
Юрген Хабермас (р. 1929) – немецкий философ и социолог.
[Закрыть], и где никто не пишет книг вроде «Исповеди» Руссо. Подобно очень многим писателям, и не только тем, кто живет в странах с полузакрытым обществом, мне хотелось многим поделиться с читателями, но сделать это посредством вымышленных героев. Творения любого писателя, его книги, похожи на созвездия, в которых сияют десятки тысяч маленьких жизненных наблюдений, то есть фрагментов чувственного опыта. Эти моменты, вбирающие в себя все, что делает и переживает человек – открывает ли дверь, вспоминает ли давно угасшую любовь, – суть неразделимые на части единицы вдохновения, точки творческого роста внутри романа. Благодаря им знания, полученные писателем напрямую из жизненного опыта – то, что мы называем деталями повествования, – воедино сливаются с воображением, да так, что разделить уже очень трудно.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!