Текст книги "Рамунчо"
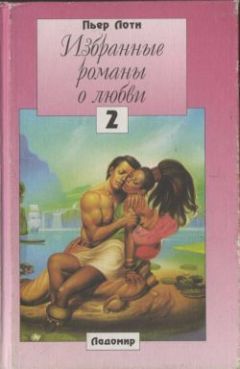
Автор книги: Пьер Лоти
Жанр: Зарубежные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
26
День отъезда. Тут и там прощание с друзьями, веселые напутствия уже отслуживших солдат. С самого утра ощущение какого-то лихорадочного опьянения, а впереди – новая, неведомая жизнь.
В этот последний день Аррошкоа буквально не отходил от Рамунчо; он сам вызвался отвезти его в своей повозке в Сен-Жан-де-Люз и постарался выехать на закате, чтобы как раз поспеть к ночному поезду.
Когда наконец неумолимо наступил вечер, Франкита пришла проводить сына на площадь, где его уже ждала повозка Дечарри. И тут выдержка изменила ей, лицо ее исказилось от боли; он же изо всех сил старался сохранять лихой и бесшабашный вид, как это и следует новобранцу, отбывающему в свой полк.
– Подвиньтесь-ка немножко, Аррошкоа, – сказала она вдруг, – я доеду с вами до часовни Сен-Биченчо, а оттуда вернусь пешком.
Повозка тронулась и покатилась по дороге в лучах заходящего солнца, заливавшего все вокруг великолепием своих золотых и медно-красных лучей.
Они миновали дубовую рощу, затем часовню Биченчо, но Франкита решила ехать дальше. Оттягивая момент окончательной разлуки, на каждом повороте она говорила, что проводит его еще немного.
– Ну вот, матушка, – нежно сказал ей Рамунчо, – на вершине холма Иссариц вы сойдете. Слышишь, Аррошкоа, ты остановишься там, где я тебе скажу; я не хочу, чтобы мама ехала дальше.
На холме Иссариц лошадь сама замедлила шаг. Мать и сын, с глазами полными слез, сидели рука в руке, а повозка катилась так тихо и торжественно, будто поднималась к какой-то неведомой голгофе.[45]45
Голгофа – холм на окраине Иерусалима, где, согласно евангельскому преданию, был распят Иисус Христос; в переносном смысле – место страданий, мучений.
[Закрыть]
Наконец на вершине холма Аррошкоа, который, казалось, утратил дар речи, слегка натянул поводья и тихонько, словно через силу решаясь дать этот скорбный сигнал, крикнул: «Стой!» – и повозка остановилась.
Тогда, не говоря ни слова, Рамунчо спрыгнул на дорогу, помог сойти матери, поцеловал ее долгим нежным поцелуем, потом снова легко вскочил на сиденье:
– Давай, Аррошкоа, поехали, погоняй свою лошадь! Повозка понеслась вниз по склону, и через две секунды он уже потерял из виду ту, что стояла, глядя ему вслед, с лицом, залитым слезами.
Теперь они удалялись друг от друга, Франкита и ее сын. Они двигались в разные стороны по эчезарской дороге среди розового вереска и пожелтевших папоротников в сиянии заходящего солнца. Она медленно поднималась к своему жилищу, навстречу ей попадались то группы возвращающихся домой крестьян, то стада, погоняемые в золотистом свете вечера маленькими пастухами в беретах. А он спускался все быстрее и быстрее по уже темнеющим долинам к подножию гор, где проходила железная дорога.
27
Проводив сына, Франкита подходила к дому уже в сумерках и, идя через деревню, старалась принять свой обычный высокомерно-равнодушный вид.
Но, подходя к дому Дечарри, она увидела Долорес, которая уже собиралась войти в дом, но, увидев Франкиту, повернулась и встала на пороге, словно поджидая ее. Что случилось? Что такое стало ей известно? Чем объяснить эту агрессивную позу, этот вызывающе-иронический взгляд?
И Франкита тоже остановилась, невольно процедив сквозь зубы:
– Господи, почему эта женщина так на меня смотрит?..
– Ну так что, не придет он нынче-то, возлюбленный! – ответила та.
– А! так ты, стало быть, знала, что он приходит сюда к твоей дочери?
Действительно, она знала, с сегодняшнего утра: Грациоза ей сказала, потому что уже не нужно было беспокоиться о завтрашнем свидании, потому что она устала понапрасну толковать матери о дядюшке Игнацио, о новом будущем Рамунчо, обо всем, что говорило в пользу ее жениха.
– А! так ты, стало быть, знала, что он приходит сюда к твоей дочери?..
Эти две женщины, которые прекратили всякое общение без малого двадцать лет назад, по всплывшей откуда-то из подсознания привычке, стали, как когда-то в монастырской школе, говорить друг другу «ты». По правде говоря, они и сами не смогли бы объяснить, почему они так ненавидят друг друга. Часто это начинается с пустяков, с детского соперничества, с зависти. Но нельзя безнаказанно встречаться молча изо дня в день, бросая друг на друга злобные взгляды. Рано или поздно неприязнь превращается в беспощадную ненависть…
И теперь вот они стоят лицом к лицу, бросая друг другу в лицо оскорбления дребезжащими от злорадства и ярости голосами.
– Ну ты-то, – ответила Долорес, – ты, надо полагать, знала это раньше меня; ты сама, бесстыжая, и посылала его к нам! Впрочем, чего тут удивляться, где уж быть разборчивой в средствах после того, что ты делала в свое время…
Франкита, гораздо более сдержанная по натуре, стояла молча, потрясенная этой разгоревшейся посреди улицы ссорой, а Долорес продолжала:
– Ну уж нет, моя дочь никогда не выйдет замуж за голодранца, незаконнорожденного, не бывать этому!
– Еще как выйдет! Она все равно выйдет за него замуж! Попробуй-ка, предложи ей кого-нибудь другого, увидишь, что из этого получится!
И, не желая более продолжать, Франкита пошла своей дорогой, а вдогонку ей летели пронзительные крики и оскорбления Долорес. Она шла, дрожа всем телом, спотыкаясь на каждом шагу, ноги у нее подкашивались.
А дома какая пустота, какая беспросветная печаль охватила ее, когда она переступила порог.
Франкита вдруг совершенно по-новому ощутила реальность этой трехлетней разлуки, к которой она, оказывается, была совсем не готова. Так, вернувшись с кладбища, человек вдруг с ужасающей ясностью ощущает отсутствие дорогих усопших.
И потом, эти оскорбительные слова на улице! Они были тем более тягостны, что в глубине души Франкита все еще терзалась за свой грех с чужестранцем. Как могла она, вместо того чтобы идти своей дорогой, остановиться у дома врага и неосторожно сказанной сквозь зубы фразой вызвать эту отвратительную ссору? Как могла она так низко пасть, так забыться, она, которая пятнадцатью годами безукоризненного поведения завоевала всеобщее уважение? О, позволить оскорблять себя и снести оскорбление от этой Долорес, прошлое которой было безупречно и которая действительно имела право презирать ее! И чем больше она думала, тем больше приходила в ужас при мысли о том, какие последствия может иметь в будущем тот вызов, который она имела неосторожность бросить ей уходя. Ей казалось, что, распаляя ненависть этой женщины, она ставила под угрозу самые дорогие надежды своего сына.
Ее сын! Ее Рамунчо, которого в этот час летней ночи повозка уносила от нее, уносила вдаль, навстречу опасностям, навстречу войне!
Она некогда взяла на себя тяжкую ответственность, подчинив его жизнь своим представлениям со всем их эгоизмом, гордыней, упрямством… И вот сегодня вечером она, быть может, навлекла на него беду, в то время как он уезжал полный сладостных мечтаний о счастье, ожидающем его по возвращении! Это было бы для нее самой страшной карой; ей казалось, что в воздухе пустого дома реет угроза этого искупления, она чувствовала его медленное и неумолимое приближение. Тогда она стала молиться за сына, но в сердце ее кипела горечь протеста, потому что религия, как она ее понимала, не давала ей ни утешения, ни нежности, ни умиления, ни веры. Тоска и угрызения совести черным отчаянием сжимали ей сердце и не находили выхода в благодатных слезах.
А Рамунчо в это время продолжал спускаться по все более сумрачным долинам к равнинной части края, где ходили поезда, унося людей в неведомую и волнующую даль. Еще примерно час оставалось им ехать по баскской земле, не больше. По дороге им встречались неторопливые телеги, запряженные волами, напоминавшие о безмятежности давних времен; или расплывчатые человеческие силуэты, бросавшие на ходу пожелание доброй ночи, старинное gaou-one, которого завтра он уже не услышит. А там, слева, черной пропастью вырисовывалась Испания, Испания, которая теперь уже долго не будет тревожить его сон…
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1
Три года пролетели незаметно.
Ноябрьский день клонится к закату. Франкита дома одна. Она больна и не встает с постели. Наступила уже третья осень с того дня, как уехал ее сын. Горящими от лихорадки руками держит она его письмо, которое должно было бы принести ей светлую радость, ведь он сообщает в нем о своем возвращении, но оно вызывает в ней мучительные чувства, потому что счастье вновь увидеть сына отравлено печалью и тревогой, невыносимой тревогой…
О, мрачное предчувствие не обмануло ее в тот вечер, когда, проводив его, она в таком смятении вернулась домой после встречи с Долорес, где, не удержавшись, она бросила ей в лицо этот вызов: теперь это была жестокая правда, она навсегда разбила счастье своего сына!
После той сцены прошло несколько месяцев. Рамунчо получал боевое крещение вдали от родины. Казалось, все было спокойно. Но вот в один прекрасный день к Грациозе посватался богатый жених, и та на глазах у всей деревни вопреки настояниям Долорес категорически отказалась выходить за него замуж. И тогда обе они внезапно уехали, якобы навестить родственников в Верхних Пиренеях;[46]46
Верхние Пиренеи – французский департамент, расположенный к востоку от департамента Нижние Пиренеи, где происходит основное действие романа; по отношению к своему западному соседу Верхние Пиренеи представляют собой более гористый и дикий край.
[Закрыть] но путешествие их затянулось; странная таинственность окутывала их отсутствие, и вдруг распространился слух, что Грациоза приняла обет послушания в монастыре Святой Марии Заступницы в Гаскони, который возглавляла бывшая настоятельница эчезарского монастыря.
Долорес вернулась домой одна, молчаливая, с выражением злобы и отчаяния на лице. Никто так никогда и не узнал, чем запугали златокудрую девчушку, как захлопнулись перед ней лучезарные врата жизни, как позволила она заживо похоронить себя в этой могиле; но как только истек положенный срок послушничества, она, даже не повидавшись с братом, приняла постриг, в то время как Рамунчо в густых лесах далекого южного острова зарабатывал в колониальной войне погоны сержанта и военную медаль, не получая из Франции никаких вестей.
Порой Франкиту охватывал страх, что ее сын никогда не вернется домой… И вот он возвращается! Похудевшими, горячими пальцами она держала письмо. «Я выезжаю, – писал он, – и в субботу вечером буду дома».
Но что он сделает, какое примет решение, зная, как печально переменилась его жизнь? В письмах он упорно предпочитал молчать об этом.
Впрочем, последнее время все оборачивалось против нее. Жильцы, снимавшие помещение внизу, покинули Эчезар. Стойло опустело, в доме стало еще более одиноко, а ее и без того скромные доходы значительно сократились. Кроме того, необдуманно вложив деньги, она потеряла часть той суммы, которую чужестранец дал ей для сына. Право же, она была слишком неумелой матерью, разрушающей счастье своего обожаемого Рамунчо, а точнее матерью, которую Провидение карало за ее прошлый грех. Все это ее сломило, все это ускорило и усугубило болезнь, и врач, которого позвали слишком поздно, уже не мог помочь ей.
И вот теперь, ожидая возвращения сына, она бессильно лежала на постели, сжигаемая лихорадкой.
2
Раймон[47]47
В дальнейшем автор часто пользуется этим французским эквивалентом баскского имени Рамунчо.
[Закрыть] возвращался после трех лет отсутствия, демобилизованный из армии в том самом городе на Севере, где полк его стоял гарнизоном. Он возвращался домой, но сердце его было полно отчаяния, смятения и тревоги.
Ему было двадцать два года. Жгучее солнце покрыло темным загаром его лицо, которому длинные усы придавали выражение гордого благородства, а на лацкане только что купленного штатского костюма красовалась ленточка военной медали. После целой ночи пути он прибыл в Бордо, где пересел на поезд до Ируна, который шел прямо на юг через бесконечное однообразие песчаных равнин. Он устроился у окна справа, чтобы как можно раньше увидеть Бискайский залив и вырисовывающиеся вдали возвышенности Испании.
У него забилось сердце, когда, подъезжая к Байонне, он увидел первые баскские береты под сенью пробковых дубов и сосен.
А когда в Сен-Жан-де-Люзе Рамунчо вышел из вагона, он чувствовал себя совершенно пьяным. На севере Франции уже начиналась пора туманов и дождей, а здесь на него пахнуло теплым, полным сладостной неги воздухом оранжереи. Ликующие солнечные лучи лились с неба, дул восхитительный южный ветер, и, переливаясь дивными красками, вздымались в безоблачном небесном просторе Пиренеи. А еще мимо проходили девушки; в их смехе звенело что-то южное, испанское, а в движениях была элегантность и изящная непринужденность обитательниц страны басков, которые после тяжеловесности северных блондинок волновали его больше, чем все обольщения лета… Но внезапно он опомнился: как мог он вновь поддаться очарованию этого края? Ведь для него он опустел навсегда. Ни манящая непринужденность девушек, ни все это насмешливое веселье неба, людей и предметов, ничто не могло избавить его от бесконечного отчаяния.
Нет! поскорее вернуться домой, в свою деревню, обнять свою мать!..
Как он и ожидал, дилижанс, раз в день отправляющийся в Эчезар, уже ушел два часа назад. Но он без труда пройдет этот путь пешком; дорога ему знакома, и к вечеру, еще до наступления темноты он будет дома.
Он купил себе туфли на веревочной подошве – в них ему идти было удобнее и привычнее – и легким, быстрым и упругим шагом горца двинулся по молчаливым дорогам, окруженный роем воспоминаний.
Кончался ноябрь, все еще согреваемый теплыми лучами солнца, которое обычно не спешит покинуть пиренейские склоны. Вот уже много дней простирающееся над страной басков безоблачное небо заливало своим лучезарным светом наполовину облетевшие леса и покрытые огненно-рыжими папоротниками горы. Вдоль дорог поднимались высокие стебли каких-то злаков и зонтики больших майских цветов, кажется, перепугавших весну с осенью; в зарослях вновь расцветшей бирючины и шиповника гудели последние пчелы и порхали еще уцелевшие бабочки, которым природа подарила еще несколько недель жизни.
Там и тут среди деревьев виднелись баскские дома, очень высокие, с широкой крышей, ослепительно белые в своей ветхости, с коричневыми или тускло-зелеными ставнями. А на деревянных балконах сушились золотисто-желтые тыквы и пучки розовой фасоли; на стенах, словно восхитительные нитки кораллов, висели гирлянды красного перца и прочие дары еще плодоносящей земли, старой кормилицы-земли, которые, по вековому обычаю, собирают осенью, в преддверии мрачных и холодных месяцев, когда тепло покидает край басков.
И после туманов северной осени этот прозрачный воздух, этот блеск южного солнца, каждая черточка вновь обретенной родины бесконечно сладостной болью отзывались в сотканной из противоречий душе Рамунчо.
Осень была уже на исходе, и крестьяне срезали папоротники, рыжим руном покрывавшие окрестные холмы. Большие, запряженные волами телеги, полные папоротников, освещенные печальными лучами осеннего солнца, неспешно двигались к одиноким фермам, оставляя в воздухе ароматный след.
Очень медленно, тихо позванивая колокольчиками, ползли по горным дорогам огромные возы. Могучие, неторопливые волы, по обычаю накрытые рыжеватой бараньей шкурой, делающей их похожими на бизонов или зубров, тащили тяжелые телеги, колеса которых, как у античных колесниц, представляли собой сплошной диск. Погонщики с длинными палками в руках, в расстегнутых на груди розовых ситцевых рубахах, наброшенных на плечи куртках, натянутых на глаза шерстяных беретах, с гладко выбритыми худыми и серьезными лицами, которым мощные челюсти и крепкие шеи придавали выражение тяжеловесной силы, шли впереди, бесшумно ступая веревочными подошвами.
А потом дороги на какое-то время пустели, и под сенью деревьев, желтеющих в лучах угасающего лета, не слышно было ничего, кроме монотонного жужжания мух.
Рамунчо смотрел на редких прохожих, встречавшихся ему на дороге, удивляясь, что среди них нет знакомых, что никто не останавливается, чтобы поздороваться с ним. Нет, не было ни знакомых лиц, ни радостных восклицаний старых друзей. Только равнодушные приветствия людей, которым казалось, что они когда-то раньше видели его, но которые тотчас же отворачивались, снова погружаясь в свои незамысловатые дорожные грезы. И Рамунчо острее, чем когда-либо раньше, ощущал пропасть, отделяющую его от этих тружеников земли.
Но вот вдали снова появляется воз папоротников, такой огромный, что цепляет на ходу за ветки дубов. Впереди идет высокий широкоплечий парень с кротким покорным взглядом, рыжий, как осень, как папоротники на его телеге, с густыми рыжими волосами на обнаженной груди. Он идет упругой и небрежной походкой, держась руками за лежащую у него на плечах остроконечную палку. Так, вероятно, с незапамятных времен шагали по тем же самым горам его предки, пахари и погонщики волов.
При виде Рамунчо он движением палки и голосом останавливает быков и, радостно протянув руки, идет ему навстречу. Флорентино! Он здорово переменился, раздался в плечах, в его чертах и жестах появилась какая-то законченность и определенность, короче, он стал настоящим мужчиной.
Друзья обнялись. Они молча смотрят друг на друга, смущенные потоком нахлынувших воспоминаний, которые не могут выразить словами. Раймон молчит, так же как и Флорентино. Он, конечно, лучше владеет языком, чем его друг, но ведь и теснящиеся в его душе мысли и чувства неизмеримо глубже и сложнее.
Это словесное бессилие гнетет их, и невольно они переводят растерянный взгляд на стоящих рядом прекрасных волов.
– Ты знаешь, это ведь мои волы, – говорит Флорентино. – Два года назад я женился… У моей жены тоже есть работа… Мы теперь стали очень неплохо жить… И знаешь, у меня дома есть еще пара таких же волов! – добавляет он с наивной гордостью.
И вдруг замолкает, румянец смущения проступает сквозь его темный загар, потому что он наделен нередко встречающейся у простых людей душевной чуткостью, которая не зависит от образования и которой зачастую лишены самые изысканные светские люди. Он вдруг со страхом подумал, что жестоко было рассказывать о собственном счастье, зная, как безрадостно возвращение Рамунчо, зная, что жизнь его разбита, что навеки погребена среди черных монашенок его невеста, что его мать при смерти.
Они снова замолкают, глядя друг на друга с добрыми улыбками и не находя слов. Впрочем, за эти три года разделявшая их пропасть двух разных мироощущений стала еще глубже. И Флорентино, щелкнув языком, палкой заставляет волов стронуться с места и, крепко сжав руку друга, говорит:
– Мы ведь еще увидимся? Правда?
И звук колокольчиков его телеги вскоре затихает вдали под тенистыми деревьями, где уже начинает спадать дневная жара.
«Ну что ж, у него-то жизнь удалась!» – мрачно думает Рамунчо, продолжая шагать по осеннему лесу…
Дорога, по которой он идет, поднимается все выше; местами ее прорезают горные ручьи, а иногда перегораживают толстые, узловатые корни дубов.
Вот-вот должен показаться Эчезар; деревни еще не видно, но все кругом так близко ему и знакомо, что образ ее все отчетливее возникает перед его мысленным взором.
Он невольно ускоряет шаг, сердце колотится у него в груди.
Боже, как пуст теперь этот край, где больше нет Грациозы, пуст и печален, как некогда дорогое жилище, по которому прошла безжалостная смерть.
И все же в глубине души Рамунчо осмеливается думать, что где-то там, в маленьком монастыре, под черным монашеским чепцом еще блестят дорогие черные глаза и что он когда-нибудь сможет их вновь увидеть; что, в конце концов, уйти в монастырь – не значит умереть и что, быть может, судьба еще не произнесла свой окончательный приговор. Ведь если подумать, разве могла так перемениться душа Грациозы, еще недавно безраздельно отданная ему одному? Ей наверняка угрожали, ее заставили… Но когда они встретятся лицом к лицу, кто знает? Когда они вновь будут говорить, глядя друг другу в глаза? Но, безумец, разве это возможно? Разве в их краю случалось такое, чтобы монахиня отреклась от своего вечного обета и последовала за женихом? Да и как стали бы они жить здесь, когда все отвернутся от них, как от клятвопреступников, и будут избегать их? Может, бежать в Южную Америку? Но как? Как добраться до нее, как увести ее из этого белого обиталища живых мертвецов, где бдительно следят за каждым словом и жестом монахинь? О нет! Все это безумная, неосуществимая мечта… Надежды нет, все кончено, кончено!..
Затем на какое-то мгновение тоска по Грациозе забывается, и он всем своим существом, всем сердцем рвется к матери: ведь у него же еще есть мать, которая здесь, совсем рядом, взволнованная и счастливая, в смятении радостного ожидания.
Но вот слева от дороги среди дубов и буков показалась скромная деревушка со старинной часовней и, на перекрестке двух тропинок под сенью очень старых деревьев, стена для игры в лапту. И мысли Рамунчо снова приняли иной оборот: при виде этой маленькой, закругленной наверху стены, выкрашенной известью и охрой, в нем вскипает молодая радостная сила; с мальчишеским азартом он говорит себе, что завтра уже сможет снова отдаться этой баскской игре, опьяняющему восторгу движения и стремительной ловкости; он думает о больших воскресных соревнованиях после вечерни, о борьбе с лучшими игроками Испании, обо всем, чего ему так недоставало в годы изгнания и что теперь станет его жизнью… Но лишь на мгновенье отдается он радостному порыву, и вновь безысходное отчаяние сжимает ему сердце. Ведь Грациоза не увидит его побед! Зачем же они тогда! Без нее все, даже то, что было ему так дорого, тотчас становится бесцветным, бессмысленным, суетным и ненужным.
Эчезар! Внезапно там, за поворотом дороги, открывается Эчезар! Залитый красными лучами закатного солнца, он появляется, словно фантастическое видение, на темном фоне сгущающихся вечерних теней. Солнце вот-вот скроется за горизонтом. Его последние лучи окружают меднозолотистым сиянием одинокую деревушку с ее старой тяжеловесной колокольней, а огромные волны исходящего от Гизуны мрака катятся сверху вниз, постепенно поглощая коричневые холмы с рыжеватыми пятнами умирающих папоротников.
Боже! Как при виде родного края щемит сердце у солдата, возвращающегося домой, где он больше не увидит своей невесты!
Три года назад ушел он отсюда… Но три года – потом они будут казаться, увы, лишь мимолетным мгновением – в его возрасте кажутся вечностью, огромным куском времени, меняющим всю жизнь. И после этого бесконечного изгнания какой жалкой, маленькой, печальной и бесприютной кажется ему эта зажатая горами деревушка, которую он тем не менее обожает. В душе этого необразованного деревенского парня вновь начинается мучительная борьба двух противоположных чувств, наследие его отца-чужестранца: почти болезненная привязанность к своему жилищу, к краю своего детства, и страха похоронить себя здесь навсегда, зная, что существует иной, такой широкий и бескрайний мир…
После жаркого дня осень напоминает о себе быстро сгущающимися сумерками, внезапно поднимающейся из долин прохладой, запахом опавших листьев и мха. И тотчас же прошлые осени, прошлые ноябри в мельчайших подробностях всплывают у него в памяти: холодные ночи, сменяющие прекрасные солнечные дни, печальные предвечерние туманы, Пиренеи, окутанные перламутрово-серой дымкой или местами вырисовывающиеся четким черным силуэтом на фоне бледно-золотистого неба; вокруг домов в садах доцветают последние цветы, еще не тронутые утренними заморозками, на дорожках под сводами чинар – толстый слой опавших листьев, потрескивающих под ногами путника, возвращающегося под домашний кров к вечерней трапезе… О, как блаженно и беззаботно-радостно было раньше возвращение домой вечером после целого дня ходьбы по горным кручам! Как с первыми морозами весело пылал огонь в высоком камине, украшенном белой ситцевой или вырезанной из розовой бумаги занавеской! Нет, в городе, среди скопления многолюдных жилищ, у человека не бывает ощущения, что он действительно вернулся домой, укрылся от ненастья, как некогда его предки под крышей баскского дома, одиноко стоящего среди черноты ночи, черноты трепещущих деревьев, переменчивой черноты облаков и горных вершин. Но переезды, путешествия, новое мироощущение изменили его отношение к своему баскскому жилищу. Теперь оно, наверное, покажется ему тесным и жалким, и сердце защемит от тоски при мысли, что мать не вечно будет с ним рядом, а Грациоза уже никогда не переступит порог его дома.
Рамунчо прибавляет шагу, торопясь поскорее обнять мать.
Он огибает деревню, не заходя в нее, и по горной тропинке спешит к своему уединенно стоящему дому. С невыразимым волнением смотрит он на оставшиеся внизу площадь и церковь. Тишиной и покоем объят маленький приход Эчезар, сердце страны французских басков и родина всех знаменитых игроков в лапту прошлого, ставших ныне медлительными стариками или уже покоящимися в могилах! Незыблемо стоящая церковь, где погребены все его религиозные мечтания и порывы, словно мечеть, окружена все теми же мрачными кипарисами. Последний косой луч заходящего солнца скользит по площади для игры в лапту, освещает стену со старинной надписью – все как в день его первого большого успеха четыре года назад, когда в веселой толпе мелькало голубое платьице Грациозы, Грациозы, которая теперь стала черной монашенкой. На опустевших каменных ступенях, между которыми растет трава, сидят четверо некогда бывших гордостью деревни стариков, которых по вечерам, когда спускающийся с вершин сумрак стекает по коричневым склонам Пиренеев, неизменно влекут сюда воспоминания. О, люди, живущие здесь, вся жизнь которых протекает здесь; о, маленькие трактиры, где можно посидеть за кружкой сидра, простенькие лавочки и старомодные вещички – привезенные из городов, из большого мира, – которые продают жителям окрестных деревень! Каким все это кажется ему чуждым, далеким, ушедшим в незапамятное прошлое! Неужели Эчезар стал ему чужим, неужели он уже не тот Рамунчо, каким был раньше? Значит, в нем есть что-то особенное, что не позволяет ему, как всем прочим, быть здесь счастливым? Почему лишь ему одному не дано прожить здесь той жизнью, о которой он мечтал, как это дано всем его друзьям?
И вот наконец его дом, прямо перед глазами, точно такой, каким он его себе мысленно представлял. Как он и ожидал, вдоль стены растут цветы, которые всегда разводила мать: гелиотропы, герань, высокие георгины и вьющиеся розы. На севере, откуда он приехал, их уже давно побили ночные заморозки. А вот и дорожка, усыпанная толстым слоем листьев, опадающих осенью с подстриженных сводами чинар. Как знаком ему этот звук ломающихся и шуршащих под ногами листьев!
Когда он входит, в комнате на первом этаже уже царит серый полумрак, почти ночь. Его взгляд невольно обращается к высокому камину со знакомой белой занавеской, * где раньше по вечерам весело пылал огонь. Но сейчас он холоден и пуст, от него веет мраком и смертью.
Рамунчо бегом поднимается по лестнице в комнату матери. Узнав шаги сына, она приподнимается на своем ложе и напряженно замирает. В сумерках ее фигура кажется совсем белой.
– Раймон! – произносит она глухим постаревшим голосом.
Она протягивает руки, привлекает его к себе и сжимает в объятьях.
– Раймон!
А затем, выговорив это родное имя, она, как бывало раньше в минуты большой нежности, доверчиво приникает головой к его щеке… Тогда он замечает, каким болезненным жаром пышет лицо его матери, ощущает через рубашку худобу ее лихорадочно горячих рук. И впервые ему становится страшно; он понимает, что она, вероятно, очень больна, и его внезапно охватывает ужас при мысли, что она может умереть.
– О, вы совсем одна, матушка! Но кто же за вами ухаживает? Кто за вами смотрит?
– Ухаживать за мной? – отвечает она с внезапной резкостью, потому что вопрос Рамунчо пробудил в ней привычную крестьянскую скупость. – Тратить деньги, скажи на милость, зачем это нужно? Привратница из церкви или старуха Дойамбуру заходят днем и дают мне все, что нужно, все, что велел врач. Хотя, знаешь… лекарства! Какой от них прок! Зажги лампу, милый! Я не вижу тебя… а я хочу тебя видеть!
А когда вспыхивает контрабандная испанская спичка и лампа загорается, она, с бесконечной нежностью глядя на сына, произносит таким ласковым голосом, каким обычно говорят с совсем маленьким обожаемым ребенком:
– О! у тебя усы! Какие у тебя длинные усы, мой мальчик! Я совсем не узнаю моего Рамунчо! Придвинь лампу, родной, придвинь ее, чтобы я могла как следует разглядеть тебя!
И пока она с нежностью вглядывается в любимые черты, он тоже всматривается в лицо матери. Теперь при свете лампы он с ужасом видит, как она переменилась: щеки ввалились, волосы стали почти совсем седыми; даже глаза ее изменились и словно погасли. Лицо ее отмечено зловещей и неизгладимой печатью времени, страдания и смерти.
По щекам Франкиты стекают две маленькие быстрые слезинки. Глаза ее расширяются и словно молодеют, загораясь отчаянным протестом и ненавистью.
– О! эта женщина!.. – говорит она вдруг. – О! ты только подумай! Эта Долорес!..
В этом оборвавшемся на полуслове крике звучит вся скопившаяся за тридцать лет зависть и беспощадная ненависть, которую она с детских лет питала к этой женщине, в конце концов сумевшей разбить жизнь ее сына.
Мать и сын молчат. Он, опустив голову, сидит около постели, держа в своих руках исхудавшую горячечную руку матери. Она прерывисто дышит, словно ее гнетет какая-то мысль, которую она не решается высказать:
– Скажи мне, Раймон!.. Я хотела тебя спросить… Что ты теперь собираешься делать? У тебя есть планы на будущее?..
– Не знаю, матушка… Надо подумать, посмотреть… Ты меня так сразу об этом спрашиваешь… У нас ведь еще будет время поговорить об этом, правда?.. Может быть, уеду в Южную Америку?
– Ах! да, – тихо говорит она, и в голосе ее звучит давнишний затаенный ужас… – в Южную Америку… Да, я этого ожидала… что ты так решишь… Я это знала, знала… – почти простонала она и молитвенно сложила руки, словно ища защиты у Всевышнего.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.







































