Текст книги "Исландский рыбак"
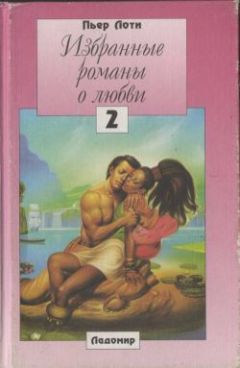
Автор книги: Пьер Лоти
Жанр: Зарубежные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
Он не смог сесть с другими за стол и, никому ничего не объясняя, бросился на койку. Сон пришел мгновенно. Янну приснился мертвый Сильвестр, его похороны…
Около полуночи, пребывая в том особом состоянии, когда моряки во сне осознают время и чувствуют приближение минуты, когда придут их будить для вахты, он вновь увидел похороны друга. «Это мне только снится, – подумал Янн, – скоро меня разбудят – и все исчезнет».
Но когда тяжелая рука легла на него и чей-то голос проговорил: «Гаос! Вставай, смена!» – он почувствовал возле груди легкое шуршание бумаги, еле слышные жуткие звуки, удостоверяющие реальность смерти. Ах да, письмо!.. Значит, это правда. Теперь впечатление было острым и мучительным. Не успев окончательно стряхнуть с себя сон, он быстро встал на ноги, стукнувшись лбом о балку.
Затем оделся и открыл люк, чтобы идти наверх ловить рыбу.
Поднявшись на палубу, Янн оглядел еще полусонными глазами огромное и такое знакомое пространство моря.
В эту ночь оно предстало взору на удивление простым, бесцветным, создающим лишь впечатление глубины.
Горизонт, на котором не виднелось ни малейшего кусочка суши, столь часто выглядел одинаково, что смотревшему вдаль казалось, он не видит ничего – кроме некой вечности, которая есть и никоим образом не может перестать быть.
Даже ночь была какой-то несовершенной. Все вокруг слабо освещалось остатками света, ниоткуда не идущего. Слышался привычный шум, похожий на бессмысленную жалобу. Все было каким-то серым, мутно-серым, ускользающим от взгляда. Море во время своего таинственного отдыха и сна, прячась, обрело едва заметную, не поддающуюся определению окраску.
В вышине плавали рассеянные тучи; они вынужденно приняли некие формы, поскольку не могут не принимать никаких; в темноте они почти сливались, превращаясь в сплошную завесу.
Но в одном месте неба, очень низко, у самой воды, образовался некий мраморный узор, вполне различимый, хоть и очень далекий. Рисунок был неопределенным, словно набросанным вялой рукой, не предназначенным для того, чтобы его разглядывали, к тому же мимолетным, готовым исчезнуть. Из всего, что было вокруг, только это случайное сочетание линий казалось чем-то значительным; создавалось впечатление, что неуловимая грустная мысль о небытии записана там – и взор невольно приковывался к этому месту.
Янн, по мере того как глаза привыкали к темноте, все больше вглядывался в этот единственный на небе рисунок, в котором увидел падающего с простертыми руками человека. Потом стало казаться, что это в самом деле тень человека, явившаяся издалека и потому увеличенная до гигантских размеров.
В его воображении, где кружились, путаясь, невыразимые грезы и примитивные поверья, эта печальная тень, падающая на край мрачного неба, стала смешиваться с воспоминаниями об умершем друге.
Он привык к этим странным соединениям образов, возникающим преимущественно в начале жизни, в головах у детей… Но слова, какими бы неопределенными они ни были, все же слишком четки для выражения подобных вещей, нужен тот смутный язык, который порой присутствует в снах и от которого в момент пробуждения остаются разве что загадочные обрывки, уже не имеющие никакого смысла.
Созерцая это облако, он чувствовал прилив глубокой печали, тревожной, полной чего-то неведомого и таинственного, леденящего душу. Гораздо лучше, чем мгновение назад, он понимал, что бедный его братишка уже никогда не появится вновь. Скорбь, долго пробивавшая крепкую, жесткую оболочку сердца рыбака, теперь хлынула в него и заполнила до краев. Он снова увидел перед собой нежное лицо, добрые детские глаза Сильвестра, захотелось обнять его – и тут вдруг на глаза точно пала пелена. Никогда не плакавший за всю свою взрослую жизнь, он сперва даже не понял, что с ним такое. По щекам катились крупные слезы, рвавшиеся наружу рыдания стали сотрясать грудь.
Он продолжал быстро вытаскивать из воды рыбу, не теряя ни минуты и ничего не говоря, а два других рыбака, знавшие его таким гордым и сдержанным и боясь рассердить, не подавали виду, что слышат в тиши его плач.
Смерть кладет предел всему – так думал он, и, хотя ему часто приходилось из уважения присоединяться к семейному чтению молитв по усопшим, он не верил в бессмертие души.
Между собой моряки говорили об этом коротко и уверенно, как о чем-то, что известно каждому; однако это не мешало им смутно страшиться призраков, кладбищ, безгранично верить в святых и оберегающие образы, испытывать прирожденное чувство почтения к святой земле вокруг церквей.
Янн сам боялся того, что его возьмет к себе море, точно это убивало больше смерти, и мысль о том, что Сильвестр остался там, далеко внизу, делала его скорбь еще более мрачной и безнадежной.
Не обращая внимания на других, он плакал не сдерживаясь и не стыдясь своих слез, как если бы был совсем один.
…Пустота вокруг постепенно белела, хотя еще не было и двух часов ночи. Одновременно казалось, что пустота эта растягивается, растягивается, становится огромной, пугающе беспредельной. Вместе с рождающейся зарей глаза раскрывались все шире, и просыпающийся разум лучше осознавал бесконечность далей. Границы видимого пространства все отодвигались.
Свет был очень бледным, но усиливающимся; казалось, он выбрасывается струйками, легкими толчками; создавалось впечатление, что все вечное делается прозрачным, как если бы кто-то медленно поднимал светильники с белым огнем позади серых бесформенных туч, поднимал незаметно, с таинственными предосторожностями, опасаясь нарушить покой угрюмого моря.
Большая белая лампа над горизонтом – это солнце, которое бессильно ползло, прежде чем совершить над водой свою неспешную, не приносящую тепла прогулку, начинающуюся поздним утром…
В тот день нигде не было видно розовых красок, все оставалось мертвенно-бледным и печальным. А на борту «Марии» плакал мужчина, плакал Большой Янн…
Слезы сурового, дикого брата и печалящаяся больше обычного природа – так скорбели исландские воды о своем безвестном маленьком герое, половину жизни проведшем среди них…
Когда наступил день, Янн внезапно вытер слезы рукавом шерстяного тельника и больше не плакал. Конечно, он, казалось, целиком захвачен работой, монотонным ходом своих обычных обязанностей и ни о чем больше не думает.
Клевало хорошо, руки едва поспевали вытаскивать рыбу.
Вокруг рыбаков гигантские декорации вновь переменились. Великое развертывание бесконечности, грандиозный утренний спектакль закончился, и теперь дали, напротив, сузились, вновь закрылись. Отчего же море только что виделось таким огромным? Горизонт был теперь совсем рядом, и казалось даже, что не хватает простора. Пустота заполнялась легкими, плавающими дымками: одни рассеивались, точно пар, другие имели видимые, будто окаймленные, контуры. Куски невесомой белой кисеи мягко падали в глубокой тишине, спускались одновременно и повсюду, быстро замыкая пространство внизу, и это скопление воздуха производило давящее впечатление.
Поднимался первый августовский туман. В несколько минут все окутал плотный непроницаемый саван. Вокруг «Марии» невозможно было различить ничего, кроме влажной бледности, в которой рассеивался свет и даже исчезал рангоут[44]44
Рангоут – круглые деревянные или металлические пустотелые части вооружения судна (мачты, реи, стеньги).
[Закрыть] корабля. «Вот и пришел этот чертов туман», – говорили рыбаки.
Он всегда появлялся во второй половине путины и, кроме всего прочего, извещал об окончании сезона в Исландии, о том, что пора возвращаться в Бретань.
Туман сверкающими капельками оседал на бородах уставших мужчин; от влаги блестела загоревшая кожа. С противоположных концов корабля они видели друг друга неясно, казались похожими на призраков; наоборот, предметы, расположенные поблизости, вырисовывались при этом тусклом беловатом свете резче обычного. Моряки остерегались дышать открытым ртом: влажный холод пронизывал легкие.
А тем временем ловля шла все быстрей и быстрей. Каждую секунду слышалось, как на палубу со звуком, похожим на свист хлыста, падают крупные рыбины и яростно бьются, ударяя хвостом по доскам. Все вокруг было забрызгано водой и усыпано серебристыми чешуйками. Моряк, вспарывавший рыбинам брюхо, в спешке поранил себе пальцы, и алая кровь смешивалась с рассолом.
Десять дней кряду пребывали они в густом тумане при отсутствии видимости. Лов шел бойко, и занятые работой моряки не скучали. Через определенные промежутки времени один из них дул в рог, из которого вырывался звук, похожий на рев дикого зверя.
Порой из глубины белого тумана ему вторил другой далекий рев – и все шло по-прежнему. Если же рев приближался, все начинали прислушиваться к звуку неведомого соседа, которого никто не видел, но чье присутствие представляло опасность. Строились разные предположения, он приковывал к себе внимание, и моряки старались глазами пронзить неощутимую белую кисею, висевшую повсюду в воздухе.
Потом невидимый сосед удалялся, рев его рожка глох, и люди вновь оказывались одни среди безмолвия, среди беспредельных недвижных паров тумана. Все пропиталось влагой и солью. Холод становился все более пронизывающим, солнце все дольше задерживалось за горизонтом; уже час или два длились настоящие ночи, а предшествующие сумерки были серыми, студеными и пугающими.
Каждое утро моряки промеряли глубину с помощью свинцового лота, опасаясь, что «Мария» слишком близко подойдет к берегам Исландии. Но все имевшиеся на борту лесы, привязанные друг к другу, не касались морского дна – стало быть, корабль находился в открытом море, на глубокой воде.
Жизнь рыбаков была размеренной и суровой; резкий холод только усиливал вечернее блаженство теплого крова, которое испытывали моряки в дубовой каюте, спускаясь туда ужинать и спать.
Днем мужчины, жившие в большем заточении, чем монахи, мало говорили между собой. Каждый часами просиживал с удочками на своем неизменном месте, и только руки были заняты беспрестанной работой. Рыбаков разделяло не более двух-трех метров, но они почти не виделись друг с другом.
Это туманное спокойствие, этот белый мрак усыпляюще действовали на разум. Во время ловли рыбаки напевали какую-нибудь мелодию родных краев – вполголоса, чтобы не распугать рыбу. Мысли были редкими и неспешными, они словно растягивались, удлинялись, чтобы заполнить время, не оставить в нем пустот, промежутков небытия. Рыбаки вовсе не думали о женщинах, но мечтали о вещах несвязных и чудесных, как во сне, и грезы их были сродни туману.
По обыкновению, каждый год августовским туманом, тихо и уныло, заканчивалась путина в Исландии.
Янн быстро вернулся к привычному образу жизни, большая скорбь словно отпустила его; зоркий и подвижный, спорый и ловкий, он ходил по кораблю походкой непринужденной, как человек, у которого нет забот, всегда высоко держал голову и вид имел одновременно безразличный и властный.
По вечерам в грубом жилище, хранимом фаянсовой Богоматерью, когда все сидели за миской горячего ужина, ему случалось, как и прежде, смеяться каким-нибудь шуткам, которые отпускали другие.
Быть может, в глубине его души было отведено местечко для Го, которую Сильвестр прочил ему в жены в своих предсмертных мыслях и которая теперь стала бедной одинокой девушкой. Быть может, скорбь о друге еще жила в его сердце…
Но сердце Янна было областью девственной, малоизведанной, трудноуправляемой, где жило то, что не выходило наружу.
…Однажды утром, часов около трех, когда рыбаки на палубе мирно подремывали под покровом тумана, послышались голоса, странные и незнакомые. На борту переглянулись.
«Кто это говорит?»
Похоже, голоса доносились откуда-то из пустоты. Тогда моряк, на которого была возложена обязанность дудеть в рог и который пренебрегал ею с прошлого дня, бросился наверх и, набрав побольше воздуху, издал долгий тревожный рев.
Один этот рев в тиши уже приводил в дрожь. Словно вызванное звучным голосом рога, неожиданно возникло в серой дымке, совсем близко, нечто большое и грозное – мачты, реи, канаты; в воздухе как-то сразу вырисовался корабль, будто пугающая фантасмагория, создающаяся пучком света на натянутом полотне. Другие моряки, очнувшиеся от сна, удивленные и испуганные, смотрели на моряков с «Марии» широко раскрытыми глазами, перегнувшись через борт. Те бросились к веслам, запасным реям, шлюпочным крюкам – всему, что лежало на рострах[45]45
Ростры – запасные мачты, стеньги и т. п.; рострами называются также решетки, которыми покрывают люки. Тем же термином обозначаются решетчатые площадки, устраиваемые над палубой судна для установки шлюпок.
[Закрыть] длинного и прочного, выставили это вперед, чтобы удержать на расстоянии приближающийся корабль. Испуганные гости тоже протянули вперед огромные шесты.
Раздался легкий треск в реях, над их головами, и рангоуты, едва зацепившись, тотчас же высвободились без какой-либо поломки. Удар был так тих и слаб, что могло показаться, будто другой корабль это нечто мягкое и почти невесомое, не имеющее массы.
Когда оцепенение прошло, моряки узнали друг друга и рассмеялись.
– Оэ! – раздалось с «Марии».
– Э! Гаос, Ломек, Гермёр!
Возникший из тумана корабль назывался «Королева Берта», командовал им Ларвоэр, тоже пемполец; матросы были выходцами из окрестных деревень: тот, чернобородый верзила, в смехе обнажающий зубы, – Кержегу из Плуданиэля, другие из Плунеса и Плунерина.
– Так что ж вы не гудели в рог, стая дикарей? – спросил капитан Ларвоэр.
– А вы что, шайка пиратов, разбойников, отрава морей?
– О, мы… Мы – это другое. Нам нельзя шуметь, – проговорил он с видом заговорщика. На лице его играла странная улыбка. Моряки с «Марии» потом часто вспоминали ее и надолго погружались в раздумья.
– Это вот он – дул в рог, дул да и испортил, – словно продолжая какую-то мысль, шутливо сказал Ларвоэр, показывая на матроса, похожего на тритона:[46]46
Тритон – в греческой мифологии морское божество, сын бога морей Посейдона, получеловек-полурыба.
[Закрыть] бычья шея и широченная грудь на коротких ногах. В этой уродливой мощи было что-то тревожное и угрожающее.
Пока моряки стояли друг против друга, ожидая, когда ветер или течение разведет корабли, завязался разговор. Опершись о левый борт, держась на почтительном расстоянии друг от друга с помощью длинных шестов, будто осажденные с копьями, они говорили о домашних делах, о последних, полученных через охотников письмах, о стариках родителях и женщинах.
– Моя пишет, что родила мальчика, как мы и ждали, – сказал Кержегу, – теперь их у нас дюжина.
У другого родилась двойня, третий сообщал о свадьбе известной красотки Жанни Карофф с неким пожилым толстосумом-инвалидом из коммуны Плуриво.
Они видели друг друга как сквозь белую марлю, и казалось, от этого меняются даже их голоса, становятся приглушенными и далекими.
Между тем Янн не мог отвести глаз от одного из рыбаков, маленького, уже пожилого человечка, которого, в этом он был уверен, он никогда раньше не видел; тот, однако, тотчас же поприветствовал его словами: «Здравствуй, мой Большой Янн!», будто близкого знакомого. У незнакомца было раздражающее своей некрасивостью, какое-то обезьянье лицо и искрящиеся лукавством пронзительные глаза.
– Мне, – снова заговорил капитан Ларвоэр, – сообщили о гибели внука старой Ивонны Моан, из Плубазланека. Он, вы знаете, служил на флоте, в Китае. Вот жаль парня-то!
Услыхав это, моряки с «Марии» повернулись к Янну, чтобы проверить, знает ли он о несчастье.
– Да, – тихо проговорил Янн с видом безразличным и высокомерным, – отец написал мне об этом в последнем письме.
Им было любопытно, как он переживает смерть друга, они смотрели на него, и его это раздражало.
Моряки наспех обменивались фразами, посылая их сквозь бледный туман, пока бежали минуты их странного свидания.
– Еще жена пишет, – продолжал Ларвоэр, – что дочка месье Мевеля перебралась жить в Плубазланек, чтобы ухаживать за старой Моан, своей двоюродной бабкой. Она пошла работать поденно у людей, чтобы зарабатывать на жизнь. Я всегда считал, что она славная девушка, и мужественная, несмотря на свои финтифлюшки и вид этакой барышни.
И вновь все посмотрели на Янна; это ему уже совсем не понравилось, и его покрытые золотистым загаром щеки зарделись.
На том и закончилась встреча с «Королевой Бертой», моряков с которой больше никто никогда не видел. Спустя мгновение корабль уже чуть отдалился, лица стали стираться, и вдруг оказалось, что рыбакам с «Марии» уже нечего отталкивать: все их весла, шесты, реи немного подвигались в пустоте, ища, во что бы упереться, и одним концом плюхнулись в воду, точно огромные мертвые руки. «Королева Берта», снова погрузившись в густой туман, исчезла внезапно и вся сразу, как исчезает рисунок на витраже, когда погасишь лампу. На «Марии» попытались окликнуть «Берту», но ответом были лишь разноголосые насмешливые вопли, перешедшие в какой-то стон, заставивший моряков с «Марии» удивленно переглянуться…
«Королева Берта» так и не вернулась домой, а поскольку в одном из фьордов был найден обломок – венец кормы с куском киля, – ни у кого не вызывавший сомнений, то корабль перестали ждать. В октябре месяце имена всех моряков написали на траурных досках в церкви.
Надобно заметить, что с момента последнего появления «Королевы Берты», моряки с «Марии» хорошо помнили эту дату, до времени возвращения кораблей домой в исландских водах ни разу не случилось ненастья, опасного для судов, меж тем как тремя неделями раньше, напротив, буря, налетевшая с запада, погубила два корабля и множество моряков. Сравнивались все эти обстоятельства, вспоминалась улыбка Ларвоэра, строились разные догадки. Янну ночами несколько раз привиделся моряк с обезьяньим лицом, и кое-кто на «Марии» задавался вопросом, уж не с покойниками ли они беседовали в то утро.
Лето шло на убыль, и в конце августа с первыми утренними туманами исландские рыбаки вернулись домой.
Уже три месяца два одиноких человека жили вместе в Плубазланеке, в крытой соломой хижине Моанов. Го заняла место дочери в этом убогом гнезде погибших моряков. Она отправила туда все, что осталось у нее после продажи отцовского дома: красивую кровать, сделанную по городской моде, да красивые разноцветные юбки. Она сама сшила себе скромное черное платье и носила, как и старая Ивонна, траурный чепец из плотного муслина, украшенный одними лишь складками.
Целыми днями девушка шила в городе у богатых людей и домой возвращалась поздним вечером. Ни один воздыхатель не ждал ее на дороге; она оставалась немного гордячкой, к ней все еще относились как к барышне; здороваясь с Го, парни, как и прежде, прикладывали руку к шапке.
В красивые летние сумерки она возвращалась из Пемполя дорогой, что идет между скал, вдыхая свежий морской воздух, снимающий усталость. Работа швеи еще не успела согнуть ее, как других, вечно склоненных над шитьем, и, глядя вдаль, она распрямляла свой гибкий красивый стан. Где-то там, в открытом море, был ее Янн…
Эта же дорога вела к его дому. Пройдя еще немного по более каменистой, продуваемой ветром местности, можно очутиться в деревушке Порс-Эвен, где маленькие деревья, покрытые серым мхом, растут меж камней, сгибаясь в направлении порывистых западных ветров. Конечно, она никогда туда не свернет, в этот Порс-Эвен, хотя до него меньше лье.[47]47
Лье – старинная французская мера длины; различались «километрическое» лье (равное 4 км), сухопутное лье (равное 4,44 км) и морское лье (равное 5,55 км).
[Закрыть] Однажды она уже была там. Янн должен часто ходить этой дорогой, и с порога своего дома она сможет наблюдать, как он уходит и возвращается по голой песчаной равнине между низким утесником. И потому она любила Плубазланек, была почти счастлива, что судьба забросила ее сюда; ни к какому иному уголку Бретани она не смогла бы привыкнуть.
В конце августа природу словно одолевала истома, добравшаяся сюда с юга. Вечера становились светлыми, отблески большого солнца, светившего, по обыкновению, где-то в других краях, достигали и бретонских берегов. Воздух часто бывал прозрачен и спокоен, в небе – ни единого облачка.
В вечерний час, когда Го возвращалась домой, все вокруг уже сливалось, образовывая силуэты. Тут и там пучки утесника на холмиках меж камней топорщились, словно взъерошенные хохолки. Купы кривых деревьев в ложбине выглядели мрачной грудой, где-то вдалеке домики с соломенными крышами вырисовывались над песчаной равниной, словно маленькие зубчики. Высившиеся на перекрестках старые распятия походили на настоящих мучеников, простерших на крестах свои черные руки, а вдалеке ясно виднелся светлый Ла-Манш – огромное желтое зеркало на фоне неба, уже угрюмого на горизонте. В этих краях даже спокойствие, даже хорошая погода были отмечены грустью; несмотря ни на что, в воздухе веяло тревогой, она исходила от моря, которому было доверено столько жизней и чья вечная угроза всего лишь на время заснула.
Го, предающейся в дороге размышлениям, никогда не казался долгим путь домой. Она полной грудью вдыхала вольный воздух – соленый запах берегов, мягкий аромат цветов, растущих на скалах среди скудных колючек. Если б не бабушка Ивонна, ждавшая ее дома, она бы охотно задержалась на этих поросших утесником тропинках, как та прелестная барышня, что любит помечтать, прогуливаясь летним вечером в парке.
По дороге в ее памяти всплывали картины раннего детства, но как потускнели они теперь, отодвинулись куда-то, уменьшились в сравнении с ее любовью! Невзирая ни на что, ей хотелось считать Янна – ускользающего, пренебрежительного, дикого, который никогда не будет принадлежать ей, но которому она в мыслях упрямо будет хранить верность – своим женихом. Сейчас ей отрадно было знать, что он в Исландии: там, по крайней мере, море надежно стережет его, и он не может отдать себя никакой другой женщине…
Правда, на днях он вернется, но она ждала этого возвращения с большим спокойствием, чем когда-либо прежде. Чутье ей подсказывало, что бедность не станет причиной его пренебрежения к ней, ведь Янн парень не такой, как другие. И еще смерть Сильвестра, несомненно, сблизит их. По возвращении он не сможет не прийти к ним проведать бабушку друга. Девушка решила, что тогда непременно будет дома и это никто не сможет расценить как двусмысленность. Всем своим видом давая понять, что не помнит старого, она поговорит с ним, как со старым знакомым, братом Сильвестра, поговорит просто и ласково. И кто знает, быть может, теперь, когда она так одинока, ей удастся стать для него сестрой, положиться на его дружбу, найти у него поддержку, все хорошо объяснить, чтобы он больше не думал, что она имеет тайное намерение женить его на себе. Она считала его человеком диковатым, упрямо оберегающим свою независимость, но вместе с тем мягким, искренним и способным понять добрые порывы, идущие от сердца.
Какие чувства он испытает, когда увидит ее здесь, в этой жалкой, почти развалившейся лачуге?.. О да, они очень бедны, ведь бабушка Моан уже не имеет сил работать и живет лишь на свою вдовью пенсию; правда, теперь ей нужно немного, и им обеим как-то удается сводить концы с концами, ничего ни у кого не прося…
Домой она всегда приходила поздно вечером. Прежде чем попасть в хижину, приходилось немного спуститься по старым, выветрившимся скалам: дом стоял ниже дороги, на склоне, идущем к песчаному берегу. Дома почти не было видно под массивной крышей из темной соломы; крыша совсем покосилась и была похожа на спину огромного мертвого зверя, покрытого жесткой шерстью. На темных стенах из необработанного камня кое-где виднелись небольшие зеленые пучки моха и ложечной травы. Поднявшись по трем перекосившимся ступенькам крыльца, Го отодвигала внутреннюю задвижку с помощью корабельной веревки, продетой в дыру. Первым, что она видела, войдя в дом, было окошко, словно пробитое в толще стены; окошко смотрело на море, через него в жилище лились последние лучи бледно-желтого света. В большом камине пылали пахучие сосновые и буковые ветки, старая Ивонна собирала их, прогуливаясь вдоль дорог. Бабушка сидела у очага, готовя скромный ужин. Дома она носила головную повязку, чепцы берегла. На огненно-красном фоне вырисовывался ее все еще красивый профиль. Она поднимала на Го свои некогда карие, а теперь выцветшие, с легкой голубизной глаза – мутные, неясные, старчески растерянные. Всякий раз она встречала Го одними и теми же словами:
– Ах, Господи, детка моя, как ты поздно сегодня…
– Нет, бабушка, – мягко отвечала Го, – сегодня я не позже, чем в другие дни.
– Ах… Мне кажется, детка, мне кажется, что сегодня ты вернулась позже, чем обычно.
Они ужинали за столом, старым, массивным, словно ствол дуба. И сверчок непременно заводил свою нехитрую, точно серебро звенящую песенку.
Часть дома была отгорожена грубыми, уже источенными червями, деревянными панелями. Открываясь, они давали доступ к расположенным ярусами кроватям, на которых были зачаты многие поколения рыбаков; здесь же спали и умирали, состарившись, их матери.
На черных балках крыши висела старая утварь, пучки трав, деревянные ложки, копченое сало, еще висели старые сети, спящие там со времен, когда погибли последние из сыновей Моан; по ночам сети грызли крысы.
Кровать Го, стоящая в углу и задернутая белым муслиновым пологом, производила впечатление новой элегантной вещи, принесенной в лачугу кельтов.
На гранитной стене висела фотография матроса Сильвестра в рамке. Старушка прикрепила к ней оставшиеся от внука медаль и пару якорей на красном сукне, которые моряки носят на правом рукаве. Го купила в Пемполе погребальный венок из черных и белых жемчужин, в середину которого в Бретани помещают портреты усопших. Это был маленький мавзолей, где хранилось все, что осталось от юноши на бретонской земле…
Летними вечерами они не засиживались долго, берегли лампу; в хорошую погоду устраивались перед домом на каменной скамье и смотрели на идущих чуть выше, по дороге, прохожих.
Потом старая Ивонна укладывалась на свою кровать-полку, а Го – в свою девичью кровать; она быстро засыпала после целого дня работы и долгой ходьбы; мысли ее были о возвращении исландцев, но думала она об этом как девушка благоразумная и решительная, не изматывающая себя чрезмерным волнением…
Но однажды, когда по Пемполю пронесся слух о прибытии «Марии», ее охватила лихорадка. От прежнего спокойствия не осталось и следа. Спешно закончив работу, она, сама не зная для чего, пустилась в путь раньше обычного и на дороге еще издали увидела Янна, идущего навстречу.
Ноги ее дрожали и подкашивались. Он был уже совсем близко, шагах в двадцати, – стройный, вьющиеся волосы прикрыты рыбацкой шапкой. Она так остро почувствовала себя застигнутой врасплох, что испугалась, как бы ее не закачало. Если б он заметил это, она умерла бы со стыда… У нее и волосы плохо прибраны, и вид уставший оттого, что она слишком торопилась закончить работу. Много бы она сейчас дала, чтобы скрыться в утеснике, исчезнуть в какой-нибудь звериной норе. Похоже, и он сделал шаг к отступлению, попытку пойти по другой дороге. Но было слишком поздно – они встретились в узком месте.
Чтобы не задеть ее, он резко подался в сторону, к самому откосу, точно пугливая лошадь, украдкой бросая на нее дикий взгляд.
Она тоже в одно мгновение вскинула на него полные тоски и мольбы глаза. В этом невольном скрещении их взглядов, коротком, как выстрел, ее серые, точно лен, зрачки расширились, озарились ярким пламенем мысли, вспыхнули голубоватым светом, а лицо залилось розовой краской до самых корней светлых, заплетенных в косы волос.
– Здравствуйте, мадемуазель Го, – проговорил он, дотронувшись рукой до шапки.
– Здравствуйте, месье Янн, – ответила она.
Вот и все, он прошел мимо. Она продолжала путь, все еще дрожа, но чувствуя, как понемногу кровь в ней успокаивается, силы возвращаются…
Дома она нашла старую Моан сидящей в углу; старушка плакала, обхватив голову руками, по-детски пища свое «и-и-и»; пучок волос, выбившихся из-под головной повязки, походил на тощий клубок серой пеньки.
– Ах, моя добрая Го, я собирала хворост и уже возвращалась домой, когда возле Плуэрзеля встретила Гаоса-сына. Конечно, мы говорили о моем бедном внуке. Они сегодня утром вернулись из плавания, и с полудня он ждал меня, чтобы проведать, да так и не дождался. Бедный парень, у него тоже в глазах стояли слезы… Он проводил меня до порога, помог донести вязанку…
Го слушала, и сердце ее сжималось: значит, визит Янна, на который она так рассчитывала, уже состоялся и больше он, разумеется, не придет, все кончено…
В эту минуту жилище показалось ей совсем унылым, нужда – нестерпимой, а мир – пустым, она поникла головой и почувствовала желание умереть.
Постепенно пришла зима, легла на землю, точно брошенный кем-то саван. Серые дни сменялись такими же серыми днями, Янн больше не появлялся, и обе женщины жили тоскливо и одиноко.
С наступлением холодов жизнь их сделалась тяжелей и дороже.
Ко всему прочему за старой Ивонной стало трудно ухаживать: бедная ее голова теряла разум; старушка сердилась, говорила колкости, даже бранилась; раз или два в неделю на нее, как на ребенка, ни с того ни с сего «находило».
Бедняжка!.. Она бывала такой кроткой в свои светлые дни, Го не уставала чтить и холить ее. Всю жизнь быть доброй и в конце ее сделаться злой! Выставить напоказ весь запас злобы, спавшей всю жизнь, весь арсенал грубых слов, прежде упрятываемых подальше, – какое осмеяние души и какая горькая загадка!
Еще она начала петь, и песни эти слышать было горше, чем злобные выпады; пелось то, что первым приходило ей в голову: то молитвы, услышанные во время церковной службы, а то и непристойные куплеты портовых кабаков. Случалось, она распевала «Девиц из Пемполя» или же, раскачивая головой и стуча ногой в такт, заводила:
И всякий раз пение внезапно прерывалось, ее невидящие и ничего не выражающие глаза широко раскрывались, словно затухающее пламя, которое вдруг вспыхивает, чтобы окончательно погаснуть. Старушка подолгу сидела обессилевшая, с опущенной головой и отвисшей челюстью, точно мертвая.
Она перестала быть чистоплотной – и это явилось новым неожиданным испытанием для Го.
Однажды она не смогла вспомнить своего внука.
– Сильвестр? Сильвестр?.. – твердила она, явно припоминая, кто бы это мог быть. – Ах, моя дорогая, понимаешь, когда я была молода, у меня столько их было – мальчики, девочки, девочки, мальчики, всех не упомнить!.. – И она беззаботно, почти непристойно, взмахивала своими морщинистыми руками…
А на следующий день она прекрасно помнила его, без умолку рассказывала о том, что он когда-то сделал или сказал, и целый день плакала.
О, эти зимние вечера, когда не хватает хвороста, чтобы разжечь огонь! Работа в холодном доме, кропотливая работа швеи ради куска хлеба и невозможность лечь спать, не закончив шитье, которое она каждый вечер приносила из Пемполя.
Старая Ивонна мирно сидела у камина, приблизив ноги к догорающим углям, а руки сложив под фартуком. Но с наступлением вечера у нее всегда возникала потребность побеседовать с Го.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.







































