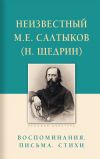Текст книги "Салтыков (Щедрин)"

Автор книги: С. Дмитренко
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Часть вторая. Вятская служба (1848–1855)
От Санкт-Петербурга до Вятки – полторы тыщи вёрст. До родного Спас-Угла, до Москвы от Вятки – тысяча. Впервые Салтыков ехал так далеко. Впервые в жизни он, несмотря на сопровождавшего его жандармского офицера, становился самостоятельным – самостоятельным в том смысле, в каком человек оказывается ответственным за свои решения, за свои поступки. Контроль твоих начальников – внешний, родители далеко, энергичные приятели с их искусительными, но завиральными идеями остались в столице. Теперь только ты – и твоя судьба. Ты – и твоя вещественно неощутимая, но постоянно о себе напоминающая совесть…
Без малого сорок лет спустя свою книгу «Мелочи жизни», оказавшуюся последней прижизненной, Салтыков завершил очерком «Имярек», который приближённый к нему современник назвал «личной исповедью знаменитого автора». Сквозь толщу времени смотрит Салтыков на прожитое и, стараясь удержаться от личного лиризма, пишет о себе как о персонаже, в третьем лице:
«По обстоятельствам, он вынужден был оставить среду, которая воспитала его радужные сновидения, товарищей, которые вместе с ним предавались этим сновидениям, и переселиться в глубь провинции. Там, прежде всего, его встретило совершенное отсутствие сновидений, а затем в его жизнь шумно вторглась целая масса мелочей, с которыми волей-неволей приходилось считаться. Юношеский угар соскользнул быстро. Понятие о зле сузилось до понятия о лихоимстве, понятие о лжи – до понятия о подлоге, понятие о нравственном безобразии – до понятия о беспробудном пьянстве, в котором погрязало местное чиновничество. Вместо служения идеалам добра, истины, любви и проч., предстал идеал служения долгу, букве закона, принятым обязательствам и т. д. Отделял ли в то время Имярек государство от общества – он не помнит; но помнит, что подкладка, осевшая в нём вследствие недавних сновидений, не совсем ещё была разорвана, что она оставила по себе два существенных пункта: быть честным и поступать так, чтобы из этого выходила наибольшая сумма общего блага. А чтобы облегчить достижение этих задач на арене обязательной бюрократической деятельности, – явилась на помощь и целая своеобразная теория. Сущность этой теории заключалась в том, чтобы практиковать либерализм в самом капище антилиберализма…»
Неплохая теория – но проверяться она будет повседневностью, мелочами жизни.
Встреча с распростёртыми объятиями
К воспоминаниям о вятском времени Салтыков возвращался на протяжении всей жизни. В январе високосного 1848 года ему исполнилось 22 года – возраст, когда в человеке вскипает энергия такой силы, что волей-неволей он вынужден и много лет спустя спрашивать себя: так ли ею распорядился, не растратил ли её на пустяки. Конечно, Салтыков, которого отправили далеко на восток, хоть и вдоль петербургской, шестидесятой широты, но с тридцатого меридиана аж к пятидесятому, мог найти основания, чтобы пожалеть себя и сострадать самому себе – да только много ли в том было бы толку?
Неизвестно, знал он или не знал тогда, что едет в город, примечательный тем, что в нём провёл два с половиной года другой молодой интеллектуал, выпускник Московского университета, кандидат по отделению физико-математических наук, серебряный медалист Александр Герцен – впрочем, теперь уже скрывшийся за границей. В 1834 году в результате полицейской провокации против него и товарищей, рассказывал позднее Герцен в «Былом и думах», он попал под следствие и был «подвергнут исправительным мерам» – отправлен «на бессрочное время в дальние губернии на гражданскую службу и под надзор местного начальства». Герцену вначале выпала Пермь, но затем этот город «возле Уральского хребта» ему обменяли на Вятку – по просьбе угодившего туда такого же страдальца, имевшего родственников как раз в Перми.
В Вятке Герцена определили на службу в канцелярию губернского правления, и для него «канцелярия была без всякого сравнения хуже тюрьмы. Не матерьяльная работа была велика, а удушающий, как в собачьем гроте, воздух этой затхлой среды и страшная, глупая потеря времени». Но Герцен не только жалуется на собственную участь, он приходит к выводу: «Один из самых печальных результатов петровского переворота – это развитие чиновнического сословия. Класс искусственный, необразованный, голодный, не умеющий ничего делать, кроме “служения”, ничего не знающий, кроме канцелярских форм; он составляет какое-то гражданское духовенство, священнодействующее в судах и полициях и сосущее кровь народа тысячами ртов, жадных и нечистых».
Этот эффектный до абсурда парадокс – ведь среди чиновников был и сам Герцен, а любая система государственного управления невозможна без чиновничества – далее получает гротескный поворот: упоминается Гоголь, так или иначе ставший предтечей Щедрина, то есть законного сына чиновника Салтыкова: «Гоголь приподнял одну сторону занавеси и показал нам русское чиновничество во всём безобразии его; но Гоголь невольно примиряет смехом, его огромный комический талант берёт верх над негодованием. Сверх того, в колодках русской ценсуры он едва мог касаться печальной стороны этого грязного подземелья, в котором куются судьбы бедного русского народа…»
В этих немногих строках тем не менее обозначены важнейшие точки изображения чиновников в русской литературе: Герцен безоглядно негодует, а Гоголь примиряет смехом. Нам остаётся только разобраться: как относится к чиновникам Салтыков. И сам Михаил Евграфович, и его неотрывный alter ego – Н. Щедрин. Вот и будем разбираться.
Достоверно о взаимоотношениях Салтыкова и Герцена известно немного, хотя (а может быть, «вследствие того, что») оба были в коммунистическое время внесены в сакрализованный реестр «революционных демократов». Понятно, что они читали друг друга. Можно даже предположить, что Салтыков с его литературной въедливостью в своё время мог добраться до дебютного очерка Герцена «Гофман», напечатанного под псевдонимом «Искандер» в ставшем знаменитым журнале «Телескоп» (1836. № 10; в № 15 появилось «Философическое письмо» Чаадаева, в том же году журнал был закрыт).
Как было замечено выше, гофмановское, немецко-романтическое зримо проглядывает в ранней прозе Салтыкова, а пришло оно туда, понятно, и под влиянием прочитанного. Правда, в целом Салтыков отзывался на герценовские сочинения вяло: если судить по тому, что сохранилось, – это цитата из «Московских ведомостей» в сентябрьском (1863) обозрении «Наша общественная жизнь», где Катков называет Герцена «помешанным фразёром в Лондоне», да упоминание в «Органчике» в хитроумном художественном обрамлении «лондонских агитаторов» (то есть Герцена и Огарёва).
Но важен общий контекст, и, конечно, причины здесь не конспиративного свойства. Например, в прозе Лескова в тех же 1860–1870-х годах герценский слой очень заметен. Однако Николай Семёнович, которому щедро и по-хамски несправедливо досталось от литературных радикалов и в начале, и в конце творческого пути, стремился привести свою литературную репутацию в соответствие с собственными воззрениями, и тень мятежного Искандера в его сочинениях была шлейфом писателя-прогрессиста. А для Салтыкова, как видно, Герцен был и остался смотрящим на Россию vom andern Ufer, с того берега, в то время как он, прирождённый ворчун, долгие годы не покидавший отечества, а впоследствии ездивший за границу лишь на курорты, не подчинил свой, под стать гоголевскому, комический талант «негодованию», хандре или ненависти к обстоятельствам жизни.
Герцен – если исходить из того, что он сам пишет в «Былом и думах», – оказавшись в российской глубинке, своей хандрой разве что не упивался. Да и Россия сама по себе для него – зачарованный мир, вековое царство лесов и снегов, которое не поддаётся какой-либо переделке.
«От Яранска дорога идёт бесконечными сосновыми лесами. Ночи были лунные и очень морозные, небольшие пошевни неслись по узенькой дороге. Таких лесов я после никогда не видал, они идут таким образом, не прерываясь, до Архангельска, изредка по ним забегают олени в Вятскую губернию. Лес большей частию строевой. Сосны чрезвычайной прямизны шли мимо саней, как солдаты, высокие и покрытые снегом, из-под которого торчали их чёрные хвои, как щетина, – и заснёшь и опять проснёшься, а полки сосен всё идут быстрыми шагами, стряхивая иной раз снег. Лошадей меняют в маленьких расчищенных местах: домишко, потерянный за деревьями, лошади привязаны к столбу, бубенчики позванивают, два-три черемисских мальчика в шитых рубашках выбегут заспанные, ямщик-вотяк каким-то сиплым альтом поругается с товарищем, покричит “айда”, запоёт песню в две ноты… и опять сосны, снег – снег, сосны…»
С такой особой поэтичностью Герцен описывает свой переезд из Вятки во Владимир, к новому месту службыссылки. Но ни сам Герцен, ни его исследователи не дают оснований говорить о его трудовом рвении в годы службы как в Вятке, так и во Владимире, а затем в Новгороде (1835–1842). Он участвовал, конечно, в подготовке выставки естественных и искусственных произведений Вятской губернии весной 1837 года, а при открытии первой публичной библиотеки в Вятке даже речь произнёс, но… «Сбитый канцелярией с моих занятий, я вёл беспокойно праздную жизнь», – признаётся Александр Иванович, а потом ещё прибавляет подробности этой жизни. Справедливости ради, среди откровенных рассказов о себе в «Былом и думах» он находит место, чтобы поведать о встреченном в Вятке другом ссыльном – выдающемся архитекторе Александре Витберге (1787–1855), который даёт, по сути, вариант поведения в ссылке, противостоящий герценовскому, «прозябательному».
Если Герцен и Салтыков оказались вдали от столиц по причинам административного и номенклатурно-воспитательного свойства по отношению к поступившим на службу молодым лоботрясам-дворянам, то Витберг попал в Вятку вследствие навета и, значит, его пребывание здесь следует без оговорок признать наказательной ссылкой. Родившийся в семье переехавших в Россию на жительство шведов Александр (Карл-Магнус) Витберг, успешно окончив Академию художеств, стал изучать зодчество, и первый же его самостоятельный проект – 240-метровый храм Христа Спасителя в Москве – победил в 1814 году на международном конкурсе.
Были собраны значительные народные пожертвования, огромные деньги выделила казна, а для храма было определено место на Воробьёвых горах, тогда самом высоком примосковском месте (примерно там, где сейчас находится известная смотровая площадка перед зданиями Московского университета). Однако талантливый художник и архитектор оказался неудачливым прорабом. Ко времени кончины императора Александра Павловича выяснилось, что при строительстве был расхищен миллион рублей (по тем временам огромная сумма; впрочем, в России перед масштабами расхищений всегда ничтожны любые сопоставления). В итоге строительство на Воробьёвых горах остановили (как оказалось, навсегда), а Витберг вместе с другими строителями оказался под следствием, которое надолго затянулось. Большинство полагало, что Витберг не украл ни копейки, но пал жертвой своей неопытности и доверчивости. Однако император Николай Павлович счёл, что он, а до него его брат слишком доверились Витбергу, который этим доверием злоупотребил. За это в 1835 году архитектор был наказан конфискацией имущества, штрафом и ссылкой в Вятку. Сюда за ним поехала и его молодая жена с младенцем-сыном (несчастье не любит одиночества: первая жена Витберга умерла, когда он находился под следствием).
Хотя Витбергу было запрещено поступать на государственную службу, без дела в Вятке он не сидел. Занимался живописью и рисунком, появились вятские ученики, ему принадлежит всем хорошо известный профильный портрет Герцена карандашом, о котором сам объект изображения писал невесте: «Сходство разительное; там всё видно на лице – и моя душа, и мой характер, и моя любовь. Кроме Витберга, кто мог бы это сделать? <…> Я радовался, что черты моего лица выражают столько жизни и восторга».
Как раз в 1835 году в Вятке был открыт городской сад, получивший имя Александровского в честь наследника престола, будущего императора Александра II, но устройство его ансамбля продолжилось, и губернатор поручил Витбергу спроектировать портал и ограду лицевой стороны сада. И этот художник-архитектор настолько успешно вписал строения в парковый и городской ландшафт, что вятский Александровский сад доныне относят к лучшим памятникам классицизма в российской парковой культуре. Наконец именно в Вятке удалось воплотить в камне самый значительный, после храма Христа Спасителя проект Витберга – Александро-Невский собор. Его начали сооружать в 1839 году на Хлебной площади города, переименованной в Александровскую, и освятили уже в 1864 году, когда Салтыков давно покинул Вятку.
Строительство, хоть и медленное, пришло к впечатляющему результату. «Если град Вятка есть мать градов в благословенной стране Вятской, то храм Александро-Невскаго собора, сооружённый по столь высоким и святым побуждениям, должен быть достойным величия и славы триипостасного Божества, проявителем чувств общего усердия и признательности к Богу, Благодетелю нашему не только от частных семейств, но и от всех обществ, приходов и церквей в здешнем краю существующих, за избавление от бед, столь преславно отражённых от всех и каждого державною десницею уполномоченного свыше избранника Божия, Александра Благословенного», – говорилось в отчёте Комитета по сооружению в городе Вятке Александро-Невского собора, опубликованном в «Вятских губернских ведомостях» в июне 1848 года, то есть вскоре после прибытия Салтыкова в Вятку.
Опальный Витберг вложил в этот, созданный на добровольные народные пожертвования храм всё то, что виделось ему самым выразительным и прекрасным не только в древнерусской, но и в мировой архитектуре – романской, готической, ампирной. Он, словно предчувствуя приход в конце века русского стиля, сумел соединить всё это в монументальное целое, и собор стал поистине народным памятником, на долгие годы украшением города, составив вместе со Спасским и Свято-Троицким соборами особую вятскую архитектурную троицу, собиравшую вокруг себя другие вятские церкви. Впрочем, утраченную: все три храма были снесены в 1930-е годы, последним в 1937 году варварски взорвали Александро-Невский собор – с целью добычи кирпича (!). Трудолюбивому шведу, ставшему русским, не повезло при жизни, не повезло и в российской истории. Но он старался в поте лица своего, перешёл в православие из лютеранства и где бы ни оказывался, это пространство любил и преображал.
Так что город, в котором предстояло оказаться титулярному советнику Салтыкову, готовил ему немало занимательного. Отмечая двадцатилетие своего прибытия в Вятку, он опубликовал автобиографический рассказ «Годовщина», начав его с описания своего пути туда, и этот травелог правильнее всего просто прочитать. Дорога пролегала через Шлиссельбург, Вологду, Кострому.
«Я помню, как мы приехали в Шлюссельбург, или, по местному названию, Шлюшин, и как расходившееся Ладожское озеро заглушало не только говор, но даже крик наш. Я помню, как около “Сясских Рядков” сломалась подушка у нашего тарантаса и мы вынуждены были остановиться часа на два, чтоб сделать новую; как станционный писарь смотрел на меня, покуда мы пили чай, и наконец сказал:
– Да, нынче “несчастных” довольно провозят!
Я помню, как мы приехали в недавно выгоревшую тогда Кострому; с каким остолбенением рассказывали нам о бывшем там пожаре; я помню, как мы перевалились наконец за Макарьев (на Унже), как пошли там какие-то дикие люди, которые на вопрос: нет ли что поесть? – отвечали: – сами один раз в неделю печку топим! Помню леса, леса, леса…
Помню, что когда мы въехали в эту непросветную лесную полосу, я как будто от сна очнулся, и в голове моей ясно мелькнула мысль: да! это так! Это иначе и быть не должно! Одной этой мысли достаточно было, чтоб я вышел из моего нравственного оцепенения и понял моё положение во всём его объёме.
Я понял, что всё это не сон. Что я сижу в тарантасе, что передо мной дорога, по которой куда-то меня везут, что под дугой заливается колокольчик, что правая пристяжная скачет и вскидывает комьями грязи… Не таинственным миром чудес глянули на меня леса макарьевские и ветлужские, а какою-то неприветливою пошло-отрезвляющею правдою будничной жизни.
– Что это, ваше высокоблагородие, уж не плакать ли выдумали! – утешал меня добрейший мой спутник, – а посмотрите-ка, птицы-то, птицы-то в лесу сколько! а рыбы-то в реках – даже дна от множества не видать!
Но, несмотря на это, я продолжал плакать. Мне казалось, что здесь, на этом рубеже, я навсегда покинул здание мысли, любви и счастия, к которому так безрасчётливо привязалось моё молодое воображение, и что затем я уже бесповоротно вступаю в область рябчиков, налимов и окуней…»
Описание лесов сходно с герценовским, но всё же тональность здесь иная. Герцен в этих лесах осознаёт себя путешественником-визионером, Салтыков – частью этого пространства, этого мира, невообразимого им прежде. Добрейший спутник, штабс-капитан Рашкевич, становится залогом того, что едет сюда титулярный советник Салтыков надолго. Впрочем, Рашкевич, судя по всему, был служака, и путевые впечатления сопровождаемого не растягивал во времени. В сутки их тарантас делал, как предписывалось, двести вёрст, немало для тогдашних дорог и конной тяги, так что беспросветные леса вдруг кончились – через восемь суток после отъезда из Петербурга, 7 мая 1848 года, они прибыли в Вятку, прямёхонько к дому губернатора Акима Ивановича Середы на Спасской улице, главной улице города.
В позднесоветское время академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв опубликовал большое эссе «Заметки о русском». Одним из главных его тезисов была идея о том, что каждую страну нужно воспринимать как ансамбль культур – такова и Россия. Противостоя неизбывному отечественному инстинкту центростремительности во всём – от государственного управления до мод и меню, – академик напоминает, что есть и другое на российских просторах – желание разнообразия и своеобразия: «Ведь почти каждый старый дом – драгоценность. Одни дома и целые города дороги своей деревянной резьбой, другие – удивительной планировкой, набережными, бульварами (Кострома, Ярославль), третьи – каменными особняками, четвёртые – затейливыми церквами, пятые – “небрежно” наброшенной на холмы сетью улиц…»
Но одна особенность городского русского ансамбля – не измысленная, не возбуждённая управителями государства, а пришедшая из самой жизни – повторяется многократно в разных краях и местностях. Это, пишет Лихачёв, расположение городов «на высоком берегу реки. Город виден издалека и как бы втянут в движение реки: Великий Устюг, волжские города, города по Оке. Есть такие города и на Украине: Киев, Новгород-Северский, Путивль. Это традиции Древней Руси – Руси, от которой пошли Россия, Украина, Белоруссия, а потом и Сибирь с Тобольском и Красноярском… Город на высоком берегу реки в вечном движении. Он “проплывает” мимо реки…»
Из столичного Петербурга, после уютной Москвы, после родного Спас-Угла неведомая Вятка, древний Хлынов виделась каким-то невероятным, удалённым почти на расстояние Луны местом, куда свозят ссыльных, островом, затерянным среди этих дремуче-девственных лесов – от потрясённого Кремля до стен недвижного Китая, от хладных финских скал до пламенной Колхиды и, конечно же, от Перми до Тавриды… («Клеветникам России» Салтыков цитирует в своих сочинениях многократно – и в разных огласовках).
То южная ссылка у Пушкина, то северная, а у Пушкина XIII выпуска – восточная…
«Что это такое? – река или город? и то и другое, но не одно и то же. Река рекой, а город городом, – так начал свой очерк «Вятка» в «Вятских губернских ведомостях» старший советник Вятского губернского правления, статский советник Яков Алфеевский. Напечатан он был 3 сентября 1848 года, то есть вскоре после приезда сюда Салтыкова. – Город Вятка, расположенный по хребтам и падям левого берега реки Вятки, среди своих амфитеатральных окрестностей представляет картину редкую, достойную кисти гениального живописца. Не знаешь, чем более любоваться, окрестностями ли из города или городом из окрестностей? Город стоит как бы в обширном блюде, куда ни поглядишь из него, всюду представляется кайма гор, то покрытых перелесками, пажитями и селениями, то увенчанных белеющими Божиими храмами…»
«Крутогорск расположен очень живописно; когда вы подъезжаете к нему летним вечером, со стороны реки, и глазам вашим издалека откроется брошенный на крутом берегу городской сад, присутственные места и эта прекрасная группа церквей, которая господствует над всею окрестностью, – вы не оторвёте глаз от этой картины…
Но мрак всё более и более завладевает горизонтом; высокие шпили церквей тонут в воздухе и кажутся какими-то фантастическими тенями; огни по берегу выступают ярче и ярче; голос ваш звонче и яснее раздаётся в воздухе. Перед вами река… Но ясна и спокойна её поверхность, ровно её чистое зеркало, отражающее в себе бледно-голубое небо с его миллионами звёзд; тихо и мягко ласкает вас влажный воздух ночи, и ничто, никакой звук не возмущает как бы оцепеневшей окрестности. Паром словно не движется, и только нетерпеливый стук лошадиного копыта о помост да всплеск вынимаемого из воды шеста возвращают вас к сознанию чего-то действительного, не фантастического…»
Это не Чехов, не Бунин. Это строки из введения к «Губернским очеркам», напечатанного в 1856 году. Главный персонаж, рассказчик, въезжает в город. Но кто он – Салтыков, Щедрин, отставной надворный советник Щедрин, как он обозначен на титульном листе? Михаил Евграфович всегда очень внимателен, выбирая, кому дать слово: от этого зависят и характер рассказа, и степень его сближенности с действительностью. И потому рассказчик здесь – вобравший всех перечисленных и даже читателя просто путешественник, преодолевший долгий путь и достигший наконец града, в коем обретёт пристанище.
Но в какое время суток впервые въехал в Вятку сам Салтыков, определить непросто. Была пятница, день присутственный, служака-губернатор мог принимать и до глубокого вечера (такое бывало и в Вятке тоже).
28 октября 1887 года, то есть при жизни Салтыкова, в газете «Псковский городской листок» появились «отрывочные воспоминания» некоего Вятича о пребывании Салтыкова в Вятке. Несмотря на все усилия щедриноведов, псевдоним не удалось достоверно раскрыть, хотя, судя по подробностям, это мог быть только записчик (или обработчик) воспоминаний «домашнего врача» губернатора Середы или сам врач. (Поскольку имена если не всех, то большинства врачей в тогдашней Вятке известны, постольку есть основания для дальнейших предположений – так, при хворавшем Середе, вероятнее всего, был старший врач больницы приказа общественного призрения, штаб-лекарь Николай Евграфович Щепетильников. Между прочим, он известен печатными трудами, в которых обобщал свой медицинский опыт.) С другой стороны, не все – правда, второстепенные – подробности воспоминаний Вятича соответствуют действительности, хотя это могло быть связано с давностью происшедшего или составлением этих воспоминаний из нескольких источников.
Вот как описывает Вятич явление титулярного советника Салтыкова действительному статскому советнику Середе: «В одно осеннее утро 1848 года к дому вятского губернатора подъехала тройка почтовых лошадей; на перекладной телеге сидел какой-то молодой человек. Губернатор Аким Иванович Середа в это время сидел в халате, беседуя со своим домашним врачом. Услыхав стук подъезжающей телеги и звон колокольчиков, он, обратившись к доктору со словами: “Опять привезли какого-нибудь поляка”, поручил ему узнать, кого привезли, а также взять у жандармского офицера сопроводительные бумаги. Доктор вышел в приёмную и увидел молодого человека, среднего роста, с длинными волосами, разминающего свои члены перед зеркалом, произнося при этом: “Вишь, как укатали, черти!”…»
На этой беллетристической реплике следует остановиться. У авторов биографических повестей нередко возникает искушение (порой непреодолимое) оживить повествование прямым диалогом, изображением рефлексирования своих героев, живописными картинами тех или иных событий, бытовых, интимных или исторических. Источником для такой формы рассказа становятся как раз воспоминания, письма, различного рода сочинения современников и так далее. Но это дорога никуда (воспользуемся названием романа Александра Грина – чуть ниже станет понятно, почему допустима такая ассоциация).
Прежде всего, любые воспоминания надо проверять и перепроверять другими воспоминаниями, а лучше документами. Мемуаристы всегда поневоле субъективны. Не менее субъективны и письма: их автор, взявшись за перо, нередко стремится не передать информацию, а напротив – скрыть её или представить в необходимом ему свете (потому даже не говорю о банальном, но неистребимом приёме вкладывать в уста исторических лиц фрагменты их писем, статей и других сочинений). Писания современников, где содержатся сопутствующие ведущемуся биографическому сюжету сведения, также должны быть изучены в реальном контексте их возникновения прежде того, как выхватывать из них что-либо…
И так далее и тому подобное.
Однако вышесказанное вовсе не означает, что автор биографической повести утыкается в стену и должен расщепить о неё своё перо, разбить пишущую машинку или ноутбук. Напротив – у автора биографической повести есть самая увлекательная форма работы с последующей её записью: историко-культурная реконструкция дней и трудов её героя. Так и здесь. Вот Середа в представлении Вятича упоминает о поляках. Переданная в прямой речи эта реплика условна лишь по форме, но по смыслу вполне правдива. Вятская губерния была в числе тех российских местностей, куда ссылали по разным причинам жителей Царства Польского. В частности, два десятилетия спустя здесь оказался будущий отец Александра Грина – участник Польского восстания 1863 года Стефан Гриневский. Кроме того, истории с сосланными в Вятку поляками приводятся Вятичем далее.
Салтыков с жандармом, по Вятичу, приезжает на «перекладной телеге», запряжённой тройкой. Про тройку можно не сомневаться, но про телегу следует уточнить. По нашим современным представлениям, телега – это прежде всего повозка для груза (мешков, дров, сена и т. д.), а не для междугородных маршрутов. Однако, по словарю Даля, составлявшемуся как раз в середине XIX века, слово телега в те времена нередко было синонимом повозки, несло родовое, а не видовое значение. Да и тарантас, появляющийся на первых страницах «Губернских очерков», – слово также родовой принадлежности, как и повозка, экипаж. Это может быть и фаэтон, и дормез (карета, приспособленная для сна в пути), и кабриолет… Так что телега с жандармом, Салтыковым и его слугой не должна нас смущать.
Зачин с «осенним утром» – прямая ошибка мемуариста. Документально известно, что Салтыков приехал 7 мая. По календарю выясняется день недели – пятница, а с помощью газет того времени можно узнать и погоду в необходимый нам день. Тогда уже десять лет в Вятке по субботам выходили «Вятские губернские ведомости», газета здесь единственная, где в каждом номере «Части неофициальной» печатались «Метеорологические наблюдения». В № 20 сообщается, что 7 мая в городе было облачно и ветрено, к вечеру облака растянуло, стало ясно, потеплело от 14 до 17.
Вятский краевед Е. Д. Петряев в своей книге «М. Е. Салтыков-Щедрин в Вятке» пишет, что 7 мая 1848 года в садах Вятки «уже начинала распускаться сирень». Эта лирическая подробность, наверное, могла возникнуть на основании личных наблюдений Петряева за тем, когда и как распускаются эти прекрасные кусты уже в его время. Но ему можно верить – по своей первой профессии Евгений Дмитриевич был военный врач-эпидемиолог, кандидат биологических наук, а выйдя в отставку в звании полковника, перенёс методики точного исследования в краеведение; его работы сопровождают длинные шлейфы ссылок на архивы, губернские издания и т. д. Естественно, мимо его книги пройти нельзя, и к фактам из неё я не раз буду обращаться и впредь – что, разумеется, не означает простого переписывания.
Например, Е. Д. Петряев предполагает, что Вятич – псевдоним Альберта Алоизовича Родзевича (1821–1896), бывшего учителя, ставшего при Салтыкове чиновником особых поручений вятского губернатора. Но если Родзевич был при Салтыкове чиновником, то почему он не оставил собственных воспоминаний? Ясно, что его при появлении Салтыкова у губернатора не было, иначе Середа посылал бы к жандарму Родзевича, а не доктора. Или Родзевич позднее собрал всё ему известное о Салтыкове – лично или по рассказам – и подготовил эти «отрывочные воспоминания»? Вопросы остаются – но на письменном столе биографа. Читателя перегружать такими вопросами ни к чему, ему нужна история и, разумеется, история достоверная. Поэтому биограф договаривается сам с собой: ты въедливо изучаешь написанное другими, а затем, избегая завихрений творческой фантазии, аккуратно выкладываешь читателю то, что у тебя сложилось. Предупреждая его вопросы.
Скажем прямо: портрет Салтыкова у Вятича банален (ещё один довод в пользу того, что эти воспоминания вызваны не непосредственными впечатлениями, а последующей славой писателя). Куда выразительнее дан портрет Середы, которого, по Вятичу, Салтыкову удалось увидеть не сразу, ибо губернатор по приезде к нему не вышел, а отправил вместе с жандармом к полицмейстеру. Тот принял Салтыкова под расписку и занялся его устройством. Между прочим, эти подробности маршрутирования – только подробности! – оспариваются Александром Лясковским, искушённым исследователем вятской жизни Салтыкова, что вновь напоминает нам о необходимости придерживаться изучения психологических мотивов поступков героя и не завораживаться особенностями памяти мемуаристов.
Середа, по Вятичу, был таков: «Высокого роста, угрюмый на вид, с суровым взглядом голубых глаз из-под нависших бровей, он производил впечатление деспота, в особенности на новичка; при этом справедливость требует сказать, что под этою суровою оболочкою хранилось золотое сердце, отзывчивое на всякое доброе дело, спешащее облегчить горе и страдание всякого. Сколько сосланных в то время поляков получили через его содействие прощение! Справедливость, неустанное трудолюбие и бескорыстие делали его образцом губернаторов, в особенности в тогдашнее время».
Этот портрет, во всяком случае, в его психологической части подтверждается в дальнейшем и самим Салтыковым в его письмах. Правда, Середа первоначально определил его в штат губернского правления по канцелярии присутствия канцелярским чиновником без жалованья (по существу, писарем, что особенно трогательно: почерк у Салтыкова был совсем не каллиграфический, мелкий, с вольными вывертами), причём только с 3 июля. Причины этой задержки были связаны с отсутствием более или менее привлекательных вакансий, а может быть, и с какой-то болезнью Салтыкова. Но так или иначе от вынужденного путешествия он отдохнул, причём в самое благодарное время года, а одновременно смог поискать себе подходящее жильё.