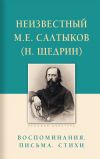Текст книги "Салтыков (Щедрин)"

Автор книги: С. Дмитренко
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Здесь, нельзя не отметить, возможно, таится литературно-конспиративный сюжет. Дело в том, что приведённые выше строки, вошедшие в итоге в «Былое и думы», впервые были напечатаны в книге «Тюрьма и ссылка. Из записок Искандера» (Лондон, 1854). Можно предположить, что это издание могло попасть в руки Салтыкову сразу после его возвращения из ссылки и вызвать свои воспоминания об историях с мёртвым телом. Так или иначе, вскоре после появления «Губернских очерков», которые читала вся Россия, вышли одноимённые рассказы Владимира Даля (1857) и Василия Слепцова (1866), стихотворения Ивана Никитина (1858) и Николая Некрасова (1861), «Следствие» (1867) Николая Успенского. Но Салтыков, сделав акцент на связи лихоимства с важнейшим в человеческой жизни событием: смертью, причём в этих обстоятельствах соединённой с государственно-общественными отношениями, переводит то, что его рассказчик воспринимает как забавный анекдот, в метафизическую сферу. И главное – задаёт особую тональность в восприятии последующих страниц «Губернских очерков»…
Впрочем, мы зашли в биографии Михаила Евграфовича на восемь лет вперёд. Зашли ради того, чтобы отметить его замечательное качество – умение извлекать из одного и того же факта, события, дела сразу несколько смыслов – от злободневного до экзистенциального. И не просто извлекать, но находить им должное место в своих творениях, причём относясь к их первоисточникам с абсолютной творческой свободой.
Но вернёмся в осеннюю Вятку 1848 года, в кабинет старшего чиновника особых поручений Салтыкова.
Вятское время в биографии Михаила Евграфовича – не просто в жизни, но и в творческой биографии – невозможно переоценить. Прежде всего, в эти годы произошло преображение романтика-лирика в романтика-философа. До Вятки вечный идеал Салтыкова парил над Петербургом, над его уже двоящимся внутри себя миром: «В самом деле, и туман, который, как удушливое бремя, давит город своею свинцовою тяжестью, и меленькая, острая жидкость, – не то дождь, не то снег, – докучливо и резко дребезжащая в запертые окна кареты, и ветер, который жалобно стонет и завывает, тщетно силясь вторгнуться в щегольской экипаж, чтоб оскорбить нескромным дуновением своим полные и самодовольно лоснящиеся щёки сидящего в нём сытого господина, и гусиные лапки зажжённого газа, там и сям прорывающиеся сквозь густой слой дождя и тумана, и звонкое, но тем не менее, как смутное эхо, долетающее “пади” зоркого, как кошка, форейтора – всё это, вместе взятое, даёт городу какую-то поэтически улетучивающуюся физиономию, какой-то обманчивый колорит, делая все окружающие предметы подобными тем странным, безразличным существам, которые так часто забавляли нас в дни нашей юности в заманчивых картинах волшебного фонаря…»
Уже в Вятке, за которой последовали Рязань, Тверь, Пенза, Тула, под видимым Салтыкову небесным Градом Божьим простирались грады и вести тысячелетней России, черты «поэтически улетучивающейся физиономии» которой имели совершенно иной, в отличие от Петербурга колорит, – и подавно совершенно иной жизнь этих городов и весей оказывалась в действительности.
Вслед за дознаниями по самым разнообразным делам, залежавшимся в его ведомстве, Салтыков был посажен Середой за составление годового отчёта по управлению губернией. Этот ежегодный документ имел особое значение, ибо один из его экземпляров предназначался лично императору, который, заметьте, внимательно его прочитывал. При этом за долгое время существования такой отчётности, естественно, уже существовали её проверенные формы и сама логика, предопределённая обязательным выводом об общем благополучии жизни в губернии.
Но Салтыков презрел проверенную бюрократическую поэтику. Его отчёт, свободный от шаблонов, выглядит как своего рода аналитический репортаж с особым вниманием именно к проблемам губернии, требующим правительственного вмешательства. Отказ от принятых фраз-формул позволил ему в деловом стиле, как впоследствии в «Губернских очерках» в стиле художественном, обозначить не просто факты, а существующие за ними юридические, экономические, государственные огрехи. И если в первый год в итоговом варианте отчёта у Салтыкова были соавторы – другие чиновники и сам Середа, – то в последующие три года составление годовых отчётов, также поручавшееся ему, приобретало всё больше салтыковских черт. Наконец отчёт 1850 года становится уже, с небольшими оговорками, авторским документом самого Салтыкова, дополнением к его творческим сочинениям, которым невозможно пренебречь как свидетельством становления стиля писателя.
Так, в разделе «Состояние крестьян всех ведомств» он счёл необходимым сообщить следующее: «С каждым годом заметны весьма резкие и значительные улучшения как в нравственном, так и в материальном быте государственных крестьян. Главнейшие пороки государственных крестьян в Вятской губернии, свойственные, впрочем, вообще всем местным жителям, заключаются в страсти к пьянству и ябедничеству. К искоренению первого из сих пороков, как подрывающего материальное благосостояние крестьян, направлены постоянные заботливые действия местного управления государственными имуществами, состоящие во внушении крестьянам пагубных последствий сего порока и в употреблении самых строгих мер наказания в отношении к лицам, предающимся пьянству. Сверх того, лица, замеченные в расточительности и развратном поведении, по распоряжению начальства, отдаются под присмотр общества, а имения их берутся в опеку. Весьма важное влияние может иметь на нравственность крестьян предоставленное обществу по закону право отдавать в рекруты крестьян, замеченных в дурном поведении, и ссылать в Сибирь на поселение тех из них, которые опорочены по суду».
Если учесть, что годовые отчёты писались на основании многих десятков документов – прежде всего докладов по отделам губернского правления, где состоянию крестьян неизменно уделялось особое внимание, – то станет очевидным: помимо собственных впечатлений, Салтыков использовал огромный аналитический материал из всех сфер вятской жизни. Поэтому в «Губернских очерках», да и не в них одних, не раз встречаются отзвуки тем и фактов служебных бумаг, к которым имел касательство автор – естественно, художественно обработанных.
Например, в связи с крестьянской «страстью к ябедам» вспоминаются остро сатирические «Озорники», главный персонаж которых заявляет: «Вы мне скажете, что грамотность никто и не думает принимать за окончательную цель просвещения, что она только средство; но я осмеливаюсь думать, что это средство никуда не годное, потому что ведёт только к тому, чтобы породить целые легионы ябедников и мироедов». Столь же хитроумно введена в книгу и тема пьянства, начиная со знаменитого пассажа: «Сон и водка – вот истинные друзья человечества. Но водка необходима такая, чтобы сразу забирала, покоряла себе всего человека; что называется вор-водка, такая, чтобы сначала все вообще твои суставчики словно перешибло, а потом изныл бы каждый из них в особенности. Странная, однако ж, вещь! Слыл я, кажется, когда-то порядочным человеком, водки в рот не брал, не наедался до изнеможения сил, после обеда не спал, одевался прилично, был бодр и свеж, трудился, надеялся, и все чего-то ждал, к чему-то стремился… И вот в какие-нибудь пять лет какая перемена! Лицо отекло и одрябло; в глазах светится собачья старость; движения вялы; словесности, как говорит приятель мой, Яков Астафьич, совсем нет… скверно!
И как скоро, как беспрепятственно совершается процесс этого превращения! С какою изумительною быстротой поселяется в сердце вялость и равнодушие ко всему, потухает огонь любви к добру и ненависти ко лжи и злу!»
Особенно трогательно, что это бурное освоение Салтыковым жизни российской глубинки и вместе с тем выразительных возможностей русского языка проходило при полном отсутствия жалованья да ещё и с наложением неудобств иного свойства. Хлопоты Салтыкова по возвращению в столицу не достигали успеха, зато ему, уже ставшему приходить в себя после катаклизма 1848 года, о нём вдруг напомнили. В Петербурге разворачивалось дело петрашевцев, и 30 августа 1849 года из Третьего отделения (то есть жандармерии) вятскому губернатору был отправлен пакет с пометами «весьма секретно» и «в собственные руки», где находилась просьба «отобрать» от Салтыкова «письменные ответы» на несколько вопросов в связи с делом о титулярном советнике Буташевиче-Петрашевском. Но когда пакет прибыл в Вятку, Аким Иванович Середа находился в Елабуге. Курьер с пакетом отправился туда, а уж из Елабуги пакет вместе с Середой поехал вновь в Вятку.
Условия грядущего мероприятия были, мягко говоря, экстравагантными: саму бумагу Салтыкову не предъявлять, а лишь отобрать у него письменные ответы на изложенные в ней вопросы, которые касались знакомства с Петрашевским и другими лицами из его окружения, участия в собраниях, обсуждения «предметов политических» и т. д. «Все это Салтыков обязан объяснить с полной откровенностью, – говорилось в сопроводительном письме, подписанном самим управляющим Третьим отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии, начальником штаба Корпуса жандармов, генерал-лейтенантом Леонтием Васильевичем Дубельтом, – обнаружив, если ему известно, всех лиц, принимавших участие в суждениях и действиях Петрашевского и подтверждая при том каждое указание или какой-либо вывод определёнными фактами».
Губернатор поручил выполнить эту просьбу-приказ советнику губернского правления, коллежскому асессору Ивану Кабалерову, причём «внезапно» и в присутствии вятского жандармского штаб-офицера, полковника. Так что 24 сентября в шесть часов вечера в дом к гостеприимному Салтыкову вдруг явились гости внезапные, и отобрание ответов началось. Бумаги эти сохранились, хотя для биографии Салтыкова они представляют небольшой интерес. Он отвечал искренне, подробно, но скрывать, по чести, ему было нечего – устремлённый к социал-радикализму агрессивный мечтатель Петрашевский и его ближайшее окружение явно не были героями салтыковской судьбы. Он вновь указал на главный пункт своих расхождений с интересовавшим жандармов деятелем:
«Петрашевский предложил сделать складку, сколько кто может, на выписку книг, преимущественно школы Фурье, но из нас некоторые, а в том числе Есаков, Данилевский, Майков и я, настаивали и настояли на том, чтобы библиотека была составлена не из одних книг, касающихся социальных систем, но по преимуществу, из сочинений политико-экономистов. Впрочем, этой библиотекою я вовсе не занимался, и книг из неё почти никогда не брал, за весьма малыми исключениями, и какие именно книги выписывались не знаю, потому что Петрашевский, как распорядитель, совершенно забрал деньги к себе и выписывал, что хотел, а по преимуществу ничтожные и по существу и по цене своей брошюры вроде: “Rotschild roi des juifs”[8]8
Имеется в виду памфлет «Histoire edifiante et curieuse de Rothschild I-er, roi des juifs» («Поучительная и забавная история Ротшильда I, короля евреев») Жоржа Мари Матьё-Дернвеля (Mathieu-Dairnvaell), изданный в Париже в 1846 году и высоко оценённый Фридрихом Энгельсом в статье «Правительство и оппозиция во Франции» (1846).
[Закрыть] и разные другие.
Всё это вместе взятое, и кроме того разные выходки Петрашевского, выходки дикие и неуместные, клонившиеся большею частью к произведению скандала в публичных местах, а также появление в нашем обществе новых лиц, с которыми я не имел никакой охоты сблизиться, как напр. Благовещенского, какого-то господина в синих очках, произвели мало-помалу охлаждение в отношениях моих к Петрашевскому, так что, с начала 1846 года или в конце 1845 года, я совершенно прекратил с ним всякое знакомство, и разве изредка встречался с ним на улице. В одно время со мною перестали ездить к Петрашевскому Есаков и Майков. Что же касается до Данилевского и Григорьева, то первый из них около этого времени выбыл из Петербурга и прожил в деревне более года, а второго я так мало знал, что не интересовался знать, что с ним сделалось».
Салтыков признавал, что «в собраниях у Петрашевского бывали иногда и политические разговоры, но они никогда не имели другого предмета, кроме текущих новостей. Особенно демагогических идей не помню, чтобы кто-нибудь высказывал, исключая разве Петрашевского, который делал это более по удали и молодечеству, нежели по убеждению. Резкость мнений Петрашевского была одною из причин моего отдаления от него вместе с Майковым и Есаковым».
Понятно, что при таких подневольных отобраниях ответов, когда дело исходит из цензурирования мыслей, а не из преследования за противоправные действия, любой человек с представлениями о чести и достоинстве сделает всё возможное, чтобы смягчить мнение карающей стороны о тяжести вины подозреваемых. Здесь Салтыкову даже лукавить не пришлось: несимпатичный ему Петрашевский по характеру своему был личностью вздорной, склонной к спорадическим проявлениям чувств, ищущей споров, столкновений, конфликтов.
Но самое важное, что Салтыков сумел повернуть визит нежданных гостей в свою пользу. После того как ответы у него были отобраны, он не только не впал в волнение, но сел за стол и уже в благом одиночестве написал дополнение к своим показаниям, где подчеркнул свой интерес к сугубо литературным занятиям и таковой же у Петрашевского, а также своё «желание заниматься политической экономией» и «пенитенциарною системой». Однако Петрашевский не выполнял его просьбы выписывать труды «главнейших экономистов» и «сочинения о тюремной системе», а, выписав в 1846 году трактаты «Thorie de l’emprisonnement» par Ch. Lucas и «Le systeme pnitentiare en Amrique» par Qustave de Beaumont, вдруг, по словам Салтыкова, не позволил ему читать таковые по причине неуплаты очередного взноса на покупку (когда же Салтыков вносил деньги, покупались книги ему ненужные). После этого их отношения были окончательно прекращены.
После изложения этой меркантильной истории Салтыков пишет собственно то, ради чего он и решился на это «дополнительное показание». «При сём осмеливаюсь сказать несколько слов о собственном моём положении, – выводит он своих читателей, среди которых могли оказаться и Дубельт, и сам император, к главной для него теме. – Находясь полтора года в изгнании и удалённый от родных, я, как особой милости, прошу в оправдание своё рассмотреть статью, за которую я наказан. Я вполне убеждён, что в ней скорее будет замечено направление совершенно противное анархическим идеям, нежели старание распространить эти идеи. Постоянный мой скромный образ жизни, постоянное моё усердие по службе, которое как бывшим, так и настоящим моим начальством может быть засвидетельствовано, достаточно опровергают мысль о разрушительных будто бы намерениях моих. Более же всего непричастность моя подобным намерениям доказывается постепенным моим удалением с 1846 года от общества Петрашевского. Конечно, и у меня были заблуждения, но заблуждения эти были скорее результатом юношеского увлечения и неопытности, нежели обдуманным желанием распространять вред, да и при том же за них я уже полтора года страдаю изгнанием. Хотя я, по особой милости Государя Императора, переведён в г. Вятку не просто на жительство, а на службу, но я доселе не имею никакого штатного места, да и едва ли могу его иметь, потому что характер сосланного по Высочайшему повелению будет постоянной преградой к поручению мне какой-либо сколько-нибудь значительной должности. Таким образом, служебная карьера, на которую я единственно рассчитывал, навсегда для меня закрыта.
Все эти обстоятельства и, наконец, искреннее моё раскаяние в совершённом моём проступке, осмеливаюсь повергнуть на милостивое усмотрение правительства».
Хотя главной своей цели это показание не достигло, и Салтыков был оставлен в Вятке, из дела Петрашевского он был исключён и оставлен в покое. Да и сам губернатор, судя по всему, окончательно принял Салтыкова. После того, как последний выполнил довольно сложную работу по составлению по городам инвентарей недвижимых имуществ, статистических описаний и проектов их общественного и хозяйственного переустройства, его с 17 января 1850 года ввели в штат и назначили содержание, определённое по должности старшего чиновника особых поручений. До этого он жил на скудные казённые начисления, обеспечивающие квартиру, стол, выезд и т. п. – что-то вроде командировочных, и на то, что присылали из Спас-Угла.
* * *
Среди более или менее надёжных источников биографа – письма. К письмам Ольги Михайловны и Евграфа Васильевича Салтыкова мы уже обращались, они довольно хорошо сохранились. А вот первое дошедшее до нас письмо Михаила Евграфовича, из Царского Села, относится только к марту 1839 года, да и письма последующих лет, вплоть до 1848-го, наперечёт. Зато уцелело восемь десятков его посланий из Вятки.
Уже на следующий день после приезда в город, 8 мая Салтыков передал своему добрейшему спутнику, штабс-капитану Рашкевичу, спешившему далее по своим жандармским маршрутам, несколько писем. Как видно, это был действительно человек не без достоинств – недаром изгнанник доверил ему свои послания, причём на революционном французском языке. А позднее, вспоминая Рашкевича и его поведение в дороге, Салтыков выдал один из своих афористических парадоксов: «Если за доблести и военную опытность признаётся справедливым постепенно производить из унтер-офицеров в генералы, то было бы столь же справедливо за благодушие и сердечную мягкость с тою же постепенностью производить из генералов в унтер-офицеры».
Так или иначе, Рашкевич повёз в Петербург письма (их сохранилось три), где Салтыков сообщал милым его сердцу француженкам – жене брата Дмитрия Аделаиде, её сестре Алине Гринвальд и их матери, тёще Дмитрия Евграфовича Каролине Павловне Брюн де Сент-Катрин – о благополучном прибытии в Вятку. На тональность и особенности этих писем нельзя не обратить внимания. Даже в русском переводе (французский оригинал легко доступен в собрании сочинений Салтыкова) эти письма живо напоминают нам об одном классическом уже тогда персонаже русской литературы.
В письме Каролине Павловне мы не без изумления прочитаем следующее: «Сударыня! Моя несчастная судьба захотела оторвать меня от Вас и всего, что мне более всего дорого, но она бессильна, когда дело идёт о моих сердечных привязанностях. Ибо я умоляю Вас, сударыня, верить, что лучшее место в моём сердце вечно будет принадлежать Вам и тем, кто дорог Вам, и что безграничная моя преданность будет служить лишь слабой данью, которая так и не даст мне возможности расплатиться за все благодеяния, которыми Вы меня осыпали…»
Эта тень Ивана Александровича Хлестакова, стоящего на коленях перед Анной Андреевной Сквозник-Дмухановской, продолжает свою неуклонную материализацию в последующих строках, завершающихся головокружительным финалом: «Если в горькие дни учатся узнавать тех, кто нас любит, то у меня были такие дни, сударыня, и я знаю долю Вашего участия, облегчившего мои невзгоды. Поэтому, мне остаётся только просить Вас ещё раз, сударыня, быть уверенной в моей сыновней преданности, которая тем более искренна, что я не имею счастья именоваться Вашим сыном».
Интересно, успел ли Мишенька 8 мая 1848 года написать что-то подобное своей пребывающей в полном здравии и в успешных трудах маменьке Ольге Михайловне? Неизвестно, но зато в письме свояченице брата, замужней полковнице Алине Яковлевне Гринвальд словесный гран-каскад нарастает, доходя до семантических сбоев: «Милостивая государыня и любезная сестрица! Вы дали мне столько доказательств дружбы в течение всего того времени, которое я провёл в Вашем очаровательном обществе, что, я уверен, Вы мне простите название сестры, которое я осмеливаюсь Вам дать теперь, когда я так далеко от Вас. Что касается меня, то я похож на Калипсо, которая “не могла утешиться после отъезда Телемака”, с тою маленькой разницей, что теперь это Калипсо покинула своего Телемака. В ожидании будущего я обречён увеличивать воды Вятки потоками своих слёз. Я надеюсь всё-таки, что Вы не забудете меня, дорогая сестра, и окажете мне честь, написав мне несколько строчек Вашей прелестной маленькой ручкой. Прощайте и не забывайте неутешную Калипсо».
Адресанта занесло настолько, что он, переменяя свой пол и объекты перемещения, перепутал Телемака с Одиссеем. А ведь ещё следует объясниться с женой брата: «…в моём изгнании, как везде и всегда, воспоминание о Вашей доброте будет запечатлено в моём сердце. Мой ментор – жандарм уезжает через несколько часов: поэтому у меня нет достаточного времени для того, чтобы выразить Вам всё моё сожаление о том, что я так далеко от Вас. Впрочем, меня встретили в Вятке с распростёртыми объятиями, и я прошу Вас поверить, что окружающие меня здесь не людоеды; они таковы не более чем наполовину и поэтому не смогут съесть меня целиком. Вятские дамы, наоборот, совершенные людоедки, кривые, горбатые, одним словом, самые непривлекательные, и тем не менее мне говорят, что надо стараться им понравиться, потому что здесь, как и повсюду, всё делается при посредстве прекрасного пола…»
Это письмо невестке Аделаиде Яковлевне сохранилось не полностью, но и то, что сохранилось, лишь подтверждает прочитанное в предыдущих двух письмах: перед нами безудержная хлестаковщина.
Но каковы её причины? Угрюмый советский щедриновед, наверное, усмотрит здесь черты уже в дощедринский период складывавшегося знаменитого эзопова языка Салтыкова, о котором он сам понаписал немало. Логика проста: коль письма повезёт жандарм, их содержание надо зашифровать. Но эта логика столь же фиктивна, ибо никакой зашифрованной крамольной информации здесь не вычитаешь, хоть сто раз перечитай. Зато, помимо прямых, вычитаешь косвенный комплимент адресатке, впрочем, переходящий в сальную двусмысленность там, где автор пишет про необходимость понравиться вятским «людоедкам» (много же их он видел за сутки!), поскольку «здесь, как и повсюду, всё делается при посредстве прекрасного пола».
Комментатор посовременнее предположит, что этими своеобразными письмами, которые явно были перлюстрированы, Салтыков сбивает с толку своих особых читателей, создаёт автопортрет разгильдяя-вертопраха, скрывая подлинное своё обличье петрашевца и социального сатирика. Но если учесть, что, кроме предполагаемых жандармов, эти письма будут читать и очевидные адресатки, милые столичные дамы, даже с учётом особенностей эпистолярного этикета той поры содержащееся в них требует особого объяснения.
Нет слов, Салтыков блистателен во всём, что бы он ни писал. Собрание его писем – полноценная часть его творческого наследия, и мы ещё не раз будем иметь возможность в этом убедиться. И то, что он, едва оказавшись в Вятке – на неопределённое время, надо это помнить, – вдруг решил предстать перед столичными дамами в обличье Хлестакова, имело свою логику. Вне сомнений, он продолжал переживать тяжелейшее психологическое потрясение и попросту не знал, что написать о своём состоянии родителям в считаные часы до отъезда Рашкевича. (Хотя известно, что к началу июня Ольга Михайловна уже получила от него два письма из Вятки, в которых «он очень грустит и просит, чтобы мы ходатайствовали у милосердного монарха о нём прощение»; Дмитрию Евграфовичу он тоже писал, но письмо 8 мая не сохранилось.) Поэтому, явно дурачась со знакомыми дамами (все три его старше), он, скорее всего, попросту глушил свою тоску, взбадривал самого себя тем, что он умел, – словописанием, приданием увиденному особых черт и пропорций.
Это, если смотреть на всю жизнь Салтыкова, без сомнения, было важной чертой его характера, очень сложного, прихотливого и отнюдь не подходящего к житийному разряду – даже сакрализированных «революционных демократов». Перфекционист, если использовать модное сегодня определение, Михаил Евграфович неуклонно, с педантизмом, доходящим до брюзгливости, отмечал расхождения своих представлений о мировой гармонии с повседневностью, в которой ему выпало существовать. Но при этом ему и в голову прийти не могло впасть в меланхолию, хандру, тоску, в душевное и физическое прозябание. На всё это он охотно жаловался знакомым и даже малознакомым, в письмах родным, близким и дальним, всё это своими замысловатыми путями проникало в его художественный стиль, делая его не просто неповторимым, но и вдруг наполняя неиссякаемой энергией. Что удивительно – именно такое разностороннее выбрасывание-разбрасывание душевных переживаний не только не разрушало его личность, но и укрепляло её. Это зримо подтверждается происшедшим с Салтыковым после закрытия «Отечественных записок» в 1884 году. Казалось бы: катастрофа, тёмная занавесь, конец света – ан нет. За последующие, последние пять лет жизни Михаил Евграфович, при всех своих ревматизмах и невралгиях, написал столько и такой художественной силы, что диву даёшься.
Вот и вятские сохранившиеся письма Салтыкова неизменно содержат жалобы на пребывание в изгнании (любимое слово), не менее красноречиво свидетельствуют, что их автор не высчитывал время, когда ему придёт освобождение, а старался жить полной жизнью в том месте, куда его занесла склонность к литературному творчеству. Например, из тех же вятских писем следует, что он при всех своих философских, эстетических и прочих исканиях был франт и, пренебрегая искусством вятских портных, предпочитал заказывать одежду в Петербурге. Посредником здесь нередко выступал брат Дмитрий Евграфович.
«Я писал к Клеменцу, чтобы он выслал мне сюртук, два жилета и брюки, – из письма брату 7 августа 1850 года, – получил ли он письмо моё, не знаю, и намерен ли он шить; не знаю также, заплачено ли ему маменькой что-нибудь долгу, как она это обещала мне, а равно заплачен ли ею долг мой тебе, о чем я прошу тебя написать мне, чтобы принять меры, а также сколько именно я должен Клеменцу и Лауману и намерен ли первый выслать мне платье по моему требованию, ибо я нищ и наг и хожу, как Тришка, с протёртыми рукавами, так как сюртуку моему скоро исполнится два года и он скоро начнёт говорить».
Писать о многих, если не обо всех своих проблемах в иронической и саркастической манере – обыкновение для Салтыкова. Но при этом он всегда настойчив и целеустремлён в их преодолении.
Ольга Михайловна, придя в дом мужа с невеликим приданым, ко времени, когда Михайла загремел в Вятку, удесятерила семейные богатства, а сама стала в своей округе одной из крупнейших помещиц. Новоприобретённое она записывала на себя, в то время как за Евграфом Васильевичем, что перед женитьбой, что перед кончиной в 1851 году, числилось около трёхсот крепостных душ. У Ольги Михайловны за годы супружества стало таковых 2527.
Естественно, Михаил Евграфович, оказавшийся далеко от Москвы (а подавно от Петербурга), да к тому ещё без сколько-нибудь приличного содержания, хотел получить от родителей внятное решение о своём дальнейшем имущественном положении. Отменой крепостного права и другими реформами ещё не пахло, так что надо было как-то определять свою жизнь в предлагаемых обстоятельствах.
Ольга Михайловна поддерживала сына своей помещичьей копейкой, но как-то несерьёзно, бессистемно. Вследствие чего Михаил обращался к брату Дмитрию весной того же 1850 года: «Маменька ещё пишет мне, что не может выслать мне денег ранее мая, потому что страдает денежною чахоткою. Я, напротив, всегда думал, что она в этом случае скорее подвержена водяной, а оказывается совсем иначе. Впрочем, она тут же отзывается, что ты коротко знаешь её обстоятельства, и потому я прошу тебя убедительно растолковать мне причину такого необыкновенного безденежья, тем более что мне надобно же чем-нибудь жить. А по-моему, лучше всего было бы отделить всех; тогда всякий бы рассчитывал только на то, что у него есть, а то насулят золотые горы, да потом и утягивают, так что нет возможности распорядиться своею жизнью определённым образом. Во всяком случае, я рад, что она согласилась уплатить тебе долг мой, и прошу тебя уведомить, исполнила ли она это, как пишет мне».
Естественно, это письмо ничего не решило, лишь дало нам, потомкам, возможность строить всякие предположения и высказывать догадки касательно отношений внутри обширного салтыковского семейства. У Ольги Михайловны, по всему, была своя стратегия, свои расчёты, кому, как и сколько давать. К Михайле она относилась, может быть, даже с большей теплотой, чем к другим своим сыновьям, но её наблюдения за тем, как складывалась его жизнь, радости не вызывали. Попав в Вятку и стремясь вырваться оттуда, виды на дальнейшее он имел самые смутные. Писал в том же 1850 году Дмитрию, что хочет немедленно отправиться в деревню, как только получит известие об освобождении из Вятки. «Я хочу также просить, если это только возможно, об отделе и согласился бы дать отказную во всем, если бы мне отдали Глебово и тысяч двадцать на устройство его. Главная цель моя заключается в том, чтобы выйти в отставку и поселиться в деревне, чего я не могу сделать, не имея достаточного обеспечения. Дай Бог, чтобы всё это так и случилось; мне не хотелось бы вновь поступать на службу уже по тому одному, что искать места в Петербурге будет для меня довольно затруднительно, да едва ли я найду что-нибудь по своему желанию».
Это едва ли устраивало Ольгу Михайловну, у которой перед глазами уже был пример супруга, много лет вкушавшего в имении все прелести отставной жизни. Как человек предельно хозяйственный, то есть стремящийся извлечь наибольшую выгоду отовсюду, где только можно, она, разумеется, считала, что её молодые сыновья должны служить и своими чинами, своим положением в обществе укреплять значение уже обретённых имений. Вместе с тем, видя, что Евграф Васильевич слабеет на глазах, хотя он ещё в 1837 году завещал Спас-Угол с деревнями Ольге Михайловне для раздела между детьми после его кончины, она решила, очевидно, ещё при его жизни, что называется, по-людски принять раздельный акт, устанавливающий наследственные права детей.
Все эти обстоятельства породили немало коллизий, которые, хотя и касались отдалённого Михаила Евграфовича лишь краем («Вятка во многом меня убедила, и убедила к лучшему»), всё же безмятежности у него не вызывали. И он вновь показал достойные черты своего сложного характера, что отразилось в его письмах: «Все мы равны как братья и, следовательно, должны иметь равную часть в родительском имении» (брату Дмитрию); «…я прошу Вас думать, что денежные или другие корыстные соображения совершенно чужды меня, что я люблю Вас для Вас самих, а не для имения Вашего» (матери), «…нечего и уверять Вас, в какой степени я благодарен Вам за участие Ваше в моём несчастном положении. Впрочем, я не в такой степени поражён им, как бы это можно предполагать, потому что у меня в Вятке есть уже некоторые интересы, о которых Вы, впрочем, уже знаете, а именно ожидаемое мною разрешение на представление меня в советники…» (родителям)…