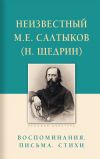Текст книги "Салтыков (Щедрин)"

Автор книги: С. Дмитренко
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Главный вятский адрес Салтыкова – квартира, а затем и весь дом выходца из Баварии, мастера Медянской бумажной фабрики Иоганна Христиана Раша на Вознесенской улице (c 1968 года в нём находится первый в нашей стране музей писателя). Дом был новый, деревянный, на каменном фундаменте, пятикомнатный, с тремя печами, общим размером восемь с половиной метров по уличной линии и 15 – вглубь двора. Салтыков снимал здесь также усадьбу при доме с двумя службами, то есть тем, что сегодня называется подсобными помещениями.
Эта часть Вятки считалась окраинной, она отделялась от центра города широким оврагом Засора. В центр с Вознесенской улицы можно было попасть по мосткам или по не менее шаткому, ненадёжному мосту на Царёво-Константиновской улице, названной так по возведённой здесь в 1688 году деревянной церкви во имя святых равноапостольных Константина и Елены, вскоре сгоревшей. Но от пожара среди других святынь была спасена икона Знамения Пресвятой Богородицы, так что когда почти век спустя новое, не раз перестроенное каменное здание церкви освящалось, она получила имя в честь этой иконы и стала именоваться Знаменской, хотя имя Царёво-Константиновская сохранилось в городском обиходе, отсюда имя улицы. Салтыков был прихожанином этой церкви, уцелевшей в советское время и действующей доныне. Здания губернского правления и других присутственных мест располагались близ набережной Вятки перед Александровским садом. Отсюда до дома Салтыкова более двух вёрст, но, впрочем, выбор пути был небольшой: как ни пойди, если не грязи, то пыли на улицах было предостаточно.
Полученная Салтыковым должность была незначительна, но и здесь просматривается здравый смысл: опытный Середа едва ли стремился облагодетельствовать неведомую ему столичную штучку, вынужденно попавшую под его начало, во многом вследствие европейских событий 1848 года. А международная обстановка, что и говорить, всегда находила своеобразный отклик в нашей внутренней политике и общественном поведении. В мае и намёка не было на то, что Европа хочет успокоиться. Напротив, бурлила Венгрия, а во Франции после отречения короля Луи-Филиппа была провозглашена республика, где во временном правительстве ключевое место занял прославленный поэт Альфонс де Ламартин, прекрасно известный и в тогдашней читающей России.
Кроме международной обстановки, была у Середы и докука посерьёзнее. Вскоре после явления Салтыкова в Вятке, ещё в мае он, избавившись от хвори, отправился на север губернии, в Слободской уезд, важнейший на торговом пути Вятка – Архангельск (его центр, город Слободской, даже после антицерковных смерчей ХХ века называют «вятским Суздалем»). В крае могла начаться эпидемия холеры – и с наступлением июньской жары она действительно началась. В свою очередь засуха привела к обмелению рек, отчего нарушился вывоз товаров, богатого урожая вятской земли – зерна, льна, конопли – всё это водными путями, через Архангельск отправляли за границу. Надо знать, что особой силой вятской жизни было не дворянство. Здесь не было ни дворянских родословных книг, ни собраний дворянства и, значит, дворянских выборов. Зато по числу государственных крестьян Вятская губерния занимала первое место в Европейской России (в помещичьей собственности находилось лишь два процента от общей численности крестьян).
Между прочим, Герцен, рассказывая в «Былом и думах» об альпийских горцах Швейцарии, называл их людьми «такого же закала», который он встречал в Перми и Вятке: «По горам живёт чистое и доброе племя, – племя бедное, но не несчастное, с малыми потребностями, привычное к жизни самобытной и независимой. Накипь цивилизации, её ярь-медянка не осела на этих людях; исторические перемены, словно облака, ходят под ними, мало задевая их. <…> Может, в Пиренеях или других горах, в Тироле, найдётся такой же здоровый кряж населения – но вообще его в Европе давно нет».
На Вятской земле в силе было купечество, деятельность которого зависела в том числе и от урожаев, состояния земных и водных путей и т. д. Вот и получалось: с одной стороны хорошо, что поместное дворянство с его амбициями не мешает, но и купечество желательно не поддерживать, а создавать ему такие условия, чтобы город и губернию поддерживало оно.
По архивным данным, в 1849 году в Вятке насчитывалось около восьми тысяч житей, из которых купцов всех трёх гильдий было 523, дворян потомственных 192, дворян личных (то есть в абсолютном большинстве чиновников) 740, казённых крестьян 571, дворовых людей 194 (один из них – салтыковский Платон Иванов, которому барин всё никак не мог оформить вольную – то из-за удалённости от Спас-Угла, то потому, что Платон официально числился не за ним). В городе было 86 каменных домов и 764 деревянных, четыре собора, семь церквей, а также пять церквей домовых. Различных лавок и питейных заведений в Вятке насчитывалось до двухсот, было также две гостиницы.
Упоминавшаяся ранее уроженка Вятки-Хлынова Лидия Ионина, в замужестве Спасская (1856–1928), родителей которой связывали с Салтыковым особые отношения, не без иронии писала: «Провинция была в его [Салтыкова] глазах царством тьмы», но она оказалась «не слишком уже тёмною». И приводила свидетельства вятского историка А. С. Верещагина о грамотности большинства хлыновцев уже в начале XVIII века. В 1735 году здесь была открыта духовная семинария (Хлыновская славяно-латинская школа), выпускники которой становились не только священниками вятской епархии. Среди них были как крупные церковные деятели и богословы, так и учёные, в том числе крестьянский сын Константин Иванович Щепин (1728–1770), ставший врачом и реформатором медицины, одним из первых русских диетологов, бальнеологов, а также ботаников-систематизаторов. Значителен его вклад в военную медицину, а смерть учёного-новатора была героической: во время работ по ликвидации эпидемии чумы. Вятским уроженцем и выпускником семинарии был поэт Ермил Костров (1755–1796), первым переведший на русский язык «Илиаду» и «Метаморфозы» Апулея.
Ионина-Спасская называет современников Салтыкова – своих земляков, постоянных авторов столичных журналов, напоминает о том, что, помимо открытой в Вятке публичной библиотеки, домашние библиотеки были обыкновением во многих вятских семьях, и наконец сообщает знаменательный факт: «В 1847 году издавался по подписке в Петербурге альбом “104 рисунка к сочинению Гоголя ʽМертвые души’ ” – прекрасный альбом работы известного художника Агина. Цена была, если не ошибаюсь, десять рублей (сумма по тем временам весьма значительная. – С. Д.). Имена всех лиц, подписавшихся на издание, напечатаны на первой странице альбома. Всего было востребовано подписчиками сто пять экземпляров, из которых восемь приходится на долю особ императорской фамилии; шестьдесят пять на долю петербургских жителей, различных графов и князей или аристократов литературы и художеств, например, министр народного просвещения граф Уваров, граф Виельгорский, князь Любомирский и др.; знаменитые писатели: князья Вяземский и Одоевский, Плетнёв, Сологуб, Некрасов, Струговщиков; художники Брюллов, Бруни и тому подобные лица; остальные тридцать один экземпляр разошлись на всю Россию. Из них двадцать было выписано в Вятку».
Словом, медвежьей глушью Вятка не была, и Гоголя, а также, пожалуй, писателей вообще местные интеллектуалы воспринимали явно не так, как Антон Антонович Сквозник-Дмухановский: «Найдётся щелкопёр, бумагомарака, в комедию тебя вставит… Чина, звания не пощадит, и будут всё скалить зубы и бить в ладоши».
Впрочем, бумагомарака в 1847 году уже кропал своё «Запутанное дело», обеспечивая себе подорожную в Вятку и тем материал для «Губернских очерков», где в полумасках выведется вятский бомонд, – саму книгу проницательный Владимир Зотов, как помним, «Пушкин одиннадцатого выпуска», утверждая мнение многих своих современников, поставит подле «Мертвых душ» и «Записок охотника». Но это через девять лет. А пока губернатор Середа по императорскому повелению брал на службу не наследника Гоголя, не автора «Губернских очерков», «Помпадуров и помпадурш» и «Истории одного города», а столичного холостого юнца, попавшего в немилость к императору и военному министру.
Об Акиме Ивановиче Салтыков, уже перейдя под управление сменившего его губернатора Семёнова, писал брату Дмитрию: «Если бы ты увидал меня теперь, то, конечно, изумился бы моей перемене. Я сделался вполне деловым человеком, и едва ли в целой губернии найдётся другой чиновник, которого служебная деятельность была бы для неё полезнее. Это я говорю по совести и без хвастовства, и всем этим я вполне обязан Середе, который поселил во мне ту живую заботливость, то постоянное беспокойство о делах службы, которое ставит их для меня гораздо выше моих собственных. Середа всегда смотрел на меня с надеждою и участием, и я до конца жизни буду уважать это участие и благоговеть перед памятью этого святого и бескорыстного человека». Принадлежащий к дворянам Полтавской губернии, пятидесятилетний Середа был ветераном войны на Кавказе, где показал себя отважным офицером и мужественным командиром, затем служил в Оренбургском военном округе, а при переходе на службу гражданскую в 1844 году получил должность губернатора в Вятке.
В 1850 году в городе оказалась ещё одна жертва европейских событий – сорокалетний чиновник особых поручений при московском гражданском губернаторе Илья Селиванов. С 1848 года он был во Франции, писал оттуда письма со своими впечатлениями о происходящем – и, как водится, вскоре после возвращения в Россию был арестован, а затем «за превратный образ мыслей, выраженный в литературных сочинениях и частной переписке» сослан в Вятку, правда, без сопровождения жандарма. К счастью, его «отчуждение» оказалось непродолжительным, десять месяцев, но он успел послужить в вятском статистическом комитете, познакомиться с Салтыковым, составить своё мнение о Середе и дать его портрет (вскоре Селиванов стал довольно известным писателем, причисленным к обличительному направлению в литературе).
«Это был высокий, с проседью человек, серьёзный, малоразговорчивый, очень красивый, должно быть, в молодости; ему было лет около пятидесяти, – пишет Селиванов о губернаторе. – Это была такая благородная, такой высокой честности личность, какие встречаются не часто; труженик своей должности, он сделался жертвою своего усердия к службе; часто, когда люди шли к заутрени (в Вятке вообще люди очень богомольны, и священники, как исключение из общего правила, заслуживали полного уважения, как по своей образованности, так и по уменью держать себя), в его кабинете видели огонь, – он ещё не ложился». Будучи «губернатором в губернии ссыльных», он «много мог бы наделать зла», но он «был провидением несчастных».
Столь же высоко отзывался о неподкупном Середе, знавший его по Оренбургу Алексей Плещеев, поэт, а впоследствии сотрудник Салтыкова в «Отечественных записках»: «Умный и деятельный, обаятельный как личность, он не знал никаких побуждений корысти и карьеры. Он желал работать только для пользы дела. К высокому посту начальника обширнейшего края он был приведён собственными и действительными заслугами. Связей он не имел и не искал их, даже чуждался петербургских сфер… Он был великий труженик, службе отдавал всё, включая и личную жизнь, в которой, может быть, потому был несчастлив».
Став губернатором, первым делом Середа изучил состояние дел в подведомственном ему крае и взялся за канцелярию и присутственные места, расширил деятельность статистического комитета, одного из первых в России, чиновники которого, помимо прочего, собирали материалы по истории губернии. Особое внимание он уделял отчётам, отправляемым в столицу, не без оснований полагая, что жёсткий анализ происходящего может если не устранить проблемы, то во всяком случае сделать их заметными даже из Зимнего дворца. Середа старался искоренить волокиту в земских судах, добивался увеличения числа полицейских чиновников, надзиравших за Вятской губернией (площадью около 160 тысяч квадратных вёрст, что, для наглядности, немногим меньше площади современных Эстонии, Латвии и Литвы вместе взятых).
К слову, возможно, доклады Середы в столицу и способствовали отправке туда недобровольным образом грамотных чиновников. Середа писал со всей определённостью: «В достижении отличной исправности в Вятской губернии представляется, может быть, более, нежели где-либо, затруднений по недостатку способных, благонамеренных и с хорошим поведением чиновников. Внимательное наблюдение, к сожалению, не оставляет сомнений, что многие из служащих в Вятской губернии, не исключая и состоящих в губернском правлении, могут быть терпимы только по недостатку лучших. Переходящие сюда из других губерний… почти исключительно состоят или из чиновников, вовсе нетерпимых уже на службе в других губерниях, или из канцелярских служителей, молодых людей, не имеющих ещё опытности, необходимой для того, чтобы они могли быть употребляемы с пользою для службы». Надо заметить, что Салтыков, вскоре пошедший резко вверх по служебной лестнице, став причастным к составлению годовых отчётов, эту кадровую проблему продолжал подчёркивать. «Открытый по закону вызов лиц на службу в Вятскую губернию, – говорится в отчёте за 1850 год, – хотя вначале доставил возможность заместить некоторые полицейские места способными и надёжными чиновниками, но впоследствии не приносил почти никакой пользы. Часть из приехавших на службу из других губерний лиц – люди малоспособные, без всякого почти образования. Таким образом, мера эта далеко недостаточна».
Делал Салтыков это, понятно, по нескольким причинам, среди которых своё место занимала и личная: отправленный в Вятку бессрочно, он мог рассчитывать на возвращение в столицу или хотя бы на перевод поближе к Заозерью и Спас-Углу только при благополучии дел в Вятке, то есть укреплении чиновничьего корпуса. Поэтому и сам он работал не за страх, а за совесть. Но, без сомнений, в начале самостоятельного служебного поприща (канцелярская служба в Военном министерстве явно не принесла ему сколько-нибудь поучительного опыта) ему повезло попасть в среду, созданную Середой (каламбур напрашивается), – нацеленную на добросовестное исполнение своих обязанностей, на преуспеяние губернии.
При исполнении особых поручений
Мелкая чиновничья должность, поначалу полученная Салтыковым, его совсем не устраивала, и он обратился за помощью к своему непосредственному начальнику, вятскому вице-губернатору, должность которого исправлял тогда бывший лицеист Сергей Александрович Костливцов (в современном начертании чаще Костливцев).
Как видно, Костливцов руководствовался не только неписаным кодексом лицейского братства, но и собственными наблюдениями за Салтыковым, когда посоветовал ему вовсе не являться на службу, Но в то же время и он, и Салтыков, очевидно, предприняли определённые действия, адресуясь ко своим столичным приятелям – так что вскоре Середа получил два благоприятных для Салтыкова письма, частных, но написанных крупными чиновниками Министерства внутренних дел. Одно – от директора хозяйственного департамента Николая Милютина, принадлежащего к прославившейся вскоре семье российских реформаторов, человека редчайшей доброжелательности, уже пытавшегося помочь Салтыкову в дни скандала с «Запутанным делом». Второе – от чиновника особых поручений, бывшего лицеиста Якова Ханыкова. Оба рекомендовали Салтыкова с наилучшей стороны и просили Середу найти его способностям должное применение.
Губернатор, приняв к сведению эти рекомендации, однако, не торопился. Лишь с 12 ноября 1848 года Салтыков получил должность старшего чиновника особых поручений при вятском гражданском губернаторе – хотя вновь без содержания. Теперь ходить на место новой службы, требовавшее ежедневного на ней пребывания, стало ближе. Это была канцелярия губернатора – одноэтажный угловой флигель на Спасской улице, рядом с губернаторским домом. Начиналась одна из самых удивительных чиновничьих карьер в истории России.
Поначалу Салтыкову выпало стать, по сути, детективом, занявшись изучением и расследованием целого ряда дел, зависших в канцелярии. Первым на его стол легло дело непременного заседателя Вятского земского суда Крылова, под колёсами свадебного кортежа которого погиб ребёнок. Дознание по делу как стряпчий проводил секретарь суда Лукин, и Крылов попытался вызвать благосклонность своего сослуживца, а когда тот повёл расследование беспристрастно, начал привлекать на свою сторону знакомых, родственников, тех вятчан, которые в той или иной форме могли оказать на Лукина давление. В итоге дело, как водится, погрязло в кляузах и четыре года оставалось без движения – только бумаги множились. Салтыков вник в его подробности и подготовил для передачи в суд. Также он занялся ещё шестью делами, требовавшими «безотлагательного окончания следствия», среди которых для нас представляют литературный интерес дела «о найденном в реке мёртвом крестьянине Пантелееве и о вымогательстве, учинённом в связи с сим жителям деревни Кирибеево» и «о сборе денег с крестьян деревни Пахомовской Троицкой волости в пользу станового пристава Двинянинова».
Как знать, может быть, именно они подтолкнули автора «Запутанного дела», ставшего старшим чиновником особых поручений, к обновлению своих литературных стратегий и положили начало «Губернским очеркам», принёсших ему литературную славу. Так, дело о мёртвом крестьянине нельзя назвать рутинным по нескольким основаниям. Не только потому, что обнаружение трупа всегда, и в те времена тоже, требовало расследования причин смерти. Такие факты вызывали, с одной стороны, юридические последствия, а с другой стороны, находили отклик в русской литературе ещё до Салтыкова.
Сюжет с мёртвым телом неожиданно стал едва ли не бродячим, хотя само это выражение восходит ещё к Священному Писанию. В книге пророка Исаии читаем: «Оживут мертвецы Твои, восстанут мёртвые тела! Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе..» (26:19; в живом русском языке очень существенно это различение: мёртвое – означает то, что не связано с таинственным существованием души человека, в то время как мёртвое – лишившее души, восходящее именно к сакральным текстам или прямо связанное с ними; здесь многострадальная буква ё, как всегда передаёт различение в смысле, напоминает, что в церковнославянском (старославянском) языке её нет, у неё своё ответственное поле деятельности и уже тем требует своей радостной приязни). Мёртвое тело – плоть без души, понятие онтологически важное, но естественно, что это выражение существовало и широко употреблялось также в обытовлённом значении. Даль в своём словаре приводит такие выражения, как «упился до мёртвого тела» (II, 319) и «мёртвым (мёрзлым) телом хоть забор подпирай» (IV, 448). Но до этого, ещё в петровские времена, появилась литературная обработка русской народной сказки «Повесть о купце, купившем мёртвое тело». В детские годы Салтыкова «Сказка о мёртвом теле, неизвестно кому принадлежащем» появилась в сборнике Владимира Одоевского (1833). То есть существует специфика обращения в речи неделимого словосочетания «мёртвое тело», которое при явной информационной избыточности представляет собой соединение религиозно опосредованной метафоры и юридического термина.
Сам Салтыков открывает сюжетное повествование «Губернских очерков» «Первым рассказом подьячего» (в журнальной первопубликации – «Рассказ подьячего»: «Русский вестник», август 1856 года), вошедшим в раздел «Прошлые времена». Здесь очевидна авторская перестраховка – он относит описываемое, во всяком случае, к предшествующему, николаевскому царствованию. И даже именует своего персонажа-повествователя «подьячим» – сохранившимся лишь в бытовой речи допетровским называнием одного из низших административных чинов, переименованных уже в 1720-е годы в подканцеляристов. Хотя в рассказе перед нами, судя по всему, становой пристав, это определение появляется в книге много позднее. Станового пристава назначал губернатор и, хотя он был подчинён земскому исправнику и земскому суду, фактически именно он становился высшей властью над жителями своего стана (стан в императорской России того времени объединял несколько волостей в существовавшей административно-хозяйственной системе: сельское общество – волость – уезд – губерния). Приставу было вменено в обязанность исполнять законы и распоряжения правительства, а также наблюдать за их исполнением жителями и поддерживать правопорядок в стане. Кроме того, что очень важно, пристав был заседателем в земском суде (отметим, что Салтыков именно с этой подробности и начинает «Первый рассказ подьячего»).
Но так в документах, а жизнь предлагала свои обстоятельства, и вот на них-то и обращает внимание Салтыков, знаменательно переименовывая пристава в подьячего, что должно подчеркнуть особые взаимоотношения между властью и народом – сложившиеся ещё в далёкие допетровские времена, но никак существенно не изменившиеся доныне.
Живая речь, монолог персонажа зачастую, особенно в большом произведении, может сказать читателю больше, чем авторская препарация событий. Вот и салтыковский «подьячий» на нескольких страницах, данных ему автором, со всей откровенностью живописует то, что было и остаётся в истории как нашей страны, так и всего человечества, неистребимым: вымогательство, сбор денег в пользу станового пристава и т. п., то есть взяточничество или, говоря по-современному, коррупцию.
Пагуба порока выглядит особенно выразительно, когда есть история, где порок этот проявляется с особой злостностью, циничностью, бесчеловечностью. Салтыков такой пример отыскал в вышеупомянутом деле «о найденном в реке мёртвом крестьянине Пантелееве и о вымогательстве, учинённом в связи с сим жителям деревни Кирибеево». Хотя в рассказе историю о мёртвом теле, найденном в пруду кумачной фабрики купца Платона Троекурова, сопровождает феерический каскад других историй о вымогательстве, куда входят даже гиньольные сюжеты с оспопрививанием крестьян и рекрутским набором.
Что же происходило с мёртвыми телами в изложении подьячего?
«Заводчиком» всяческого взятковымогания был уездный лекарь, который «наставлял нас всему» и жил с убеждением: «никакого дела, будь оно самой Святой Пасхи святее, не следует делать даром: хоть гривенник, а слупи, рук не порти». «Утонул ли кто в реке, с колокольни ли упал и расшибся – всё это ему рука. Да и времена были тогда другие: нынче об таких случаях и дел заводить не велено, а в те поры всякое мёртвое тело есть мёртвое тело. И как бы вы думали: ну, утонул человек, расшибся; кажется, какая тут корысть, чем тут попользоваться? А Иван Петрович знал чем. Приедет в деревню, да и начнёт утопленника-то пластать; натурально, понятые тут, и фельдшер тоже, собака такая, что хуже самого Ивана Петровича.
– А ну-ка ты, Гришуха, держи-ко покойника-то за нос, чтоб мне тут ловчей резать было.
А Гришуха (из понятых) смерть покойника боится, на пять сажен и подойти-то к нему не смеет.
– Ослобони, батюшка Иван Петрович, смерть не могу, нутро измирает!
Ну, и освобождают, разумеется, за посильное приношение. А то другого заставляет внутренности держать; сами рассудите, кому весело мертвечину ослизлую в руке иметь, ну, и откупаются полегоньку, – ан, глядишь, и наколотил Иван Петрович рубликов десяток, а и дело-то всё пустяковое».
История для современного читателя вполне понятная, правда, не совсем ясно с особым значением в вымогательстве мёртвого тела, тем более что в рассказе подьячего с ним связана ещё одна история. Всё началось с того, что чиновники никак не могли добиться от богатого купца Троекурова какой-либо для себя «прибыли», то есть приношений. Направить дело в нужную сторону помог случай – «мёртвое тело нашли неподалёку от фабрики». И Иван Петрович придумал. Троекурову, рассказывает подьячий, он диктует соответствующее письмо: «“По показаниям таких-то и таких-то поселян (валяй больше), вышепоименованное мёртвое тело, по подозрению в насильственном убитии, с таковыми же признаками бесчеловечных побоев, и притом рукою некоего злодея, в предшедшую пред сим ночь, скрылось в фабричном вашем пруде. А посему благоволите в оный для обыска допустить”.
– Да помилуй, Иван Петрович, ведь тело-то в шалаше на дороге лежит!
– Уж делай, что говорят.
Да только засвистал свою любимую “При дороженьке стояла”, а как был чувствителен и не мог эту песню без слёз слышать, то и прослезился немного. После я узнал, что он и впрямь велел сотским тело-то на время в овраг куда-то спрятать.
Прочитал борода наше ведение, да так и обомлел. А между тем и мы следом на двор. Встречает нас, бледный весь.
– Не угодно ли, мол, чаю откушать?
– Какой, брат, тут чай! – говорит Иван Петрович, – тут нечего чаю, а ты пруд спущать вели.
– Помилуйте, отцы родные, за что разорять хотите!
– Как разорять! видишь, следствие приехали делать, указ есть.
Слово за словом, купец видит, что шутки тут плохие, хочь и впрямь пруд спущай, заплатил три тысячи, ну, и дело покончили. После мы по пруду-то маленько поездили, крючьями в воде потыкали, и тела, разумеется, никакого не нашли. Только, я вам скажу, на угощенье, когда уж были мы всё выпивши, и расскажи Иван Петрович купцу, как все дело было; верите ли, так обозлилась борода, что даже закоченел весь!»
К сожалению, хотя взятки, судя по всему, неистребимы, история взяточничества требует исторических же комментариев – и истории с мёртвым телом тоже. Механизм вымогательств с помощью мёртвого тела, как это нередко бывает, был заложен тогдашним законодательством. 3 июня 1837 года появился высочайше утверждённый наказ чинам и служителям земской полиции (тогда-то и появилась должность станового пристава, которому подчинялись сотские и десятские). В «Обязанностях земской полиции по предмету осмотра найденных мёртвых тел и производства следствий об оных» говорится: «Когда найдено будет в поле, в лесу или же ином месте, мёртвое тело, то сотский, осмотрев и заметив имеющиеся на оном знаки, доносит о том немедленно Становому Приставу; к телу же приставляет стражу из поселян, под надзором десятских, и велит его хранить в удобном и безопасном месте до приказания. Между тем он старается узнать, кто был умерший, и не подозревается ли кто в убийстве его, и о сём, по прибытии Станового Пристава, также ему доносит. В случае скоропостижной, или почему-либо иному возбуждено подозрение смерти, десятские доносят об оной сотскому, а сей последний Становому Приставу, оставляя тело под надёжным осмотром».
Источник злоупотреблений властей, отразившихся у Салтыкова, содержится также в следующих параграфах вышеназванного наказа: «§ 63. Становой Пристав наблюдает, чтобы умершие скоропостижно, равно и мёртвые тела, найденные на дорогах, в полях, лесах и при реках, не были погребаемы без его разрешения. Он обязан при всяком таковом случае исследовать: точно ли и от чего внезапная смерть последовала?» И далее: «§ 64. Если будут, по достоверным свидетельствам, признаны видимые и несомнительные причины смерти, как-то: поражение молниею, нечаянный ушиб, чрезмерное употребление крепких напитков, угар, утопление, самоубийство от известного уже помешательства ума и тому подобные, то Становой Пристав, удостоверясь в том чрез исследование, дозволяет предать тело земле. Но если напротив откроется сомнение или подозрение о постороннем насильственном действии, или же причины смерти не совсем ясны, то Пристав, прежде погребения трупа, требует присылки уездного врача» и т. д.
Салтыков не просто показал, как легко находятся в юридических предписаниях лазейки для их извращения. Уже в самом начале книги он напомнил о важнейшем: буква закона не просто находится в сложной связи с духом закона. Сам дух закона становится абстракцией, если он не соотнесён с тем, что называется духом народа, его пониманием смысла закона и законодательства как такового.
* * *
В «Губернских очерках» очевидны и следы штудий Салтыкова-читателя. Вскоре после его кончины юрист и публицист Константин Арсеньев опубликовал в журнале «Вестник Европы» (1890. № 1–2) «Материалы для биографии М. Е. Салтыкова». Они приобрели особое значение, ибо все бумаги Салтыкова, относящиеся, в частности, к вятскому периоду, с которыми работал Арсеньев, сгорели в пожаре на его даче. От него мы узнаём, что Салтыков, увлёкшись давно известным в России трактатом «О преступлениях и наказаниях» итальянского правоведа и философа-просветителя Чезаре Беккариа (1738–1794) и самой историей его жизни, оставил заметки, представляющие собой вольные размышления над идеями Беккариа. Так, он ставит под сомнение тезис итальянца, что люди «согласились, молчаливым контрактом, пожертвовать частью своей свободы, чтобы пользоваться остальным спокойно и чтобы воздерживать постоянные усилия отдельных лиц к восстановлению полной свободы». «Нельзя себе представить, – возражает Салтыков, – чтобы человек мог добровольно отказаться от части свободы, да и нет в том никакой необходимости».
В другой заметке, «Об идее права», Салтыков высказывает убеждение, что в уголовных законах «отражается, со всеми её безобразными или симпатическими сторонами, внутренняя и внешняя жизнь народов. Если нравы народа мягки, если в сознании народном живёт идея правды, то законодатель является не исключительным запретителем или равнодушным карателем известной категории действий, называемых преступлениями. <…> Редко случается так, что уголовный кодекс является не продуктом народной жизни, а чем-то случайным, внешним, применённым к народу без всякой живой с ним связи. Такие факты никогда не проходят даром; рано или поздно народ разобьёт это Прокрустово ложе, которое лишь бесполезно мучило его. Как бы ни был младенчески неразвит народ (а где же он развит?), он всё-таки никогда не хочет улечься в тесные рамки искусственно задуманной административной формы».
Не потому ли, что в «Первом рассказе подьячего», отнесённого как бы к «прошлым временам», за фарсовыми историями просматриваются общие черты своеобразного российского правоприменения, исходящего из вековечного принципа: закон что дышло, и другие писатели стали предлагать новые вариации на тему мёртвого тела. О случаях с мёртвым телом как возможности получить взятку и метафоре российских отношений в обществе чуть раньше Салтыкова сказал Герцен: «Начнётся следствие о мёртвом теле какого-нибудь пьяницы, сгоревшего от вина и замёрзнувшего от мороза. И голова собирает, староста собирает, мужики несут последнюю копейку. Становому надобно жить; исправнику надобно жить, да и жену содержать; советнику надобно жить, да и детей воспитать, советник – примерный отец… Чиновничество царит в северо-восточных губерниях Руси и в Сибири; тут оно раскинулось беспрепятственно, без оглядки… даль страшная, все участвуют в выгодах, кража становится res publicа. Самая власть царская, которая бьёт как картечь, не может пробить эти подснежные, болотистые траншеи из топкой грязи. Все меры правительства – ослаблены, все желания искажены; оно обмануто, одурачено, предано, продано, и всё с видом верноподданнического раболепия и с соблюдением всех канцелярских форм».