Текст книги "Глаза Рембрандта"
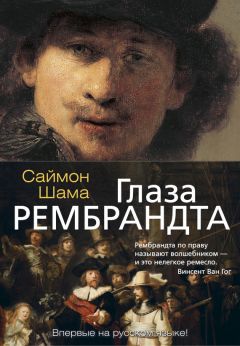
Автор книги: Саймон Шама
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 64 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
Иногда его аргументы звучат убедительно, иногда нет. Переговоры осложнило еще одно обстоятельство: когда корабль с грузом картин прибыл в Гаагу, выяснилось, что размеры полотен не соответствуют заявленным Рубенсом. Впрочем, подобная разница едва ли могла удивить хитрого старого лиса Карлтона, поднаторевшего в сделках с нидерландскими художниками: он наверняка знал, что единицы длины в разных провинциях и даже в разных городах приняты неодинаковые. Важнее было то, что в смиренном ремесленнике англичанин угадал страстного коллекционера. Не случайно к картинам живописец прибавил круглую сумму наличными, хотя и сетовал, что якобы и так уже истратил в этом году тысячи флоринов на постройку дома и что якобы, стремясь угодить «Вашей Светлости, все свое время отдавал ретушированию предназначающихся Вам картин и уже давно не притрагивался к собственным работам»[197]197
Письмо Рубенса Карлтону от 26 мая 1618 г., LPPR 65.
[Закрыть]. К июню посланник получил вожделенные картины, а Рубенс – вожделенные мраморы. Собрание действительно оказалось обширным и великолепным: содержимое двадцати девяти сундуков включало в себя погребальные урны, высеченные на камне надписи, таблички, а также бюсты и амуров в сопровождении дельфинов или псов. Когда в музей перенесли все, что удалось вместить, посетители смогли медлительно прогуливаться по галерее, пока перед их взором одна древняя эпоха сменялась другой, ухмыляющиеся сатиры – плачущей Ниобой, аллегории мира, справедливости и изобилия – целомудренной Дианой и разгневанным Юпитером. Вот перед ними разворачивался нескончаемый ряд мудрецов и просто властителей: Марк Агриппа и Марк Аврелий, Юлий Цезарь и Цезарь Август (смертный и бессмертный), Клавдий и Цицерон, Друз и Германик, Траян и Нерон, Калигула и Домициан, – непрерывная череда бюстов справедливых правителей и тиранов, четко очерченные носы императоров и грозно сдвинутые брови воинов, воплощения доблести сената и римских граждан в тускло поблескивающем мраморе[198]198
Перечень произведений искусства, обменянных Рубенсом у Карлтона, см.: Muller. The Artist as Collector. P. 82–83.
[Закрыть].
Эта гигантская сокровищница предназначалась одновременно для уединенного созерцания и для показа восхищенным знатокам. Как явствует из писем Рубенса другу, антиквару Николя-Клоду Фабри де Пейреску, он любил по вечерам беседовать в своей галерее с тенями давно ушедших единомышленников, а также изучать свою не менее впечатляющую коллекцию классических медалей и гемм: агатов, резных изображений слоновой кости, камей, сердоликов, – хранившуюся в стеклянных витринах в «преддверии» к Пантеону. Однако столь же несомненно, что гостям полагалось осматривать собрание художника (обычно они не заставляли себя упрашивать), а затем выражать удивление и восторг. Не исключено, что среди них попадались и простые смертные, которые падали духом, тщетно пытаясь вспомнить соответствующий фрагмент из Плутарха при виде того или иного римского бюста, и жаждали ненадолго сбросить бремя учености во внутреннем дворе или в саду. И на первый взгляд это замкнутое пространство, с маленьким гротом и фонтанчиком, притаившимся в уголке, с красивой стеной-портиком, с написанным красками фризом, проложенным вдоль стен внутреннего двора, представлялось желанным местом отдохновения после прохладного мавзолея Пантеона, учрежденного в память великих и достойных. Однако если Рубенс хотел лично показать гостям сад, то быстро разубеждал их в том, что прилегающий к дому участок создан для праздных увеселений. Нет, это было бы слишком большой удачей. На каждом шагу гостя по-прежнему подстерегали Назидание и Нравственное Совершенствование. Над боковыми арками портика Рубенс начертал цитаты из десятой сатиры Ювенала:
«Лучше самим божествам предоставь на решение выбор, / Что подходяще для нас и полезно для нашего дела; / Ибо взамен удовольствий дадут нам полезное боги, / Мы ведь дороже богам, чем сами себе […]»
«Надо молить, чтобы ум был здравым в теле здоровом. / Бодрого духа проси, что не знает страха пред смертью, / Что почитает за дар природы предел своей жизни, / Что в состояньи терпеть затрудненья какие угодно, – / Духа, не склонного к гневу, к различным страстям…»[199]199
Ювенал. Сатира X // Ювенал. Сатиры / Перевод Д. С. Недовича и Ф. А. Петровского. М.; Л., 1937. С. 83–84.
[Закрыть]
Ничего более на стене начертано не было. Однако читавшие Ювенала могли вспомнить, что далее следуют строки, в которых автор превозносит Геркулеса, выбравшего подвиги, а не чувственные наслаждения. «Я указую, что сам себе можешь ты дать; но, конечно, / Лишь добродетель дает нам дорогу к спокойствию жизни»[200]200
Muller. The Artist as Collector. P. 32. Русский перевод цит. по: Ювенал. Сатира X // Ювенал. Сатиры / Перевод Д. С. Недовича и Ф. А. Петровского. М.; Л., 1937. С. 84.
[Закрыть]. Сколькие из тех, кто стоял здесь, читая эти оптимистические и не лишенные ханжества расхожие советы, припоминали о Яне Рубенсе и украдкой усмехались?
К этому моменту наш гость едва держался на ногах от усталости, голова у него шла кругом от избытка ученых сведений, и он действительно мог ощутить, что из этого царства аллегорий ему не вырваться. Но переход из музея во внутренний двор все-таки сопровождался сменой оттенков смысла. Пантеон представлял Рубенса как публичное лицо: как деятельного гражданина, последователя Липсия, глубоко увлеченного историей и политикой и преданного возвышенному идеалу справедливого христианского мира. (Можно усмотреть горькую иронию судьбы в том, что в 1618 году, когда он устанавливал в нишах бюсты Цицерона и Сенеки, в Европе разразилась Тридцатилетняя война, вызванная религиозными и династическими причинами и сделавшая этот идеал при жизни Рубенса недостижимым.) Внутренний двор, напротив, олицетворял царство искусства, тоже зачастую служившего светским и религиозным властям, однако столь же серьезно вовлеченного в игру страстей и чувств[201]201
Светлана Альперс в своей книге, посвященной Рубенсу (Alpers Svetlana. The Making of Rubens. New Haven; London, 1995), считает нужным подчеркнуть исключительное значение для его творчества чувственного начала, которое он почерпнул в идеях Вергилия о плодородии природного мира. Подобная точка зрения кажется мне необычайно важной, поскольку вносит коррективы в господствующее представление о Рубенсе как об аскете-неостоике.
[Закрыть]. Отсюда и Геркулес, снова и снова появляющийся на полотнах Рубенса, почти альтер эго художника: дитя движимого чувственностью отца, но муж, на распутье избравший восхваляемый Ювеналом путь подвигов и добродетели. На стенах внутреннего двора Рубенс написал гризайлью фриз-обманку, представляющий эпизоды из античной мифологии и жизнеописаний древних художников. В одной сцене он изобразил опьяненного Геркулеса, охваченного безумной яростью; в припадке умоисступления он вот-вот убьет собственных детей. Разумеется, Рубенс нисколько не считал себя способным на подобные зверства. Однако многие из его величайших картин не чуждаются шокирующего насилия: на его холстах персонажам отрубают голову, вырывают с корнем язык и бросают собакам, откровенно насилуют женщин, пейзане и пейзанки без стеснения ощупывают друг друга и совокупляются. И он никогда бы не стал гениальным художником, если бы, наученный собственной чувственностью, не постиг всей власти демонов над человеческим телом.
От этих безумных и разрушительных желаний оберегали божества мудрости и красноречия, Минерва и Меркурий, стоящие на страже прямо наверху триумфальной арки во внутреннем дворе. По-гречески они именовались соответственно Афина и Гермес и воспринимались как единый, андрогинный оборонительный отряд, «Гермафина»; им надлежало ниспосылать художнику вдохновение и хранить его от зависти и порока. Щит Минервы со змееволосой головой Медузы в центре появляется во внутреннем дворе Рубенса неоднократно, в том числе в руках у другого его любимого античного героя, Персея. Образ Персея был важен для Рубенса, ведь миф о Персее косвенно был связан с мифом о рождении живописи. Его скакун, крылатый Пегас, родился из крови, хлынувшей из рассеченной шеи Медузы, когда Персей отрубил ей голову. А именно от удара Пегасова копыта на горе Геликон забил источник Иппокрены, в котором купались музы. Поэтому выходит, что источник творческого вдохновения питали и самая ядовитая кровь, и самая прозрачная вода; кроме того, Рубенс мог видеть удивительную картину Караваджо на этот сюжет. Сам он написал другой эпизод бурной жизни Персея, ныне хранящийся в Эрмитаже: спасение прикованной к скале Андромеды от морского чудовища, со всеми полагающимися атрибутами – щитом, украшенным головой Медузы, и крылатым конем. Однако во внутреннем дворе, который был превращен в своего рода манифест виртуозного искусства, он сделал почти невозможное: воспроизвел эту сцену в технике фрески на прочной стене, придав ей иллюзорный объемный облик холста, сушащегося на солнце. Из его писем Карлтону мы знаем, что так художник обычно и поступал, и нетрудно вообразить старинное поле для беления льна, на котором некогда выкладывали белоснежные полотнища, а теперь красуются холсты живописца: святой Себастьян, охота на львов, Вакх, – растянутые под открытым небом, чтобы поймать хоть чуть-чуть капризного бельгийского солнца, то выныривающего из-за туч, то вновь исчезающего в их пелене.

Якоб Харревейн по оригиналу Якоба ван Круса. Вид дома Рубенса и арочного портика. 1684. Гравюра резцом. Дом-музей Рубенса, Антверпен
Оптические иллюзии Рубенса столь виртуозно вводили зрителей в заблуждение, что, посмотрев на гравюры, где были изображены детали украшений внутреннего двора, реставраторы в сороковые годы XX века решили, будто «Персей и Андромеда» – настоящая картина, висящая на террасе, а остальной фриз – действительно скульптурный барельеф. Казалось бы, сам замысел картин-обманок не очень-то соответствует духу Рубенса Серьезного, воплощения изысканного вкуса. Однако игра иллюзий была частью хитроумного, замысловатого «высказывания» о природе живописи, которое Рубенс разместил по стенам внутреннего двора. Некоторые сцены ложного фриза отсылают к жизнеописаниям художников древности и прославляют добродетели, особенно близкие Рубенсу. В одной из них Зевксид, которого тоже восхваляли и одновременно порицали как создателя оптических иллюзий, избирает черты кротонских дев (чело одной, грудь другой), чтобы составить из них одну идеальную обнаженную. Выходит, это истинный Питер Пауль Рубенс, олицетворение разборчивости. А читавшие Плиния и Лукиана могли вспомнить, что Зевксида превозносили одновременно как мастера монохромных иллюзий-обманок (подобных гризайли Рубенса!) и виртуоза, способного смело моделировать форму благодаря цветовым контрастам, а не контуру и очертаниям. Выходит, это опять-таки истинный Питер Пауль Рубенс, непревзойденный колорист. Другая сцена фриза воспроизводит «Клевету» Апеллеса, аллегорическую картину, написанную древнегреческим художником в защиту от ложных обвинений в участии в политическом заговоре. В ней, как и следовало ожидать, персонифицированы пороки: коварство, зависть, ложь, легковерие, – они выстроились перед властителем, которого, по преданию, Апеллес представил на картине с ослиными ушами. Что ж, опять-таки Рубенс, воплощение безупречной честности.
Но точно ли этот образец добродетели, этот Апеллес, Геракл, Зевксид, Персей, был простым смертным, живым человеком?
Выйдите из-под триумфальной арки, пройдите по дорожке в сад, и у вас исчезнут всякие сомнения. Ибо перед вами откроется третье царство Рубенса: уголок его земного рая, его обнесенный стенами сад, «hortus conclusus», домашний Эдем, сплошь в изящных узорах из низких изгородей самшита и тиса, словно вышитых на шелковой шпалере. Боги и герои не были изгнаны из этого приюта, но представали здесь скорее милостивыми и сострадательными. Их маленький храм, летний павильон с колоннами, был вотивным святилищем, посвященным природе, наподобие тех, что, по мнению Рубенса, возводили у себя в имениях Гораций, Плиний или Цицерон. В нем царила мягкосердечная Флора, богиня весны, супруга Зефира, изобильно одаривающая своих адептов цветами. Рядом с нею с довольным видом опирался на палицу Геракл, опять-таки скопированный Рубенсом с оригинала Фарнезе, которому предстоит преследовать его всю жизнь; Геракл наконец-то почиет от подвигов и тяжких трудов.

Питер Пауль Рубенс. Аллегория войны и мира. 1629–1630. Холст, масло. 198 × 297 см. Национальная галерея, Лондон
По мере того как Рубенс делал блестящую карьеру, триумфально добиваясь все больших успехов, его сад делался для него все более важным местом и расширялся, ведь Рубенс приобретал все новые земельные участки на набережной Ваппера. В двадцатые годы XVII века он воспринимался уже не как местный Апеллес, а как живописец с мировым именем, величайший художник своего времени, и коронованные особы, от королевы-матери Марии Медичи до Карла I Английского, пожелав увековечить славу своих династий, не раздумывая, приглашали именно Рубенса. Испытывая на себе капризы властителей, всю печально известную тяжесть их нрава, он неизменно проявлял такую бездну деликатности и дипломатического такта, что вскоре ему стали не только заказывать картины, но и доверять ведение политических переговоров. И хотя поначалу в Мадриде раздавались сетования, что невместно-де представлять испанскую корону человеку, живущему трудами рук своих, хула смолкла в 1629–1630 годах, едва только Рубенс успешно заключил мирный договор между Англией и Испанией.
Этот документ стал венцом его политической карьеры. Заключение мирного договора принесло ему почет и уважение облеченных властью, а кроме того, душевный покой. Его трижды посвятили в рыцари: в Брюсселе, в Лондоне и в Мадриде. Однако не менее важной была для Рубенса и возможность постоять в Пантеоне, глядя в каменные глаза своих предшественников-философов: Цицерона, Сенеки, Марка Аврелия – и осознавая, что, подобно им, он приложил все усилия, чтобы добиться почетного мира. Перед отъездом из Лондона он преподнес в дар королю Карлу I картину под названием «Аллегория войны и мира». На этом полотне Марса решительно изгоняет Мудрость в обнадеживающем облике Минервы с закатанными рукавами. Пышногрудая богиня мира кормит худенького Плутоса, бога богатства, козлоногий сатир раздает желающим плоды процветания, извергнутые рогом изобилия, а леопард лежит на спине, словно котенок, теребя низко свисающие плети виноградной лозы. Над их головами рассеиваются мрачные грозовые тучи, а в просвете меж ними, над шлемом Минервы, уже виден лазурный небосвод.

Питер Пауль Рубенс. Бедствия войны. Ок. 1637. Холст, масло. 206 × 342 см. Палаццо Питти, Флоренция
Спустя восемь лет Рубенс написал картину на тот же сюжет, однако проникнутую совершенно иным настроением. На сей раз голубые небеса заволакивает темный дым. Из распахнутых ворот храма Януса, прочно запиравшихся во времена мира, бросается Европа в короне с высокими зубцами. А Венера, несмотря на традиционную свиту амуров и свои подчеркнуто пышные прелести, проигрывает битву за благосклонность Марса фурии Алекто. Как писал Рубенс Юсту Сустермансу, своему агенту при дворе Медичи во Флоренции, для которых, при условии предоставления охранной грамоты, предназначалось полотно:
«Рядом изображены чудовища, олицетворяющие чуму и голод, неразлучных спутников войны. На земле спиной к зрителю лежит женская фигура с разбитой лютней, аллегорически представляющей гармонию… [А] еще от ужасов пытается спастись мать с младенцем, символ плодородия, милосердия и чадолюбия, сметаемых вихрем войны, которая калечит и уничтожает все живое…»[202]202
Письмо Рубенса Сустермансу от 12 марта 1638 г. LPPR 408–409.
[Закрыть]

Питер Пауль Рубенс. Сад любви. Ок. 1630–1632. Холст, масло. 198 × 283 см. Прадо, Мадрид
Рубенс жестоко обманулся в своих надеждах на примирение враждующих конфессий и правящих династий Европы. Заключенный между Испанией и Англией мир, который, как уповал Рубенс, сделается своего рода прелюдией для соглашения с Голландской республикой и последующего воссоединения католических и протестантских Нидерландов, не принес желаемого результата. В Антверпене вновь воцарился застой. Альбрехт и Изабелла, покровители Рубенса, умерли, и, хотя Рубенсу поручили создать грандиозные декорации для празднеств по случаю воцарения их преемника, кардинала-инфанта Фердинанда, художник утратил веру в то, что честный человек может что-то изменить в этом растленном и жестоком мире. «По природе и личной склонности я мирный человек, убежденный противник всяческих разногласий, судебных тяжб и споров, как публичных, так и частных…» – писал он своему другу Пейреску в мае 1635 года, а немногим позже выражал опасение, что если король Англии, папа и «прежде всего Господь Бог не предотвратят кровопролития, то из искры, которую не сумели тотчас затушить, разгорится пламя и поглотит всю Европу». Но только пожилой, печальный, умудренный опытом Рубенс мог добавить: «Предоставим же государственные дела тем, кому положено ими заниматься»[203]203
Май 1635 г., LPPR 398; август 1635 г., LPPR 400–401.
[Закрыть].

Питер Пауль Рубенс и мастерская. Рубенс в саду своего дома с Еленой Фоурмент. Ок. 1631. Дерево, масло. 97 × 131 см. Старая Пинакотека, Мюнхен
То, чего не могли дать ему история и политика, Рубенс все чаще стал искать в природе и в личной жизни. Он чаял спасения в любви. В 1635 году он продал мраморы Карлтона герцогу Бэкингему, оставив себе лишь самые любимые древности: в частности, Псевдо-Сенеку, коллекцию гемм, а также небольшую античную чашу, из которой его вторая жена Елена Фоурмент ела во время беременности, потому что чаша была «легкой и удобной»[204]204
LPPR 393.
[Закрыть]. Спустя четыре года после смерти Изабеллы Брант он снова решил жениться, поскольку, как он объяснял Пейреску, он «еще не ощущал склонности к аскетизму… Я взял в жены девицу из честного, но всего лишь буржуазного семейства, хотя все тщились убедить меня породниться с придворным кругом. Однако я опасался гордыни, прирожденного порока аристократии, особенно неприятного у женского пола, и потому избрал спутницу жизни, которая не станет краснеть, увидев меня с кистями в руках»[205]205
Ibid.
[Закрыть].
Елена была дочерью торговца шелком Даниэля Фоурмента, которого Рубенс, несомненно, знал, ведь другая его дочь вышла за одного из братьев Изабеллы Брант. Елена обвенчалась с Рубенсом, едва достигнув шестнадцати. Ее супругу было пятьдесят три. Неудивительно, что, когда он уже ждал суровых зимних морозов, в его жизни вдруг наступила весна. Хотя в Европе, возможно, и воцарилась мерзость запустения, плевелы и тернии, его задний двор являл собою царство мира, порядка и изобилия. В пышном «Саду любви», изображенном на одноименной картине, которая находится сегодня в Прадо, художник и его юная жена самозабвенно танцуют на фоне портика, декорированного так же, как и портик в его собственном поместье, – колоннами, увитыми лентами, фронтоном и замковым камнем в виде раковины гребешка. Рубенс переживал поздний всплеск мужественности, и одновременно его сады любви все росли и росли, с трудом сдерживая необузданность человеческих страстей и буйство пышной растительности. Часто его нимфы и амуры представляются порождением царства не только фауны, но и флоры, они словно созданы из сочных плодов и изобильных соцветий, щедро оплодотворенных бесконечным потоком творческого вдохновения, которое овладело живописцем. Миру, снедаемому ложью и гибелью, Рубенс отвечал, воспевая чувственность в поистине эдемских масштабах и восхваляя неудержимое цветение. В глубине рубенсовского Пантеона Сенеке, образцу умеренности, пожалуй, сделалось не по себе.
Из надежно укрытого святилища позади дома были изгнаны злоба и безумие, правившие политической жизнью. Однако обнесенный стенами сад, «hortus conclusus», Рубенса был не просто приютом созерцателя, а неким идеальным миром, только в его ботаническом воплощении. В нем произрастали виды совершенно различные, но гармонично соседствующие друг с другом, бесконечно многообразные, но так или иначе взаимосвязанные благодаря утонченному и возвышенному творческому замыслу Создателя. Выходит, сад Рубенса задумывался не как место для игр и покоя, дополнение к дому, а как его логическое завершение, ведь в нем, подобно редкостным растениям, Рубенс пестовал и холил идеи, образы и представления. Сад даже по-своему воплощал одно из наиболее прочных и неколебимых его убеждений – веру в то, что прошлое и настоящее, живые и мертвые, существа и сущности, на первый взгляд разделяемые бездной, в действительности неразрывно связаны, ибо являют, с точки зрения всеведущего Творца, часть совершенного целого. Подобно другим садоводам, стремящимся к энциклопедическому универсализму, Рубенс воспринимал свой клочок земли как приют от бурь, в котором за высокими стенами, в безопасности удалось объединить рассеянные по всей земле совершенно различные виды. В нем на клумбах росли тюльпаны, а в кадках – апельсины, экзотическое сочеталось с домашним, золотые яблоки Гесперид – с турецким цветком, прижившимся на нидерландской почве. А если поверить картине, на которой Рубенс изобразил себя и свое семейство прогуливающимися по саду, выходит, что он держал павлинов и индеек, азиатских и американских птиц, важно расхаживающих бок о бок по садовым дорожкам. В одном из своих последних писем из замка Стен Рубенс просил своего протеже, скульптора Лукаса Файерба, напомнить садовнику, чтобы тот прислал ему первый урожай инжира и груш из антверпенского сада.
Таким образом, Рубенсу удавалось путешествовать по всему миру, не покидая дома, повторять путь Геракла от царства Гесперид до Востока, избегая тягот и опасностей. Однако, если с возрастом, что неудивительно, он все больше превращался в домоседа, его слава триумфально шествовала по миру. От Испании до Прибалтики его превозносили как чудо своего времени, образец таланта и добродетели, живописца одновременно благочестивого и утонченного, неутомимого в трудах и обладающего безупречными манерами. Никто ничем не мог его упрекнуть, кроме разве что голландца Лукаса Ворстермана, его бывшего гравера, а о нем ходили слухи, что он не в своем уме.
V. Рубенс на экспорт
Да кто такой этот Баудиус и чего он хочет?
В октябре 1611 года совершенно неожиданно Рубенс получил из Голландии высокопарное послание с соболезнованиями по случаю кончины, или, как предпочел выразиться автор, «преждевременного ухода в обитель блаженных», его брата Филиппа. Подобная фраза звучала вполне естественно в устах Доминика Баудиуса – по крайней мере, если вспомнить, что он был профессором риторики, а также истории и права в Лейденском университете, то есть возглавлял ту же кафедру, что и в 1585–1591 годах Юст Липсий. Возможно, поэтому Баудиус полагал, будто его что-то связывало с Филиппом Рубенсом, хотя и не решился говорить об этом прямо. Боже упаси, он никогда не осмелился бы утешать убитого горем брата цитатами из Священного Писания, поскольку едва ли Рубенсу требовались подобные наставления, однако он привел в письме приличествующий случаю фрагмент из Гомера, а также благочестивую банальность, что время-де, а не разум «постепенно исцелит нас от боли утраты и утишит нашу скорбь»[206]206
CR 2: 45.
[Закрыть]. Но это было лишь предварительное зондирование почвы. Читая далее, Рубенс понял, что на самом деле его корреспондент мечтает с ним подружиться и готов безудержно льстить ему, если так сумеет завоевать его доверие. Поэтому Баудиус неизменно торжественно обращался к художнику как к «Апеллесу нашего времени», которого рано или поздно оценит по достоинству новый Александр. А дабы Рубенсу не помнилось, будто дружбу ему предлагает какой-то ничтожный выскочка, Баудиус позволил себе со всей возможной скромностью и смирением утверждать, что занимаемый им пост не вовсе низок, ибо, помимо университетских должностей, он назначен еще и официальным историографом «Генеральных штатов Голландии, этой северной Спарты»[207]207
Ibid. 46.
[Закрыть].
Причиной эпистолярных расшаркиваний и поклонов Баудиуса стал соблазнительный слух, будто Рубенс собирается с визитом в Голландскую республику, а он страстно мечтал поразить факультетских коллег «дружбой» с гением своего времени. На прощание он беззастенчиво перечислил целый ряд имен близких приятелей и родственников Рубенса: Отто ван Вена, Воверия, тестя Рубенса Бранта – и попросил передать им поклон, словно они были и его близкими друзьями и могли замолвить за него словечко, если ошеломленный Рубенс пожелает у них о нем осведомиться.
Без сомнения, Рубенс отвечал, как было ему свойственно, безукоризненно вежливо, но кратко и сухо. Однако Баудиус ни за что не хотел оставить его в покое. Весной следующего, 1612 года он вновь появился из небытия, рассыпаясь в извинениях, что вот-де не писал столь долго оттого, что «придворные обязанности отнимали все мое время, заставляя пренебрегать приятным долгом дружества»[208]208
Ibid. 53.
[Закрыть]. Он вновь дерзко притязал на приятельство с Рубенсом и не постеснялся даже поделиться радостной вестью о том, что ныне, пятидесяти лет от роду, вступил во второй брак, и предположить, будто в ознаменование сего торжественного события Рубенс может подарить ему картину! Дабы не предстать в глазах Рубенса совсем уж навязчивым, он взамен прислал несколько четверостиший, восхваляя его полотна, «созданные кистью столь совершенной, что Природа сама невольно ликует, побежденная талантливейшим соперником». Далее Баудиус в стихах описывал три картины Рубенса, в том числе вселяющего трепет «Прометея». Вероятно, он видел это полотно в Голландии, потому что точно и с явным наслаждением перечислял его детали: «Беспощадный орел непрестанно терзает его печень… / однако, не насытившись своим жестоким пиром, впивается когтями в лицо и в бедро жертвы… / кровь бьет струей из пронзенной груди, пятная любое место, где хищная птица пожелает утвердить свои когти… / А орлиные очи сверкают безумным блеском… / Такие творения не под силу ни Зевксиду, ни Апеллесу. Никто не превзойдет тебя, один лишь у тебя соперник – ты сам»[209]209
Ibid. 58.
[Закрыть].

Питер Пауль Рубенс и Франс Снейдерс. Прометей прикованный. 1611. Холст, масло. 242,6 × 209,5 см. Художественный музей, Филадельфия
«Я не создан для лести, – неубедительно уверяет Баудиус, – подобный порок не должен пятнать благородное сердце, но мне надлежит искренне высказать то, что я думаю: эти шедевры будут жить до тех пор, пока искусство прославляют на земле, чтя в нем ровню природе и сущность красоты». И хотя желание получить картину в обмен на стихотворение в данном случае кажется не совсем оправданным, Баудиус полагался на то, что Рубенс, эрудит и ценитель античной литературы, различит здесь аллюзию на родство поэзии и живописи, о котором писали еще Аристотель и Гораций, и удостоит его согласием. А поскольку он знал (или уверял, что знает) Отто ван Вена, то наверняка видел на страницах его альбома эмблему, основанную на максиме «Cuique suum stadium» («Каждому – свое поприще»), которая утверждает равенство поэзии и живописи[210]210
Veen Otto van. Q. Horatii Flacci Emblemata. Antwerp, 1607. P. 138–139; см. также: Müller-Hofstede ustus. Rubens und die Kunstlehre des Cinquecento: Zur Deutung eines theoretischen Skizzenblatts im Berliner Kabinett // Peter Paul Rubens. Cologne, 1977. S. 55–56; Filipczak. Picturing Art. P. 32–34.
[Закрыть]. На гравюре поэт с подобающе задумчивым видом сидит за столом, размышляя над незавершенной строкой, пока художник за мольбертом пишет сфинкса[211]211
На выполненном несколько ранее эскизе маслом в технике гризайли, ныне находящемся в Британском музее, ван Вен подчеркнуто уравнял фигуры поэта и живописца, представив их обоих погруженными в свои занятия, а поэта – выводящим на свитке изречение: «Pictoribus atque poetis [semper fuit aecqua potestas] quid liet audendi» («Живописцам и поэтам в равной мере позволено творить как пожелают»).
[Закрыть].
Эта упорная самореклама не принесла особых результатов. Баудиус не сумел вкрасться в доверие к Рубенсу и не получил вожделенной картины. Спустя несколько месяцев после вступления во второй брак он умер, оставив том стихотворений, включая панегирик в честь фламандского живописца. Однако возможно, что как раз перед смертью Баудиус все-таки встретился с предметом своих льстивых восхвалений, ведь Рубенс и в самом деле отправился в Голландию в июне 1612 года. Целью его было не свести тесное знакомство с интеллектуалами, а найти гравера, который мог бы делать репродукции его наиболее востребованных картин, особенно «Воздвижения Креста». Разумеется, недостатка в умелых рисовальщиках или граверах не знал и Антверпен. В первую очередь, не покладая рук, без устали снабжали гравюрами книги религиозного содержания, Библии и жития святых Вириксы. Кроме того, Рубенс достаточно полагался на местные, антверпенские таланты, чтобы поручить гравированные репродукции своих ранних картин братьям Теодору и Корнелису Галле. Однако, если какой-нибудь путешественник, прибывший с севера, стал бы похваляться, что в целой Фландрии не найдется равного великому рисовальщику Гольциусу из Харлема, возразить ему было бы весьма и весьма непросто. Существовала и другая причина, по которой Рубенс стал искать гравера на севере. Голландцы отличались предприимчивостью (кое-кто сказал бы, что и беспринципностью) и потому не могли удержаться, чтобы не тиражировать лучшие работы Рубенса, ведь на местном и на международном рынке подобные копии расходились мгновенно. В XVII веке Европа не знала законов, регулирующих вопросы авторского права, и потому воспрепятствовать хождению на рынке пиратских гравюр было невозможно.
«Почему бы не взять этот бизнес под свой контроль, – вероятно, подумал Рубенс, – почему бы не завести собственных голландцев?» Еще до поездки на север Рубенс одалживал у Отто ван Вена его гравера Виллема ван Сваненбурга и поручал ему гравировать несколько знаменитых своих картин на библейские сюжеты: «Лот с дочерьми» (сладострастный старец во хмелю) и «Ужин в Эммаусе» (дюжие плебеи, в изумлении вскакивающие со стульев)[212]212
Граверы, копии картин, вопросы авторского права подробно обсуждаются в работе: Gelder J. G. van. Rubens in Holland in de zeventiende eeuw // Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 3 (1950–1951): 103–150.
[Закрыть]. В многочисленном и разветвленном семействе Сваненбурга Рубенс, возможно, видел некое подобие собственного клана. Сваненбурги были уроженцами Лейдена, юристами и городскими чиновниками и издавна дружили с Венами. Многие из них, в том числе Виллем, служили офицерами в ополчении. Исповедуя кальвинизм, они не отличались ни чрезмерной религиозной горячностью, ни фанатизмом и потому не считали, что поддерживать отношения с папистами из южных провинций равносильно измене. Они приветствовали перемирие, и их нисколько не поразил выбор Генеральных штатов, которые заказали для своего зала собраний цикл из двенадцати полотен, представляющих восстание батавов против римлян, классический прообраз их собственного возмущения против испанцев, не кому-нибудь, а католику Отто ван Вену.
Увы, одаренный Виллем ван Сваненбург умер еще молодым в августе 1612-го, вероятно прохворав бо́льшую часть этого года. Осознавая, что его соавтору осталось недолго, Рубенс, возможно, захотел узнать у него, кого именно он прочит себе в преемники. Или он пожелал осмотреть Лейден, эту цитадель кальвинизма, увидеть университетские аудитории, в которых некогда читал лекции Липсий, потыкать тростью клочок земли, где некогда он разбил огород с целебными травами? Поглядеть, как кружатся под легким бризом крылья ветряных мельниц, вот, например, той, возле старинных городских ворот Витте-Порт? Впрочем, он действительно добрался в июне до Харлема и навестил Хендрика Гольциуса. Хотя Рубенса и Гольциуса разделяло около двадцати лет, многое их объединяло. Обоим в юности выпало на долю странствовать на границе Германии и Нидерландов, где шла непрестанная ожесточенная война. Они оказались по разные стороны конфессионального водораздела, и это было весьма важно. В семидесятые годы XVI века, в самые черные дни, когда семейство Рубенса пребывало в изгнании, Гольциус выпускал пропагандистские гравюры, прославляющие Вильгельма Молчаливого как нового Моисея, который выводит свой народ из рабства и спасает от тирана. А когда Вильгельм погиб от рук убийцы, именно Гольциусу было поручено увековечить его погребение, и он изобразил траурную церемонию на огромном офорте: для этого офорта потребовалось ни много ни мало двенадцать досок, а в напечатанном виде его длина составила более пятнадцати футов. Но все же Рубенс и Гольциус говорили на одном языке. Оба они терпеть не могли фанатиков, оба отличались ученостью, любили поэзию и ностальгически вспоминали о Риме. И наконец, Гольциус и его жена, как и Рубенс, исповедовали католицизм. А потом, Рубенс восхищался фантастически замысловатой и театральной манерой Гольциуса, вдохновляемой той же мощной эмоциональной составляющей, что и его собственная живопись.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































