Текст книги "Глаза Рембрандта"
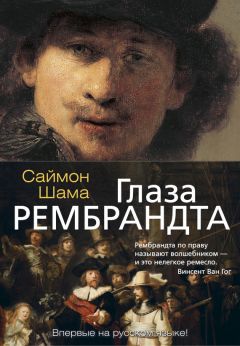
Автор книги: Саймон Шама
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 64 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]

Питер Пауль Рубенс. Автопортрет с мантуанскими друзьями. Ок. 1602. Холст, масло. 77,5 × 101 см. Музей Вальрафа-Рихарца, Кёльн
Рубенс, с его непринужденными манерами, глубокими знаниями, лишенными и тени педантизма, и безупречными связями, оказался в самом средоточии весьма изысканного общества. Доктор Фабер увидел в нем не только живописца, но и ученого, не уступающего своему брату, – «просвещенного ценителя античных бронз и мраморов»[118]118
Ibid. P. 8.
[Закрыть]. Хотя антверпенское происхождение и могло сделаться помехой его карьере во Флоренции, где к фламандским живописцам по-прежнему относились пренебрежительно, как к умелым ремесленникам, в Риме оно было почти преимуществом. Печатные мастерские его родного города, включая типографию друга его детства Бальтазара Морета, уже выпускали альбомы с видами римских древностей и труды, посвященные истории раннего христианства, которые, как уповали кардиналы, возродят религиозное рвение католиков. А эрцгерцог Альбрехт слыл в Риме образцом просвещенного благочестия.
Именно Альбрехт впервые предоставил Рубенсу возможность зарекомендовать себя достойным автором картин на религиозные сюжеты. Взяв под свое покровительство базилику Санта-Кроче ин Джерусалемме (базилику Святого Креста Иерусалимского), он сделался щедрым жертвователем на нужды не просто очередной приходской церкви, но одного из семи римских мест паломничества, к тому же овеянного легендами. Церковь Святого Креста Иерусалимского, по преданию, основал в 320 году первый римский христианский император Константин специально для того, чтобы разместить там внушительный улов реликвий, привезенный его матерью, святой Еленой, из паломничества в Иерусалим. Наиболее изобретательная из раннехристианских любителей покопаться в мусоре, она, как считается, привезла с самого места распятия не менее трех фрагментов Животворящего Креста, один из гвоздей, которым были пронзены руки и ноги Спасителя, шип тернового венца (который, вероятно, не так-то легко было разглядеть в скопившемся на Голгофе хламе), подлинную табличку с надписью «INRI» («Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum», «Иисус Назарянин, Царь Иудейский») и самую впечатляющую свою находку – несколько комьев земли с Голгофы, пропитанных кровью Христа.
Эрцгерцог Альбрехт не нашел лучшего способа заслужить признательность нового папы, Климента VIII, как выступить щедрым донатором и заказать для церкви Святого Креста Иерусалимского религиозные картины, которые могли бы послужить ей украшением. А сколь мучительно было обнаружить, что фрагменты истинного креста, хранителем коих ему надлежало выступать, продавали в Риме уличные разносчики! А еще больше скомпрометировал его тот факт, что золотых дел мастерам не заплатили за работы, выполненные в церкви. Подумать только, а ведь он когда-то был епископом и кардиналом! Естественно, что он ухватился за предложение своего посла в Риме восстановить репутацию, заказав новый запрестольный образ и парные картины для двух приделов на тему обретения святой Еленой бесценных реликвий. А поскольку посол оказался не кем иным, как еще одним Ришардо – сыном бывшего работодателя Филиппа, члена Тайного совета, и братом его нынешнего попутчика Гийома, неудивительно, что он предложил кандидатуру Питера Пауля, и все заинтересованные стороны сошлись на том, что это вовсе не пример непотизма, а дружество в действии.
Теперь Рубенс непосредственно применил на практике столь долго накапливаемые знания и умения. Возможно, оттого, что он слишком тщательно и добросовестно воспроизвел на одной картине все аллюзии и отсылки к этому событию христианской истории, все его известные детали (и не сумел вообразить данную сцену как органическое целое), она кажется нагромождением подробностей, а не стройной композицией. Фигура святой Елены, напоминающая «Святую Цецилию» Рафаэля, была в значительной мере скопирована с античной скульптуры, которую Рубенс обнаружил в развалинах Сессория и которая изображала римскую матрону, к вящему удобству живописца овеянную благочестивой славой: согласно легенде, она приняла христианство и потому тотчас же стала почитаться истово верующими. Облаченная в приличествующие случаю одеяния, одновременно, как пристало христианке, скромные и вместе с тем не лишенные аристократической пышности, святая Елена стоит возле Триумфальной арки, держа в руке скипетр, знак императорской власти. И арка, и скипетр символизируют победу новой веры над языческой религией прежней империи, детали особенно знаменательные в церкви Святого Креста, ведь она была возведена на руинах Сессория, бывшей виллы императора Септимия Севера. Учитель Филиппа Рубенса Юст Липсий опубликовал трактат «О Кресте» («De Cruce»), провозглашающий культ Святого Креста как символа искупления людских грехов, а запрестольный образ кисти Питера Пауля продолжал традицию, согласно которой именно эта церковь явилась местом, где язычество было искуплено принятием новой веры. Правой рукой Елена, мать императора, опирается на огромный крест, вокруг коего резвятся путти – кто с монаршей державой в ручках, кто с предметами, откопанными ею в Иерусалиме: терновым венцом или табличкой, прибитой над головой Спасителя. Рубенс явно впервые осознал всю важность соотношения запрестольного образа и его непосредственного архитектурного окружения. Не случайно он «обрубает» крест, словно указывая созерцателю, что тот выходит за пределы пространства картины на потолок церкви, где воспроизведен вторично, уже в мозаике. Туда же, к этому невидимому навершию креста, устремлены возведенные горе очи Елены. На заднем плане и слева от святой витые «соломоновы столпы», украшенные виноградной лозой и, по легенде, повторявшие очертания столпов Иерусалимского храма (несколько якобы подлинных экземпляров которых находились в соборе Святого Петра), подчеркивают связь древнего Святого града и нового.

Питер Пауль Рубенс. Обретение истинного креста святой Еленой. 1602. Дерево, масло. 252 × 189 см. Часовня муниципального госпиталя, Грасс
Вернувшись из очередного ничтожного похода против турок и услышав об этих спиральных колоннах, не возомнил ли себя Винченцо новым Соломоном? Он совершенно точно был осведомлен во всех подробностях о работе Рубенса для церкви Святого Креста Иерусалимского, ведь Ришардо отправил ему послание, испрашивая для художника позволение пробыть в Риме подольше, чтобы он успел завершить начатое. Несколько лет спустя Рубенс написал для главной часовни, «capella maggiore», мантуанской церкви иезуитов «Поклонение Троице» с герцогом и всем его семейством (включая его покойного и неоплакиваемого отца, с которым тот непостижимым образом примирился по крайней мере на этом, исполненном набожности, полотне). При этом Рубенс поместил центральных персонажей, герцогов и их супруг, на террасе с балюстрадой, а обрамлением для нее избрал опять-таки напоминающие театральные декорации «соломоновы столпы», столь высокие, что кажется, будто они соединяют небо и землю.

Питер Пауль Рубенс. Поклонение Троице герцога Мантуанского и его семейства. Ок. 1604–1606. Холст, масло. 190 × 250 см. Палаццо Дукале, Мантуя
Разумеется, создать атмосферу благочестия вокруг такого семейства, как Гонзага, было непросто. В работе над картиной Рубенс опирался на венецианскую традицию, согласно которой дожа и его близких часто изображали в роли донаторов в одном визуальном пространстве со святыми или даже с Девой Марией, а композицию скопировал с великого портрета семейства Вендрамин кисти Тициана. Однако венецианцы обрели печальную известность своим пренебрежением христианской догмой, а Тридентский собор сформулировал строжайшие принципы, касающиеся изображения небесных видений, а также общения смертных и божественных персонажей в пространстве одной картины. В частности, Тридентский собор объявил, что видения Троицы могут быть дарованы лишь святым и апостолам, к каковым, мягко говоря, нельзя было причислить представителей семейств Гонзага и Медичи, даже искренне набожную Элеонору Габсбургскую, мать Винченцо. Однако картина Рубенса предназначалась для церкви Сантиссима Тринита, Святой Троицы, а по очевидным причинам Винченцо страстно желал предстать в глазах общества покровителем мантуанских иезуитов. Поэтому искать хитроумное решение он предоставил Рубенсу, к 1604 году уже признанному мастеру исторического жанра, наделенному богатым воображением. И Рубенс нашел выход: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой представлены словно бы на шпалере или гобелене, и потому семейство Гонзага преклоняет колени не перед самой Святой Троицей, а перед ее изображением, которое чудесным образом точно оживает на поверхности ткани. В этой картине Рубенс обратился и к другой местной традиции, вспомнив о фламандских шпалерах, не знающих себе равных ни в Северной, ни в Южной Европе по великолепию и яркости. Однако образы Святой Троицы отнюдь не кажутся «ткаными» или сколько-нибудь условными: они созданы из плоти и столь же телесны, сколь и земные донаторы, вот разве что лики их сияют, как и пристало божественным сущностям. Этим блестящим вдохновенным приемом, «ingenium», Рубенс тактично разделил смертный и нетленный миры, одновременно показав, что разницы между презренным ремесленным искусством ткачества и возвышенным искусством живописи не существует. Именно она, по мнению Микеланджело и Вазари, отличала и всегда будет отличать фламандского «кустаря» от итальянского художника, усердный, но туповатый труд от благородного вдохновения, и не в последний раз Рубенс торжествующе развеял этот предрассудок.
III. Дареные кони
К лету 1602 года, когда братья наконец встретились в Вероне, Питер Пауль уже три месяца как вернулся на службу к герцогу. Вероятно, он воспользовался возможностью и решил выговориться Филиппу, сетуя на необходимость выполнять бесконечные поручения Гонзага. Не случайно Филипп отправил ему сочувственное письмо, в котором высказывал опасения по поводу его «благодушия, не позволяющего отказать подобному принцу, который постоянно требует от тебя все большего и большего. Впрочем, крепись и будь готов сражаться за свободу, о коей и не слыхивали при мантуанском дворе. Ты имеешь на это полное право».
Легко сказать. Напутственные слова Филиппа были заимствованы прямо из стандартного арсенала изречений о возвышенной невозмутимости пред лицом злобных и жестоких правителей – изречений, столь ценимых неостоиками. Однако любимым философом всех учеников и последователей старика Липсия был Сенека, автор трагедий и сам трагический актер на сцене жизни, готовый выполнить любое желание своего коварного повелителя Нерона. Он даже предпочел совершить самоубийство, лишь бы не причинить неудобство императору и избавить его от угрызений совести. Хотя Питер Пауль и был благодарен брату за преданность и сочувствие, он еще не достиг того успеха и не обрел той независимости, чтобы столь дерзко самоутверждаться. А заказ, над которым он работал в Мантуе в 1602 году, в любом случае был вполне достоин его дарования: ему предстояло написать цикл эффектных и величественных исторических картин на темы «Энеиды», стихотворного эпоса Вергилия, великого поэта и уроженца Мантуи. В этом цикле Рубенсу еще далеко не удается достичь того сочетания героического драматизма и чувственной плавности, которое впоследствии станет «фирменным знаком» его лучших исторических полотен. Многочисленные заимствования у Рафаэля, Тициана, Веронезе, Мантеньи и даже Джулио Романо свидетельствуют, что Рубенс переносит на холст черты той или иной индивидуальной манеры, но органического собственного стиля составить из них не может, всюду виднеются «швы» и «торчащие нитки». Однако в отдельных фрагментах этих крупных композиций под спудом многочисленных визуальных аллюзий различима большая творческая свобода, большая уверенность, словно сейчас, в свои двадцать пять лет, Питер Пауль уже не преклоняет почтительно голову перед итальянскими мастерами, а без страха смотрит им в глаза как равным. Так, взор Юноны в «Совете олимпийских богов» горит гневом и ревностью, она, негодуя, вскидывает руку, показанную в идеальном ракурсе, ее тело облачено в свободный травянисто-зеленый хитон, и все эти детали, взятые вместе, создают в многофигурной композиции ощущение напряженности, словно Юнона посылает отравленную стрелу прямо в сердце своей ненавистной соперницы, белокурой полуобнаженной Венеры, которая любуется собственной красотой одновременно тщеславно и вяло. Это жест художника, не боящегося идти на серьезный риск и помериться силами со знаменитостями. А когда весной 1603 года мы наконец слышим собственный голос Рубенса в целой череде писем, отправленных им статс-секретарю герцога Аннибале Кьеппио, оказывается, что говорит он на удивление откровенно и уверенно, и это вполне уместно, принимая во внимание предстоящее ему путешествие.
Поначалу казалось, что молодому художнику оказывают честь, а не требуют от него невозможного. 5 марта 1603 года герцог написал своему послу в Испании Аннибале Иберти, что его придворный художник Рубенс доставит королю Филиппу III и его первому министру герцогу Лерме (который фактически правил страной) множество удивительных драгоценных даров. Хотя герцог славился непомерным, безумным расточительством, в данном случае он предпринял идеально рассчитанный дипломатический маневр. На всем Апеннинском полуострове, от Милана, владения испанских Габсбургов на севере, до принадлежавшего им же королевства Неаполитанского на юге, главной силой была испанская корона. Несмотря на все свои недостатки, Винченцо был отнюдь не глуп. Он вполне отдавал себе отчет в том, сколь важную роль в бесконечных разногласиях Испании и Франции играет Мантуя. Теперь, когда на испанский престол взошел новый король, Винченцо забеспокоился, как бы его герцогство не сочли слишком слабым и ненадежным в выборе союзников, чтобы предоставить ему безусловную свободу действий. Недавний пример Феррары показал, что ренессансные города-государства поглощаются могущественными соседями и по не столь веским причинам. Чудесные дары, поднесенные к стопам нового короля и его фаворита, были предназначены убедить Филиппа в несметном богатстве Гонзага и их вечном, непреходящем благоговении пред самым могущественным из христианских правителей, а заодно, сколь бы странно это ни звучало, подкрепить притязания Винченцо на звание адмирала и пост главнокомандующего испанским флотом, который прежде занимал генуэзец Андреа Дориа, запятнавший себя многими поражениями.
Это был пример продуманного в мельчайших деталях ренессансного потлача, дань уважения, словно бы уравнивавшая в правах принимающего дары и дарителя. Состав презентов был рассчитан таким образом, чтобы польстить всем известным слабостям испанского двора и одновременно показать сильные стороны двора мантуанского: искусство, алхимию и коней. От своих мадридских агентов Винченцо, без сомнения, слышал, что Филипп III – совершенная противоположность своему великому и мрачному отцу: что он весел, элегантен, привержен наслаждениям и испытывает непомерную страсть к охоте, превосходящую обычную любовь правителей к этому времяпрепровождению. Поэтому главным даром Винченцо избрал небольшую изящную карету, удобную, богато украшенную и специально задуманную для езды по сельским дорогам, а также величайшее сокровище – шесть гнедых коней знаменитого мантуанского завода. Не важно, на заячью или оленью охоту отправится испанский король; его снаряжение будет великолепным – и все это благодаря герцогу Гонзага.
Однако печальный факт заключался в том, что легкомысленный король в действительности не правил страной. Вся власть была сосредоточена в руках его фаворита герцога Лермы. Именно он предоставлял или не предоставлял подданным аудиенцию у монарха, именно ему король доверил ключи от государственной казны, откуда немалые суммы регулярно перекочевывали в карманы фаворита. Недаром испанцы прозвали его «el mayor ladrone», «великий вор». Однако Лерма был не просто вором, а вором с претензиями на некую культурную утонченность, и предназначавшийся ему дар был призван всячески угождать его непомерному тщеславию самозваного эстета. Поэтому-то и был выбран Рубенс. Поэтому-то в подарок Лерме и предназначались сорок картин, за исключением портрета Винченцо во весь рост кисти Поурбуса и «Святого Иеронима» Квентина Массейса, – сплошь копии шедевров, главным образом Рафаэля и Тициана, из коллекции Гонзага, написанные в Риме уроженцем Мантуи Пьетро Фачетти. Таким образом, Лерме предстояло получить некую копию герцогской картинной галереи, долженствующую напомнить парвеню, что возвышенный вкус таких династий, как Гонзага, не так-то просто в себе воспитать. А поскольку новый испанский двор, по слухам, с таким же жаром предавался мирским удовольствиям, с каким прежний – католическому благочестию, Винченцо включил в число даров высокие вазы (золотые и серебряные для герцога, высеченные из горного хрусталя – для монарха), наполненные духами. Столетием раньше Муцио Франджипани сделал невероятное открытие: оказывается, ароматические эссенции, полученные из эфирных масел, растворяются в очищенном спирте. Отныне затейливые сочетания ароматов можно было закреплять в алкогольной среде и разливать в роскошные флаконы, горлышки которых потом закупоривали притертыми стеклянными пробками и запечатывали свинцом. Сестре Лермы графине Лемос, известной своим благочестием, предназначалось большое распятие и два подсвечника из горного хрусталя, его наиболее могущественному советнику дону Педро Франкезе – ваза духов, а также узорная камчатная ткань и золотая парча. И, как всегда не оставляя попыток дополнить свой, и без того внушительный, музыкальный ансамбль очередным талантом, Винченцо послал круглую сумму главному капельмейстеру испанского двора.
Европейские правители постоянно обменивались редкостными драгоценными дарами, они служили своеобразной дипломатической валютой в не меньшей степени, чем договоры, династические браки и ультиматумы. Однако с уверенностью можно сказать, что подобные чудесные предметы никогда не проделывали путешествие длиною в тысячи миль, разделяющие Мантую и Испанию. Личная ответственность за их благополучную доставку, конечно, могла расцениваться как лестный знак доверия, оказываемого герцогом молодому художнику, свидетельство того, что в Мантуе в нем видят нечто большее, нежели придворного лакея. Одновременно Рубенс отдавал себе отчет в том, что, если он не выполнит возложенную на него миссию, ему придется лично отвечать за ее провал перед принцем, отнюдь не славящимся снисходительностью. Несмотря на все опасения, он, вероятно, особенно остро ощутил и почетный, и рискованный характер этого поручения, когда Винченцо собственной персоной явился надзирать за тем, как он заворачивает и упаковывает произведения искусства. Столь важную задачу нельзя было доверить помощникам. Питер Пауль со всевозможным тщанием обернул картины двойным слоем густо навощенного сукна, напоминающего современную клеенку, а затем поместил их в деревянные ящики, на всякий случай обитые изнутри жестью. Тяжелые хрустальные предметы завернули в бархат и обложили шерстяными подушечками, а потом бережно укутали несколькими слоями соломы. Кроме того, никто и не помышлял, что гнедые красавцы пройдут рысью весь путь до морского побережья, поэтому для них придумали специальное передвижное стойло, из которого несколько раз за время странствия их надлежало выводить и купать в вине, дабы в Мадриде они предстали перед монархом во всем своем блеске. Точно так же решено было построить для маленькой охотничьей кареты некое подобие «футляра на колесах», высокую повозку, и запрячь в нее мулов, чтобы на горных дорогах драгоценному подарку ничто не угрожало. Конечно, такой способ передвижения обещал быть медленным и утомительным, но, как надеялся Рубенс, совершенно надежным.
Пятого марта 1603 года нескончаемая процессия, состоявшая из карет, повозок, лошадей, перешла мост Святого Георгия и потянулась на юго-восток, в сторону Феррары. Спустя десять дней, после многотрудного перехода через перевал Фута, разделяющий Эмилианские и Тосканские Апеннины, Рубенс и его колонна достигли Флоренции. В его первом письме Аннибале Кьеппио, посланном спустя еще три дня, уже ощущается степень ужаса и отчаяния оттого, что исключительно важное предприятие не было продумано заранее. В Болонье мантуанцам не удалось найти мулов, а погонщики, которые пришли посмотреть на повозку-футляр, построенную для королевской охотничьей кареты, объявили, что она не выдержит перехода через Апеннины, а развалится по дороге. Единственной альтернативой было оставить ее в Болонье, привязать королевскую карету веревками к телеге, запряженной волами, и так медленно-медленно ползти через перевалы. Обеспокоенный тем, удастся ли ему зафрахтовать корабль до Испании в тосканском порту Ливорно, Рубенс уже выехал во Флоренцию с лошадьми и остальными повозками. Услышанное во Флоренции усилило его тревогу. Тосканские купцы, к которым он обращался в надежде нанять торговое судно для плавания из Ливорно в Испанию, лишь «в изумлении крестились, не зная, что и думать о столь нелепых намерениях, и заявляли, что они попробовали бы сначала двинуться в Геную и уж оттуда отплыть, а не пытались бы идти в обход в Ливорно, не убедившись предварительно, что путь безопасен»[119]119
CR 1: 99.
[Закрыть]. Возможно, Рубенс придерживался того же мнения и втайне подозревал, что герцог мог быть движим каким-то скрытым мотивом, в который не стал его посвящать, хотя бы всего лишь детским желанием похвалиться богатством своих даров перед дядей своей супруги Фердинандом I Медичи, великим герцогом Тосканским. Обнаружив во время вечерней аудиенции, что великий герцог куда лучше осведомлен о деталях его испанской миссии, чем он сам, Рубенс лишь укрепился в своих подозрениях. «Более того, он сообщил, польстив моему самолюбию, что знает, кто я, откуда родом, каково мое поприще, какую должность я занимаю, а я стоял и ошеломленно слушал»[120]120
29 марта 1603 г., LPPR 27.
[Закрыть]. Фердинанд проявлял интерес к этому путешествию не только из любезности. Через фламандца Яна ван дер Несена, состоявшего у него на службе, он осведомился у Рубенса, найдется ли в его поезде место еще для одной небольшой верховой лошади, обученной ходить под дамским седлом, и для мраморного стола, которые он хотел бы передать некоему испанскому офицеру в порту Аликанте. И хотя перспектива увеличить и без того непомерный груз наверняка вызывала у Рубенса тревогу, он согласился, сознавая, что принцам лучше угождать, чего бы это ни стоило.
Однако, как бы Фердинанд Медичи ни желал оказать Рубенсу ответную любезность, изменить погоду он был не в силах. От затяжных проливных дождей желтовато-коричневые воды Арно вышли из берегов, наводнение задержало прибытие и без того замешкавшейся охотничьей кареты и не позволило Рубенсу вовремя отправиться в Ливорно, чтобы зафрахтовать подходящий корабль для плавания в Испанию. Во Флоренции до него дошли неутешительные известия, что, поскольку о снабжении его экспедиции не позаботились заранее, ему придется путешествовать в два этапа: сначала из Ливорно отплыть в Геную и только оттуда – в Аликанте. Однако теперь, когда герцог Фердинанд был заинтересован в том, чтобы как можно быстрее отправить Рубенса в Испанию, препятствия волшебным образом исчезли. Ко времени описываемых событий Ливорно превратился в один из самых оживленных портов во всем Западном Средиземноморье; в его гаванях стояли множество барков, груженных тосканскими товарами: оливковым маслом и сухофруктами, а также солью из лагуны, посылаемой из маленьких портов Крозетто, Орбетелло, Монтальто и Корнето. За ними располагались более крупные galionetti и двухмачтовые, большого водоизмещения шхуны, которые итальянцы именовали просто «navi». Некоторые из этих «navi» были оснащены явно чужеземными, северными снастями, а их команды, нанятые в Гамбурге или Антверпене, говорили на гортанных, хриплых немецком и фламандском. Именно одно из таких невзрачных, но широких и надежных судов Рубенс зафрахтовал для перевозки своего бесценного груза. Спустя три дня после Пасхи, 2 апреля, он написал, что наконец-то доставил на борт людей, коней и вещи и теперь дожидается попутного ветра, чтобы отплыть в Испанию.
Обычно весной в этой местности дуют западные ветры, а значит, плавание из Тирренского моря в Восточную Испанию превращалось в утомительный и невероятно медленный переход. В зависимости от силы встречного ветра морское путешествие из Ливорно в Аликанте могло занять от недели до, в худшем случае, месяца[121]121
CR 1: 363.
[Закрыть]. Корабль Рубенса прибыл в порт Аликанте спустя три недели после отплытия из Ливорно, проделав путь медленно, но избежав мелей, штормов и крушений, что было не так уж плохо, если учесть, что плыли они в сезон весенних бурь. Как только дары выгрузили на берег, Рубенс лично проверил состояние их всех: от гнедых коней до хрустальных подсвечников – и с облегчением удостоверился, что ни один подарок не пострадал. Испанские власти вели себя необычайно любезно: недаром Рубенс так долго и терпеливо налаживал полезные связи и всячески улещивал чиновников. Фердинанд Медичи нашел фламандских купцов, которые проводили его из Ливорно и встретили в Аликанте, оказав немалую помощь.
Еще до отплытия из Италии Рубенс осознал, что поступил крайне опрометчиво, поверив заверениям мантуанского двора, что последний этап его странствия, путь посуху от Аликанте до Мадрида, будет весьма необременителен и прост. Достаточно было взглянуть на карту, чтобы убедиться, что двести восемьдесят миль по гористой, скалистой местности, которые отделяли Рубенса и его поезд от Кастильского плоскогорья, никак не преодолеть за «три-четыре дня», на которые в Мантуе ему были отпущены деньги. Рубенс написал Кьеппио разгневанное письмо, уведомляя, что, судя по всему, будет вынужден тратить на путешествие личные средства, выделенные герцогом, а если недостанет и их, то брать в долг; иначе им не добраться до Мадрида. Впрочем, одновременно он обещал вести расходные книги столь тщательно и честно, что герцог Винченцо сможет убедиться в его экономности. Винные ванны для коней обходились недешево.
Однако выяснилось, что деньги – наименьшая из всех бед Рубенса. Не успел его поезд двинуться из Аликанте на север, как андалузские небеса потемнели, словно нечищеное железо, и обрушили на длинную колонну людей, коней и повозок проливной дождь, промочивший всех до нитки и не прекращавшийся на протяжении двадцати пяти дней. Испанские дороги превратились в непролазное месиво, в котором до колен увязали мулы, то и дело норовившие лягнуть и укусить. Спутников Рубенса все чаще сражала лихорадка, и их приходилось оставлять на одиноких постоялых дворах, где им, слабым и измученным, не могли предложить ничего, кроме жидкой кашицы из пшеничной или каштановой муки да черного хлеба. Где Рубенс мог найти пристанище, чтобы обеспечить мантуанским скакунам их ритуальные омовения? В насквозь промокших конюшнях, источающих смрад крысиного помета и протухшего сыра, в мощеных дворах любезных идальго, благоговейно принимающих королевских послов, в крытых галереях бедных и суровых, но гостеприимных монастырей?
Спустя неделю после выхода из Аликанте мантуанский поезд, ныне весьма потрепанный и забрызганный грязью, неуклюже, с грохотом, вкатился в Мадрид. Если Рубенс и испытал при этом облегчение, ему не суждено было продлиться долго. Живописцу сообщили, что королевский двор находится не в Мадриде, а в Вальядолиде, еще в ста милях к северу, и путь туда пролегает (разумеется) по каменистой, скалистой местности. Поскольку все в Испании знали, что это герцог Лерма настоял на переезде двора, якобы для того, чтобы изъять короля из-под власти мадридской бюрократии и тем самым угодить кастильскому дворянству, Рубенсу простительно было задаваться вопросом, почему же ни герцог Винченцо, ни великий герцог Фердинанд его об этом не предупредили. Прежде чем усталый караван снова двинулся в путь, Рубенс, не зная, увидит ли он еще Мадрид, побродил по залам Эскуриала, восхищаясь королевской коллекцией и делая карандашные наброски картин Рафаэля и Тициана, гения линии и гения цвета. Объединить эти техники, избежать выбора «disegno» или «colore» в пользу их синтеза – вот сколь честолюбивую задачу он себе поставил, не менее сложную, чем догнать королевский двор.
Повозки и кони двинулись на север. Как по мановению волшебной палочки, небеса прояснились. 13 мая, спустя почти месяц после того, как мантуанский караван покинул Аликанте, Рубенс вошел в Вальядолид, откуда написал герцогу Винченцо: «Я переложил на плечи синьора Аннибале свою ношу; отныне он ответствен за людей, коней и вазы: вазы нисколько не пострадали, кони столь же гладкие и блестящие, словно только что выведены из конюшен Вашей Светлости»[122]122
LPPR 30.
[Закрыть]. Впрочем, Иберти, мантуанский посланник, не слишком-то радовался возложенному на него поручению и встретил Рубенса с холодной вежливостью, не оказав ему радушного приема, на который, по мнению художника, он имел право рассчитывать после всех перенесенных испытаний. Однако нелюбезный прием показался не столь уж удивительным, когда Иберти объявил, что даже не слышал о миссии Рубенса. Кони? Какие кони? Столкнувшись с этим показным недоумением, Рубенс, по собственным словам, продемонстрировал озабоченность, но вел себя безупречно вежливо: «Я с удивлением отвечал, что мне точно известно доброе намерение Его Светлости, но что толку тратить время, припоминая забытое; в конце концов, я не первый гонец, отправленный ему герцогом, быть может, известия обо мне как-то затерялись в суматохе лиц и событий. Однако сейчас, не имея иных указаний от Его Светлости, мы должны действовать так, словно повинуемся его приказу. Возможно, у Его Светлости были свои причины не уведомлять его о моей миссии». По крайней мере, Иберти помог Рубенсу в его весьма и весьма затруднительном материальном положении. Его личное жалованье и деньги, полученные на путевые издержки в Мантуе, давным-давно подошли к концу; у него не осталось бы ни гроша, если бы один местный купец не ссудил ему некоторую сумму в ожидании возмещения расходов из герцогской казны. Таким образом, ему приходилось уповать лишь на великодушие Иберти, который предоставил «il Fiammingo», как он язвительно именовал Рубенса, новую одежду и жилище, где Рубенсу предстояло разместить также своих людей, грузы и коней.
Однако вскоре Питер Пауль выяснил, что до возвращения домой и желанной оплаты еще далеко. Двор отправился охотиться на кроликов куда-то под Бургос, дальше к северу. Еще об одном коне игры в догонялки с королем не могло быть и речи. У Рубенса не было ни сил, ни денег, чтобы двинуться ему вслед, а кроме того, он ждал появления кареты, которая в конце концов благополучно прибыла 19 мая. Он решил просто дожидаться возвращения двора с охоты, пусть даже на это уйдут недели или месяцы. Может быть, эта маленькая передышка пришлась ему по душе. Он мог спокойно распаковать драгоценные вещи, вычистить лошадей, навести лоск на карету, отполировать вазы, дабы дары предстали перед королем и усладили его взор, как было угодно герцогу.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































