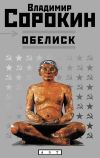Автор книги: Сборник
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 56 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Владимир Сорокин: у-топос языка и преодоление литературы
Илья Калинин
Наверное, первым, кто концептуализировал московский концептуализм через ритуальные категории сакрального и профанного, был Борис Гройс, причем его попытка создать метаописание неофициального искусства 1970-х осуществлялась на ее же собственном языке, сочетавшем в себе рефлексию о современной культуре и религиозную медитацию: «Своим внутренним строем язык искусства обнаруживает строй мира иного, как строй языка обыденного обнаруживает строй мира здешнего. <…> Искусство в России – это магия»[181]181
Гройс Б. Московский романтический концептуализм (1979) // Гройс Б. Утопия и обмен. М.: Знак, 1993. С. 274.
[Закрыть].
Одной из проблем разговора об историческом движении в терминах ритуала является проблема самого движения, перехода к новому состоянию. Модель ритуала, несмотря на повторяемость ее цикла, не обязательно противостоит модерному представлению о линейности истории. С помощью ритуала сообщество обретает возможность снять накопившееся напряжение, преодолеть ригидность социальных структур, более не отвечающих актуальным задачам, утвердить господство культуры над миром природы[182]182
Подробный аналитический обзор различных теорий ритуала см. в: Зенкин С. Небожественное сакральное: Теория и художественная практика. М.: РГГУ, 2012.
[Закрыть]. Так поэтика соцреализма была проинтерпретирована Катериной Кларк через структуру обряда перехода, которая позволяла преодолевать сопротивление природных стихий, внутренних и внешних врагов через символический механизм жертвоприношения, после чего герой (или коллектив) обретал новый социальный и идеологический статус[183]183
Кларк К. Советский роман: история как ритуал. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2002.
[Закрыть].
Затруднение возникает в тот момент, когда промежуточная, лиминальная фаза переходного обряда, работающая в качестве критического пародийного инструмента, позволяющего проблематизировать структуру (грамматику и словарь) предыдущей ритуальной фазы (предыдущей исторической эпохи), приобретает самоценный характер. В таком случае диалектика разрушения и воспроизводства приобретает дурную бесконечность, в которой критическая ревизия противостоящего или предшествующего языка оборачивается его паразитической эксплуатацией, ставящей критика в зависимость от того, что он стремится разоблачить. На эту диалектическую ловушку Б. Гройс указывал еще в самом начале новой постсоветской эпохи: «Во время господства этой [советской] культуры оно [неофициальное искусство концептуализма] воспринимается как ее критика, но после ее исчезновения… скорее, как ее спасительная фиксация в пространстве исторической памяти»[184]184
Гройс Б. Московский концептуализм, или репрезентация сакрального (1991) // Гройс Б. Указ. соч. С. 306.
[Закрыть]. Надо сказать, что этот вопрос выходит за пределы эстетических и символических отношений между концептуализмом и тем, что было объектом его критических и пародийных конструкций. Это проблема самой возможности такого исторического перехода, в котором бы коммуникация между настоящим и прошлым не сводилась к вариантам, заданным отношениями долга или вины, возвратным движением или отрицанием, рессантиментом или ностальгией[185]185
См.: Деррида Ж. Призраки Маркса. М.: Logos-altera, 2006.
[Закрыть]. Какова может быть историческая перспектива, преодолевающая круговорот советский/антисоветский/постсоветский, в котором префикс, носящий грамматически служебный характер по отношению к морфологической основе, оказывается знаком дискурсивной зависимости и на содержательном уровне[186]186
На эту в широком смысле стилистическую зависимость пародийно-критической работы от своего материала указывал еще Ю. Тынянов в своей теории литературной эволюции: «Пародия литературно жива постольку, поскольку живо пародируемое» (Тынянов Ю. Н. О литературной эволюции // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 274). Если приложить эту схему к недавней смене исторических эпох, можно обнаружить следующую проблему: мысль и стиль, привыкшие к пародийному типу критики советской культуры, в постсоветский период были вынуждены вновь и вновь реанимировать ее призрак для того, чтобы получить право на существование, обрести пространство для привычного критического маневра, который в действительности лишь подготавливал почву для ее последующей апологетики. В результате возникала парадоксальная ситуация, когда пародия не столько расчищала место для дальнейшего движения, сколько, наоборот, оказалась заинтересована в воспроизводстве прошлого, являющегося ее raison d’être. Согласно этой логике окончательная смена знака в отношении к советскому прошлому, произошедшая в середине 2000-х годов, была предопределена тем типом критики, который стал доминировать с конца 1980-х годов, но своими корнями уходил в стилистические и идеологические приемы соц-арта, концептуализма, повседневной поэтики стёба. Речь, естественно, не идет о том, чтобы вменять ныне существующий национал-патриотический консенсус в вину Комару и Меламиду, Булатову или Пригову. Речь идет о том, что характерная для позднесоветской эпохи критика советского оказалась не слишком продуктивной и, скорее наоборот, лишь способствовала его частичному возвращению. Глядя на поэтику серии «Ностальгический соцреализм» (начало 1980-х) Комара и Меламида в ретроспективе «Старых песен о главном» (1996), становится видно, как критическая деконструкция прокладывает дорогу последующему позитивному конструированию. Точно так же «Фундаментальный лексикон» (1986) Брускина словно уже очищал от изначального идейного контекста и эстетически мифологизировал словарь советской культуры, подготавливая его для будущей патриотической реактуализации.
[Закрыть]?
Тот способ работы с «жертвенным материалом», который практикует Владимир Сорокин, как кажется, отличается от описанной выше ритуальной схемы. В его случае «переходным объектом» выступает не какая-то определенная эпоха и характерный для нее язык – жест, характерный для концептуализма (который на протяжении большей части своей истории пародийно деконструировал советский объект) и по сути воспроизводящийся в постсоветской социокультурной ситуации (которая во многом лишь реконструирует предшествовавший ей культурный язык, причем делает это даже тогда, когда, казалось бы, его отвергает)[187]187
Последнее происходит в значительной части либерально ориентированной критики, диагностирующей содержательную ресоветизацию и даже ресталинизацию современной российской власти и общества, что лишь воспроизводит прежний язык описания советского режима и мешает увидеть в нынешнем режиме симбиоз национал-патриотической популистской политики и неолиберальных социоэкономических практик. О закреплении переходного характера постсоветской культуры и «институционализации переходности» см.: Oushakine S. In the State of Post-Soviet Aphasia: Symbolic Development in Contemporary Russia // Europe-Asia Studies. 2000. Vol. 52. № 6. Р. 991–1016.
[Закрыть]. У Сорокина же в качестве такого «переходного объекта», подвергающегося ритуальному жертвоприношению, выступает дискурсивное (то есть социально, культурно, исторически опосредованное) измерение языка в целом. При этом осуществляется не «институционализация переходности» (С. Ушакин), ведущая к пробуксовке исторического движения, а попытка выхода за пределы истории как таковой. В текстах Сорокина мы имеем дело с таким ритуалом, через который история не возобновляется, но приносится в жертву. Жертву, необходимую для того, чтобы утвердить трансисторическое, магическое господство языка. Иными словами, критике подвергается не определенная фаза исторического развития, не определенная культурная эпоха, а история и культура в целом.
В этой статье я попытаюсь сконцентрироваться на тех аспектах поэтики Владимира Сорокина, которые являются симптомами определенной языковой утопии, чью реализацию можно обнаружить практически во всех его текстах. Кроме того, экспликация этого утопического потенциала, преодолевающего одновременно и характерную для России литературоцентристскую мифологию и модерный историзм в целом, позволяет поставить под вопрос достаточно устойчивые стратегии критической рецепции его творчества.
Голубое сало языка и его перформативная мощь«Голубое сало», которое вырабатывают клоны-писатели в одноименном романе Сорокина, может быть рассмотрено как метафора той производительной силы, которую автор обнаруживает в языке. Наиболее распространенной интерпретацией этого образа (вещества, энтропия которого равна нулю) является его трактовка как «эссенции святого и чистого русского слова» или «русской духовности» или шире литературоцентризма, свойственного русской культуре[188]188
Берг М. Литературократия. Проблема присвоения и перераспределения власти в литературе. М.: Новое литературное обозрение, 2000. С. 113. См. также: Липовецкий М. Паралогии: трансформации (пост)модернистского дискурса в русской культуре. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 424, 440–444.
[Закрыть]. В результате большая часть критики не приняла этот текст Сорокина. Основанием такой негативной реакции были обвинения или в декларируемой «безнравственности» романа, или в слабости осуществляемой в нем попытки деконструкции того самого литературоцентризма (иными словами, в недостаточной радикальности декларируемой «безнравственности»). С точки зрения критики: описывая «голубое сало» как наркотик, которым пытаются завладеть Сталин и Гитлер в альтернативном будущем их альянса друг с другом, Сорокин сам оказывается зависим от этого наркотика. По этой логике, «вместо того чтобы обострять конфликты между различными „пластами“ романа, Сорокин соединяет их встык, „сплачивает“, достигая нерефлексивной (масскультовой) гомогенности»[189]189
Липовецкий М. Указ. соч. С. 441.
[Закрыть]. Не оспаривая эту оценку по существу, выскажу предположение, что сами ее основания уходят в укоренившуюся привычку воспринимать поэтику и политику Сорокина через устойчивый прием деконструирующего шокового столкновения различных дискурсов.
Но если его цель в другом? Не умножать различия, не критиковать метафизику тождества (как ему положено делать в качестве классика постмодернизма), а, наоборот, восстанавливать и утверждать эту метафизику? Но не как структурное тождество языка и речи, инструментально реализующей символический потенциал языка, а как онтологическое торжество языка, преодолевающего культурную, историческую, дискурсивную опосредованность и вариативность речи. В свое время именно на этот горизонт указывал и сам Сорокин, комментируя базовый прием своего «Романа»: «…когда-то в романе „Роман“ я столкнул два стиля, как два чудовища, дабы они пожрали друг друга и выделилась та самая энергия аннигиляции и очищения языка, доставившая мне колоссальное удовольствие»[190]190
Сорокин В. Mea Culpa?: я недостаточно развращен для подобных экспериментов // Независимая газета. 2005. 14 апреля. № 13. С. 5.
[Закрыть].
Пытаясь описать поэтику Сорокина не как постмодернистскую деконструкцию языка, а как ритуальное «очищение» и высвобождение его мощи[191]191
См. также опубликованную в данном сборнике работу Андреаса Ляйтнера «Низвержение в счастье: „Тридцатая любовь Марины“», в которой сходные выводы о характерной для Сорокина критике социально-дискурсивного измерения речи делаются через сопоставление его языковой рефлексии с философией языка М. Хайдеггера. Если язык (Sprache), согласно Хайдеггеру, является «домом бытия», то социально мотивированная, исторически контекстуализированная, стилистически и идеологически специфицированная «молва» (Gerede) «характеризуется утратой исконно-подлинной связи с бытием» (Ляйтнер А. Низвержение в счастье…).
[Закрыть], я буду обращаться прежде всего к тем случаям, когда демонстрация торжествующего над дискурсом языка или предъявление различных форм идеальной коммуникации является главной темой сорокинских текстов. Целью такого обращения является реконструкция характерных для них фундаментальных механизмов, связанных с отношениями между языком и реальностью, языком и субъектом, языком и историей, языком и пространством социальной коммуникации, языком и литературой. И здесь сразу необходимо сделать оговорку. В случае с Сорокиным мы сталкиваемся с утопией, которая не отсылает нас к возможности воплощения какого-либо эстетического или этического идеала, вписываемого в социальную реальность. В его случае утопия означает не достижение должного, но разрушение данного (независимо от того, идет ли речь о деконструкции определенных дискурсивных или социальных практик, тотальном дискурсивном коллапсе, уничтожающем членораздельность речи как таковой, или о глобальном апокалипсисе). В этом смысле утопия Сорокина реализует внутреннюю форму самого понятия утопия. У-топия – означает «отсутствующее место», «место, которого нет», и Сорокин превращает в такое «отсутствующее место», в «отсутствие» – все, с чем он работает; все, кроме языка, который выступает и как орудие этой у-топизации, и как ее неуничтожимый остаток. Сорокин у-топизирует реальность – будь то реальность дискурса, реальность истории или реальность человеческого субъекта. Но даже такое буквализирующее (то есть созвучное одному из главных приемов сорокинской поэтики) использование понятия утопии, актуализирующее его негативный смысл, необходимо отличать от чистого разрушения: отсутствие не означает пустоту[192]192
Здесь можно вспомнить знаменитое концептуалистское предупреждение Ильи Кабакова: «Не влезай в центр – убьет!» Убьет, потому что это место в центре уже занято, занято тем, что и выступает главным агентом у-топического разрушения, – принципиальным несоответствием эйдоса и вещи, духа и формы.
[Закрыть].
Анализируя парадоксальный и неразрешимый характер конфликта между сакральным и профанным, специфичный для поэтики концептуалистских ритуалов, Марк Липовецкий акцентирует внимание на разрыве между символической насыщенностью означающего (культурным материалом, с которым работает концептуализм) и пустотой означаемого (осадком, который остается после этой деконструирующей работы). «Серьезность ритуальных жестов, интонаций, ролей, риторических и символических цитат и т. п. неизменно вступает в противоречие с предполагаемым или непосредственно передаваемым отсутствием или же ничтожностью смысла всего происходящего или демонстрируемого – иными словами, с пустотой»[193]193
Липовецкий М. Указ. соч. С. 251.
[Закрыть]. Но повторюсь: отсутствие не означает пустоту. Пустота изначальна и нейтральна, в то время как отсутствие заряжено силами отрицания[194]194
О содержательной полноте процедуры отрицания см.: Кожев А. Идея смерти в философии Гегеля. М.: Логос, 1998; Адорно Т. Негативная диалектика. М.: Научный мир, 2003.
[Закрыть]. В данном случае это отрицание связано с ритуальным жертвоприношением риторических фигур, культурно маркированных цитат и реплик, отсылающих к тому или иному дискурсу; узнаваемых стилистических приемов, ассоциируемых с тем или иным автором или направлением; социальных смыслов и властных практик, вписанных в тот или иной исторический и идеологический контексты. При этом в неприкосновенном центре этого ритуала остается не пустота, а то, что и является агентом этого ритуала, то, в чьих интересах и от чьего лица этот ритуал и совершается. Говоря о ритуальных практиках, которыми насыщены тексты Сорокина, необходимо уйти от «ритуального» понимания ритуальности как пустого жеста, вернувшись к его изначальному «буквальному» терминологическому значению принесения чего– или кого-либо в жертву в целях достижения определенного позитивного результата. Иными словами, разговор о текстах Сорокина в перспективе ритуала предполагает ответ на вопрос, кто является его агентом и кто становится благополучателем произведенного ритуалом эффекта, а не только что и каким образом приносится в жертву[195]195
Сам Сорокин описывал это «ритуальное жертвоприношение» в терминах поп-артистской игры, захватывающей в свое силовое поле все пространство культуры: «Но благодаря картинам Булатова… я вдруг увидел формулу: в культуре поп-артировать можно все. Материалом может быть и „Правда“, и Шевцов, и Джойс, и Набоков. Любое высказывание на бумаге – это уже вещь, ею можно манипулировать как угодно. Для меня это было как открытие атомной энергии» – Владимир Сорокин: самое скучное – это здоровые писатели. Интервью с С. Шаповалом (http://www.srkn.ru/interview/vladimir-orokin-samoe-skuchnoe-eto-zdorovye). Как правило, в центре внимания исследователей оказываются механизмы концептуалистской или поп-артистской игры, меня же интересует выделяемая ею «атомная энергия» и ее носитель, – то, что остается после деконструкции или, если быть точнее, то, что является ее эффектом.
[Закрыть].
В нашем случае, как кажется, этим агентом и бенефициаром являются не человек и не социум, пытающиеся с помощью ритуала выйти из исторического тупика или «кризиса различий», ведущего к эскалации насилия (как это описывается в теории жертвенного ритуала Рене Жирара[196]196
См.: Жирар Р. Насилие и священное. М.: Новое литературное обозрение, 2000; Он же. Козел отпущения. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2010.
[Закрыть]). И даже не автор, и его читатель. Скорее – это то, что их связывает между собой, то есть язык, возвращающийся с помощью разнообразных ритуальных жертвоприношений к своей изначальной магической природе (внутри которой кажущаяся нечленораздельной глоссолалия миметически воспроизводит спазм человеческого тела, базовые грамматические категории соответствуют структуре физической реальности, асемантическая заумь и материализация метафор отсылают к перформативности архаического заговора, бессмысленная тавтология диалогов реализует способность языка устанавливать непосредственный телесный и аффективный контакт между говорящими). Это язык, взятый в горизонте отсутствия истории своего культурного дискурсивного использования. Язык, с помощью ритуала преодолевший историю, паразитически надстраивающую над его грамматикой разнообразные риторические формы, подменяющую его прямую денотативную способность различными идеологическими и мифологическими смыслами. Язык, приносящий в жертву тексты, речевые жанры, дискурсивные практики, идеостили, поэтические приемы. Обнаруживающееся в его центре отсутствие – у-топос языка, освободившегося от символических, культурных, исторических напластований и обретшего благодаря этой редукции беспредельную чистоту и магическую мощь.
И, как я попытаюсь показать, все это у-топизирующее уничтожение дискурсивной реальности предпринимается именно для того, чтобы подчеркнуть тот остаток, который не подлежит уничтожению, но который, наоборот, сам выступает как его инструмент, даже точнее – как его субъект.
Металитературный и шире – метадискурсивный характер отличал творчество Владимира Сорокина начиная с самых первых его текстов, и эта черта его поэтики уже стала общим местом литературной критики. Начав с различных типов советского дискурса в своих ранних текстах («Норма», 1979–1983, и «Первый субботник», 1979–1984), он распространил этот принцип на речевые жанры советской повседневности в «Очереди» (1983), а затем применил его к каноническому языку классической русской литературы в «Романе» (1985–1989), равно как и к жанрово специфицированным языкам массовой литературы в «Сердцах четырех» (1991).
Базовый прием этого литературного механизма в свое время описал В. Курицын: «Его обычный ход: начиная повествование как чистую пропись того или иного дискурса, завершить его… либо нарастающими потоками непонятной речи, либо нарастанием запредельного насилия»[197]197
Курицын В. Русский литературный постмодернизм. М.: ОГИ, 2000. С. 96.
[Закрыть]. Так, например, рассказ «Геологи» (сборник «Первый субботник») начинается с воспроизведения соцреалистического дискурса – по словам самого Сорокина, «по канонам официальной советской литературы среднего уровня. Как если бы он вышел в каком-нибудь калужском издательстве»[198]198
Сорокин В. Г. Текст как наркотик // Сорокин В. Г. Сборник рассказов. М.: Русслит, 1992. С. 119.
[Закрыть], – но затем происходит языковой сдвиг, состоящий в том, что выход из трудной ситуации обнаруживается лишь после того, как герои рассказа вспоминают, что нужно просто «помучкарить фонку»[199]199
Сорокин В. Г. Геологи // Сорокин В. Г. Собрание сочинений: В 2 т. Т. 1. М.: Ad Marginem, 1998. С. 425.
[Закрыть]. Хрестоматийным примером второго способа «деконструкции» через прямую реализацию дискурсивного насилия является финал романа «Роман», герой которого убивает топором население целой деревни, разом зарифмовывая конец конкретного текста, конец жанра, конец героя по имени Роман и конец миметической репрезентации, характерный для реалистического романа: «Роман дернулся. Роман застонал. Роман пошевелился. Роман вздрогнул. Роман дернулся. Роман пошевелился. Роман дернулся. Роман умер»[200]200
Сорокин В. Г. Роман // Там же. Т. 2. С. 356.
[Закрыть].
При этом необходимо отметить, что сам Сорокин отрицает приписываемое ему стремление к шокирующему эффекту, возникающему благодаря сопряжению возвышенно-символического и натуралистического (или иначе, – сакрального и профанного) планов его текстов: «Что касается взрыва… то для меня он не носит шокового характера. Наоборот, я пытаюсь найти некую гармонию между двумя стилями, пытаюсь соединить высокое и низкое. Попытка соединить противоположности представляет для меня некий диалектический акт и выливается в симбиоз текстовых планов»[201]201
Сорокин В. Литература или кладбище стилистических находок // Постмодернисты о посткультуре. Интервью с современными писателями и критиками. М.: ЛИА Руслана Элинина, 1996. С. 125.
[Закрыть].
Шок, конечно, остается – отрицать это бессмысленно. Вопрос в том, ради чего он возникает. Для того ли, чтобы через натурализацию насилия обнажить ту символическую репрессию, которая стоит за любым типом дискурса, – и тем самым деконструировать этот дискурс. Или сама деконструкция служит здесь инструментом обнаружения некоего пространства по ту сторону различия между физическим и символическим, буквальным и переносным планами. Пространства, в котором язык и реальность оказываются тождественными друг другу, но не в постмодернистском смысле, согласно которому: реальность организована как текст (или как речь). А скорее в архаическом (магическом) смысле, согласно которому: структура языка обладает некой материальной реальностью, изоморфной структуре физического мира[202]202
Об этом см.: Леви-Стросс К. Тометизм сегодня. Неприрученная мысль. М.: Академический проект, 2008. С. 143–455.
[Закрыть].
В этой перспективе магическая перформативность языка и речи, пронизывающая тексты В. Сорокина, может быть сопоставлена с наиболее ранним в европейской философской традиции случаем развернутой рефлексии относительно природы отношений между языком и реальностью. Сократ в диалоге Платона «Кратил» утверждает ту же тождественность речи и физического действия, что на практике реализуют герои Сорокина. «Сократ: А говорить – не есть ли одно из действий? Гермоген: Да. <…> Сократ: Следовательно, и давать имена тоже есть некое действие, коль скоро говорить было действием по отношению к вещам? Гермоген: Да. Сократ: Эти действия, как мы уже выяснили, существуют безотносительно к нам и имеют какую-то свою особую природу? Гермоген: Верно» (387b-d)[203]203
Платон. Кратил // Платон. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1990. С. 617–618.
[Закрыть]. Только если у Платона Сократ лишь диалектически доказывает соответствие природы вещей и природы их имен, независящей от произвола человеческого желания или конвенциональности языка, герои Сорокина непосредственно и брутально действуют, исходя из этой же онтологической перспективы (физически «ебут мозг» в романе «Сердца четырех» или отрезают руку девушке, удовлетворяя просьбу жениха, в рассказе «Настя», сборник «Пир»). Но если это так, то предпринимаемая Сорокиным деконструкция парадоксальным образом служит не обнаружению разрывов между означающим и означаемым, скрываемых речью (что и стоит за классической техникой постструктуралистской деконструкции), – но обнаружению онтологического тождества между вещами и именами, составляющего природу языка (как ее понимает В. Сорокин) и определяющего его магическую перформативную силу.
В одной из первых концептуальных работ, посвященных творчеству В. Сорокина, М. Рыклин связал дискурсивную логику его текстов с функционированием коллективных тел, порожденных советским режимом, террористичным насквозь, – начиная от идеологии и заканчивая повседневностью[204]204
Рыклин M. Террорологики II // Рыклин M. Террорологики. М.; Тарту: Эйдос, 1992. С. 185–221.
[Закрыть]. Сосредоточенность Сорокина на жизни этих коллективных тел выводит его тексты за пределы литературы, поскольку растворяет фигуру автора в «тотальности речевого присутствия»[205]205
Там же. С. 206.
[Закрыть]. В результате риторическое производство литературной формы, закрепленное за субъективностью автора, уступает место стремлению к тому, чтобы достичь эффекта непосредственного отпечатка коллективной телесности, к ее присутствию в тексте во всех возможных физиологических и речевых отправлениях. Сверхзадача такого письма состоит в том, «чтобы практически показать, что неприглаженная, не доведенная до литературной благопристойности, т. е. неидеологизированная речь в такой культуре, как наша массовая культура, уже перформативна, уже является действием, причем действием насильственным. Насильственное речевое действие… постепенно становится главным героем прозы Сорокина»[206]206
Там же.
[Закрыть].
Произведенная Рыклиным диагностика сорокинского письма как механизма, обнажающего перформативное насилие речи, по-прежнему кажется абсолютно точной. Возражения вызывает аксиологическая рамка, внутри которой ставится этот диагноз. Этически и концептуально мотивированная неофициальным искусством и интеллектуальным андеграундом 1970–1980-х, равно как и либеральным пафосом перестройки второй половины 1980-х, оптика Рыклина позволяла и даже вынуждала видеть в текстах В. Сорокина критику, направленную на тоталитарные истоки советской литературы и террористическую логику советской коллективной речи (которую тот впоследствии распространил на любой тип дискурса, производящий властные отношения любого уровня). Та же аналитическая оптика не позволяла увидеть в писателе-нонконформисте ничего, кроме стремления разрушить эту логику, сделав видимым таящееся в ней насилие. Обнажение насилия, высвобождение его разрушительной энергии, безошибочно опознавалось как его критика. Контекст эпохи делал наиболее ощутимыми и актуальными следы пережитой сообща исторической травмы, направляя внимание критики в определенном направлении – в направлении проработки и преодоления репрессивных импликаций, определяющих советское дискурсивное пространство.
Через это умножение коллективного травматического опыта, с которым работали художники концептуалистского и постконцептуалистского поколений, на собственную травму интеллектуалов, которые писали об этих художниках, и сложилась исследовательская традиция описания разрушительной работы, которую проделывают тексты Сорокина. Однако оценка этой работы как последовательной критики языка и дискурса, жестко вписывающая творчество Сорокина в концептуалистскую традицию (пусть даже и утверждающая радикализацию ее основ) и шире в постмодернистскую традицию деконструкции, кажется уже исчерпавшей свою объяснительную силу. Желание обнаружить в текстах Сорокина демонстрацию разрыва между «знаком» и «реальностью» (равно как и дискурсивного насилия, производимого, чтобы обнажить этот разрыв) легко удовлетворить – но из этого мало что следует.
Ретроспективный взгляд (из постсоветского двадцатипятилетия, включающего тексты Сорокина 1990–2010-х годов) позволяет увидеть в демонстрации речевого насилия, в акценте на речи как на одном из типов действия не только антитоталитарный пафос, но и позитивную рефлексию над природой языка, перформативности и насилия как таковых. Причем увидеть – вне той однозначно критической (пародийно-деконструирующей) аксиологии, которую обычно обнаруживают в текстах Сорокина и интерпретируют через ее связь с по определению негативно воспринимаемым советским социокультурным контекстом.
«Сорокин натурализирует символическое», – пишет Марк Липовецкий[207]207
Липовецкий М. Указ. соч. С. 412.
[Закрыть]. Но что может значить эта «натурализация символического»? Она может означать, что Сорокин пытается подвергнуть критике язык как таковой. Но она также может означать подрыв не языка, но его использования в качестве символического порядка, распределенного между различными типами дискурса и обслуживающего различные идеологии и культурные мифологемы. Прием «натурализации символического» может быть описан как характерный прием деконструкции: насилие, вписанное в символическое (и учреждающее «власть дискурса» в фукольдианском смысле этого понятия), вскрывается и подвергается критике благодаря его натурализации (переводу символического насилия в буквальное). Но «натурализация символического» может отсылать и к снятию самой оппозиции между «физическим» (буквальным) и «символическим» (риторическим) – в результате чего насилие утверждается как неотъемлемый момент работы языка. Следуя за первой из возможных интерпретаций этого тезиса, мы видим критику насилия, мы видим насилие, которое упраздняется и расколдовывается благодаря деконструкции внутренних претензий любого дискурса на репрезентацию реальности и установление символического господства над ней. Следуя за второй возможностью, мы можем увидеть скорее демонстрацию магии насилия, нежели его деконструкцию. В последнем случае можно сказать, что тексты Сорокина не только «разыгрывают» насилие советского языкового порядка, который «становится инструментом контроля и ограничения, вместо того чтобы служить средством коммуникации»[208]208
Laird S., Sorokin V. Vladimir Sorokin (b. 1955) // Laird S. (Еd.) Voices of Russian Literature: Interviews with Ten Contemporary Writers. Oxford, 1999. Р. 144.
[Закрыть], но и производят это насилие, определяя его как неотчуждаемую часть языковой природы и как неотчуждаемую часть речевой коммуникации («говорения как одного из действий» – в том смысле, который подразумевает Сократ в диалоге «Кратил»).
Как нам кажется, в случае Сорокина интерес представляет не только описание метаязыковой работы, связанной с пародийно-критической концептуализацией различных литературных стилей и повседневных типов коммуникации или с превращением автора в медиальное пространство, совмещающее в себе различные дискурсы и обнажающее их внутренне противоречивую и идеологически мотивированную природу[209]209
Рыклин М. Медиум и автор // Рыклин М. Время диагноза. М.: Логос, 2003. С. 213–236.
[Закрыть]. Не менее важно – обнаружить то, что, возможно, является основным приемом поэтики Сорокина, ее «патологической» фиксацией: механизм высвобождения (как в ядерной реакции) внутренней перформативной энергии языка, его производительной «биологической» основы, реализующей предложенную Деррида фаллологоцентристскую концептуальную метафору европейской метафизики с агрессивной буквальностью насильника. В этом смысле «голубое сало языка» – символ языковой субстанции, выделяющейся благодаря брутальным тектоническим сдвигам, которым Сорокин подвергает занимающие его литературно-речевые практики.
Подвергая радикальной деформации те или иные дискурсивные практики и режимы письма (от бытовой речи до классического литературного канона, от высокого модернизма до усредненного соцреализма), Сорокин не разделяет характерный для концептуалистского поколения скепсис по отношению к языку как таковому. Разрушая формальную целостность того или иного дискурса, остраняя его жанровые установки, обнажая идеологические импликации, скрывающиеся за «нулевой степенью письма», разрывая речевую ткань экстремальным столкновением различных стилистических, социальных, культурных, дискурсивных пластов языка, Сорокин достигает эффекта, благодаря которому язык обнаруживает свою генеративную силу по ту сторону поэтической функции («установки на выражение»[210]210
Если пытаться выделить доминирующую языковую функцию в поэтике Сорокина, опираясь на их классификацию, предложенную Р. Якобсоном, стоит говорить скорее о функции метаязыковой, нежели поэтической. Внимание на структуре сообщения (его стилистической фактуре) концентрируется исключительно для того, чтобы, – разрушив его тем или иным способом, – обнажить структуру языкового кода, стоящего за приемами производства данного сообщения (его стилистической фактуры), – см.: Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». М.: Прогресс, 1975. С. 197–203.
[Закрыть]), равно как и по ту сторону дискурса как такового. Гипернатуралистическая материализация языковых метафор, самоубийственная для риторической природы дискурса (различающей буквальные и переносные значения и потому способной играть в их неразличение), утверждает производительную магическую мощь языка. Риторика дискурса, представления о конвенциональности языковых значений, история сменяющих друг друга дискурсивных режимов и литературных стилей приносятся в жертву грамматике языка, разрушаются внутри такого языкого сознания, которое не различает прямых и переносных значений. Социальное измерение речи приносится в жертву метафизике языка, обнаруживающего свою внеисторическую ритуальную перформативность.
В разрушительной работе, которой подвергаются различные дискурсивные практики в произведениях Сорокина, может быть обнаружен уровень, который выступает уже не объектом уничтожающей редукции, но ее субъектом. Это уровень базовых структурных основ языка, на которые не распространяется привычная для поэтики Сорокина деконструирующая критика. Наоборот, разрушение риторических, поэтических, идеологических основ того или иного дискурса ведется именно с этой фундаментальной и нередуцируемой позиции языка, отступившего на уровень первичных грамматических и когнитивных структур. Так, переход от гипермиметического воспроизведения основ классического русского романа середины XIX века к его беспощадному уничтожению маркируется сдвигом от характерной для него риторики и тематических общих мест, от лирических образов, развернутого синтаксиса пейзажных описаний, психологизированной внутренней речи к дистиллированной грамматике русского языка (базовая синтаксическая конструкция: субъект – предикат – объект; базовые морфологические категории: единственное число / множественное число, женский род / мужской род, активный залог / пассивный залог, перфект / имперфект, императив / индикатив) и к простейшим структурам мышления (право / лево, верх / низ).
– Встань на крыльце и звони, – сказал Роман. Татьяна взошла на крыльцо и затрясла колокольчиком. Роман прошел мимо нее. Дверь была открыта. Он прошел в сени. Потом открыл другую дверь и вошел в избу. В избе было темно. Роман постоял и привык к темноте. Слева стоял стол. Справа стояла печь. Возле печи стояла лежанка. На лежанке лежали Николай Горохов и его жена Матрена Горохова. На печи лежали их дети: Степан Горохов, Мария Горохова, Иван Горохов и Петр Горохов. Роман подошел к лежанке и ударил Николая Горохова топором по голове… (после чего следуют еще пятьдесят страниц такого же начального курса русской грамматики. – И. К.)[211]211
Сорокин В. Г. Роман. С. 298. Ср.: «В момент наибольшего предсмертного напряжения свободы Роман в наибольшей степени подчиняет себя фундаментальным правилам функционирования языка» – Гройс Б. Русский роман как серийный убийца // Новое литературное обозрение. 1997. № 27. С. 440.
[Закрыть].
Анализируя последующие телесные расчленения, Б. Гройс подчеркивает их одновременно лингвистический и ритуальный характер: «Религиозно-эротический ритуал, описанный Сорокиным, состоит во фрагментации тел и во введении новой комбинаторики, ставящей фрагменты этих тел в новые отношения друг к другу, подчиненные теперь не природной, органической логике, а – синтаксису нового языка, с помощью которого Роман формулирует свои послания Богу и миру»[212]212
Там же.
[Закрыть]. Последовательное и монотонное убийство всех персонажей «Романа» не сводится лишь к уничтожению жанра и смерти его тезки. Ритуал (как и ритуальное убийство) предполагает не только уничтожение, но и утверждение: уничтожаемое приобретает статус жертвы только в том случае, когда есть то, ради чего она приносится. В данном случае роман с механической брутальностью[213]213
Напоминающей манеру де Сада и ее анализ у Р. Барта, прочитавшего ее именно как превращение телесных перверсий и фрагментаций в торжество универсального языкового порядка над органическим и случайным. См.: Барт Р. Сад, Фурье, Лойола. М.: Праксис, 2007. С. 159–224.
[Закрыть] приносится в жертву языку, в грамматике которого он и растворяется на протяжении своих последних полусотни страниц, когда он утрачивает узнаваемые исторические и стилистические черты и отступает к последнему рубежу базовой языковой грамматики (тот факт, что грамматика языка также подвержена историческим изменениям, в данном контексте можно вынести за скобки). В то время как внимание большинства исследователей приковано к тому, что уничтожается, что (и как) приносится в жертву, не менее важным остается вопрос о том, что остается: что утверждается в своих основах, а не выступает как объект критики и ритуального разрушения.
В качестве того, что должно уцелеть благодаря совершаемым в текстах Сорокина ритуальным жертвоприношениям (одновременно и тематизируемым на сюжетном уровне и миметически воспроизводимым на уровне самого текста), выступает не человек и не социум, не культура и не история, но язык, причем язык максимально очищенный от всего того, что связывает его с социумом, культурой и историей (как раз и служащими объектами критики), и возвращенный к своим архаическим и фундаментальным истокам – грамматической структуре, отражающей структуру реальности, перформативной силе, отражающей магическую природу слова, коммуникативной функции, отражающей способность человека устанавливать прямой физический контакт с другим.
В этой перспективе действие «Романа» можно описать как осуществление ритуала перехода от частной риторики жанра к общей грамматике языка. «Первый субботник» и «Норма» ритуализируют или перформативную способность языка превращать переносные значения в прямые (то есть возвращают языку силу магии, работающей по принципу метафоры или метонимии[214]214
См.: Фрэзер Д. Д. Золотая ветвь. М.: Изд-во политической литературы, 1984. С. 19–53.
[Закрыть]), или способность речи преодолевать собственную членораздельность, переходя на уровень экстатической экспрессии, прорывающейся к чему-то универсально антропологическому, к тому, что лежит за пределами рационального дискурса, нормативности культуры и исторически ограниченного контекста[215]215
Типичным примером такого экспрессивного прорыва к запредельному служат «Письма Мартину Алексеевичу», составляющие часть 5 «Нормы» (Сорокин В. Г. Норма // Сорокин В. Г. Собрание сочинений: В 2 т. Т. 1. С. 185–215). Ритуальную экстатику впавшего в сакральную ярость пенсионера («Здравствуйте Мартин Алексеавич! Я тебя ебал гад срать на нас говна. Я тебя ебал гадить нас срать так. Я тега егал могол срать на нас говда. Я тега егад могол сдат над мого» – Там же. С. 209) можно сопоставить с тем, как Ж. Батай описывает разрешаемый через прорыв в «сокровенное» кризис социальной коммуникации: «Сокровенность невозможно выразить связной речью. Говорить непомерно выспренно, стискивая зубы и рыдая, давая выход своей злобе; перескакивая мыслью с пятого на десятое, без начала и без цели… яриться до рвоты… все это лазейки, которыми она (сокровенность. – И. К.) пользуется» – Батай Ж. Теория религии // Батай Ж. Проклятая часть. Сакральная социология. М.: Ладомир, 2006. С. 72.
[Закрыть]. «Очередь» воспроизводит не только ужас перед «коммунальным речевым телом» (как об этом пишет М. Рыклин[216]216
Или как в том же ключе рассуждают о тотальных инсталляциях Ильи Кабакова сам художник и В. Тупицын, см.: Тупицын В. Беседа о коммунальности // Тупицын В. Глазное яблоко раздора: беседы с Ильей Кабаковым. М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 13–32.
[Закрыть]), но и то ритуальное состояние, которое Виктор Тэрнер описывал как состояние лиминальности, в котором пребывает «коммунитас» – принципиально неструктурированная группа индивидов, выключенных из обычных социальных связей, но пребывающая в тесном телесном контакте. При этом «нечленораздельность» и деиндивидуализированность такого коллективного тела лишена у Тэрнера той негативной оценки, которая у интеллектуалов и художников концептуалистского направления опосредована подчеркнутой травматичностью их советского опыта: «Коммунитас с ее неструктурным характером, представляющая „самую суть“ человеческой взаимосоотнесенности… можно было бы вообразить в виде „пустоты в центре“, которая тем не менее необходима для функционирования структуры колеса»[217]217
Тэрнер В. Ритуальный процесс: структура и антиструктура // Тэрнер В. Символ и миф. М.: Наука, 1983. С. 197–198. Речь идет о том же центре, – куда запрещено «влезать», потому что «убьет», – о котором говорится в концептуалистском лозунге Кабакова: этот центр, заключающий в себе силы негативности, отрицающие структурную организованность социума, выступает как условие самой возможности этой нормативной организованности.
[Закрыть]. Сорокин воспроизводит эту лишенную индивидуализированного субъекта диффузность речи, сводя ее к одной из первичных и архаичных функций языка, – функции установления контакта: речь как способ производства близости продолжает работать даже тогда, когда другие более «продвинутые» функции языка (например, установка на сообщение или выражение) радикально редуцируются[218]218
См.: Якобсон Р. О. Язык в отношении к другим системам коммуникации // Якобсон Р. О. Избранные работы. М.: Прогресс, 1985. С. 319–330.
[Закрыть]. И если благодаря такой редукции и деконструируется сам коммунальный дискурс, то сведенный до инструмента установления тактильного контакта язык, наоборот, утверждается в своих основах, – как инструмент установления близости (концовка «Очереди» отчетливо акцентирует эту фатическую функцию языка, передающую не смысл и не стиль, не власть и не историю, но сам факт установившейся связи: «Любишь (цыпленка. – И. К.) табака? – Люблю… – Спишь? – Сплю, сплю…»[219]219
Сорокин В. Г. Очередь // Указ. соч. Т. 1. С. 406.
[Закрыть]).