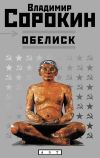Автор книги: Сборник
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 56 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
«Голубое сало» – роман мнимый, что и делает его пригодным для чтения сразу на всех уровнях. Он одновременно рассказывает и НЕ рассказывает историю. Это роман, который сам себя отрицает. Книга соблазняет читателя бурным сюжетом. Она заполнена мелькающим, как в голливудском фильме, действием. Водоворот событий втягивает в себя, не давая времени очнуться. Накатывающие волны событий укачивают до тошноты. Их гипнотическое воздействие мешает понять, что мы не мчимся к финалу, а стоим на месте.
Сорокин написал перенасыщенную действием книгу, в которой ничего не происходит. И это возвращает роман к исходному уравнению его творчества: жизнь – это сон без яви.
Читать «Голубое сало» – все равно что смотреть чужой сон. Не следует ждать от него последовательности, повествовательной логики, художественной равноценности или хотя бы связности. С бессмысленной, чисто сновидческой щедростью книга навязывает избыточное, ненужное, безработное содержание. Лишнее тут заменяет необходимое. Мы знаем все, кроме того, что нам нужно. Различна и степень внятности того, что нам показывают. Отдельные куски, пародирующие самые разные стили и жанры, с трудом лепятся друг к другу. Создается впечатление, что собранные тут сны объединяет не содержание, а тот, кому они снятся. В случае Сорокина этот «сновидец» – подсознание русской литературы.
Прерывистый и непоследовательный кошмар ведет читателя в параллельный нашему мир, где разворачивается альтернативная нашей история. Из китаизированной России XXI века нас бросает в не менее фантастическое прошлое, где миром правят Гитлер и Сталин. Жуткие сны Москвы и Берлина насыщены обычными для этого автора сценами насилия, которые Сорокин охотно разнообразит каннибализмом. Например, в меню приватного ужина советских вождей, объединенных плотской любовью и больным воображением, – фондю из человечины.
Изуверские кремлевские фантазии и тяжелый тевтонский бред – корчи тоталитарного подсознания. Исправляя ход истории в миражном пространстве сновидения, оно берет реванш за поражение. Отсюда пародийная помпезность описаний.
В этих до нудности пышных декорациях свершается бессмысленно кровавый финал сновидения. Но, как уже было сказано, вопреки обычным снам кошмары Сорокина никогда не кончаются. Завершив псевдоисторическую часть, роман переползает в псевдофантастический жанр – из безумного прошлого в сумасшедшее будущее.
С каждой страницей сон становится тоньше. Теряя себя в бессмыслице, он словно борется со страхом пробуждения. Хватаясь за соломинку, сновидение пристраивает к заключительному эпизоду последнюю, самую диковинную и поэтому самую нужную ему деталь – голубое сало.
На этом роман – но не сон! – кончается. Читатель остается наедине с загадкой, заданной названием романа. Голубое сало – центральный герой, оно соединяет все временные сферы книги, но, согласно все тому же сновидческому механизму, чем больше мы о нем знаем, тем меньше понимаем, зачем оно нужно.
Сперва нам подробно рассказывают, как его добывают. Голубое сало – квинтэссенция литературного процесса. Его получают из тел писателей-клонов, которых специально для этой цели выращивают в особом питомнике. Русская литература в сорокинском кошмаре – последнее полезное ископаемое развалившейся империи. Такой ход дает возможность автору предложить то, что он лучше всего умеет: блестящие стилизации под классиков. Важно заметить, что эти инвалиды российской словесности не играют никакой роли в сюжете. Они – отход производства. Сорокин говорит: то, что двести лет казалось нам целью – литература, на самом деле – средство, но непонятно – чего. Нам объясняют, что с голубым салом делают, но не говорят – зачем.
Роман Сорокина написан на хорошо знакомых его читателю руинах семантики: он рассказывает «как», не говоря «что». На нашу долю остается лишь скучное описание технологической обработки.
Сорокина всегда интриговал производственный процесс как таковой. Соблазн производственного романа в том, что он превращается в абсурдный, стоит лишь убрать объект производства. Станок, изготовляющий ненужные детали, – машина абсурда. Действие без мотивов разрывает причинно-следственную связь, поэтому производственный роман, в котором неизвестно, что и зачем производят, принадлежит уже не социалистическому, а магическому реализму. Более того, производство, которое существует само для себя, не производя ничего полезного, и есть жизнь. Жизнь парадоксальнее любого романа, ибо нет такого сюжета, в который она могла бы уложиться.
Мандельштам однажды сказал: «Наша жизнь – это повесть без фабулы, сделанная из горячего бреда отступлений». Такую повесть и написал Сорокин. Его книга маскирует свое отсутствие, и овеществленным символом этого каламбура служит голубое сало. Как эстафета, оно переходит из одной части книги в другую, так и оставшись необъясненным. У этой загадки слишком много ложных разгадок, чтобы хоть одна оказалась верной. Возможно, потому, что голубое сало – цель всякого творчества, сбывшаяся мечта художника, предел божественного преображения. Дело в том, что голубое сало – это русский Грааль: дух, ставший плотью.
Сказки гностиков («Лед» и «Путь Бро»)Томас Манн говорил, что писатель приходит в литературу либо из музыки (как это произошло с ним самим), либо из живописи. Это – случай Сорокина. Перебравшись в словесность из живописи, он перенес в текст художественные принципы соседнего, но отнюдь не смежного искусства.
Писатель в истолковании Сорокина сегодня становится дизайнером. Обесценивший идею репрезентации и упразднивший критерий сходства с оригиналом, этот автор меняет словарь отечественной эстетики. Отучая читателя от значительности темы, изымая из книги внутреннюю мысль, вычеркивая из литературы нравственный посыл, Сорокин предлагает взамен набор формальных принципов: соотношение языков, распределение текстовых объемов, игру стилевых ракурсов. Современный автор занят манипуляцией повествовательными структурами за пределами их смысла. Содержание выходит за переплет: мы не узнаем из книги ничего такого, чего не знали до того, как ее открыли.
Себя Сорокин тоже считает дизайнером текста. Художник и по образованию, и по призванию, Сорокин описывает свою манеру в терминах изобразительного, а не словесного искусства. Его палитру составляют разные стили, заранее, как краски в тюбиках, приготовленные мировой литературой. Сочиняя книгу, он заботится о распределении текстовых объемов, сочетании стилевых пластов и уравновешенности композиции. Естественно, что образцы такого письма он ищет в тоталитарном искусстве, отличающемся максимальной целостностью и единством, «чистотой внутреннего строя», как он сам называет это качество.
Чтобы увидеть сорокинскую книгу такой, какой ее задумывал автор, к ней надо было бы прикладывать «раскраски», где каждый из многообразных стилевых кусков читатель мог бы затушевать цветными карандашами.
Удобнее всего эту «декоративную» стратегию наблюдать не в романах, а в более компактных пьесах. Часто их драматическое напряжение создают контрасты языковых пластов, столь же безразличных к содержанию, как красный или желтый цвета на полотнах Малевича. Возьмем, скажем, «Землянку». Эта пьеса из военного времени состоит из разговора офицеров и чтения вслух газеты. Обмен ничего не значащими репликами перемежается ничего не значащими заметками. Нонсенс банальности («чай да каша – еда наша») противостоит бессмыслице, вычитанной из фронтового листка:
Фашизм налетел, как смерч, и разрушил эти Пищалки. Гитлер вероломно напал на нашу миролюбивую Печатку. Он помышляет закабалить нам многомиллионный Соплевиум. Но этому не бывать!
Индикатором нонсенса служат непонятные слова, вроде этих самых «пищалок и печаток». Дело не в том, что они непонятны, дело в том, что все непонятно. Любая осмысленность здесь мнимая, ибо слова, как краски на абстрактной картине, – знаки без означающего.
Слова у Сорокина – это не голос, сохраняющий связь с человеком, слова – это буквы, не имеющие к нему отношения. Поэтому, как любит повторять автор, им и не больно.
Столь радикальная критика языка разрушает литературу, превращая ее в вид декоративного ремесла, вроде изготовления ковров или обоев. Сюжету, как орнаменту, тут некуда двигаться – он может только тянуться. Поэтому офицеры из «Землянки» начинают ужин, едва успев его закончить, да и газета, которую они читают вслух, кажется бесконечной. Единственно возможный финал у этой пьесы такой же, как у всех нас: на землянку падает бомба и от места действия остается одна воронка.
В книгах Сорокина, однако, смерть – не конец, а начало, причем всему. Смерть – единственная бесспорная данность, которая не только определяет, но и исчерпывает наш опыт, в той его части, что не может вызвать сомнений. Именно неизбежность смерти – отправная точка сорокинской философии, которую лучше бы назвать теологией.
Абстрактный характер его сочинений вовсе не противоречит стоящим за ними духовным импульсам. Как раз наоборот, вспомнив Кандинского и Малевича, следует признать, что такое искусство чаще всякого другого провоцирует автора на создание концептуальных опор, то ли выражающих себя в готовом продукте, то ли прячущихся за ним.
В сущности, произведения Сорокина маскируются под реальность лишь для того, чтобы вскрыть ее отсутствие. Но образовавшееся в результате этой операции ничто и есть кредо автора: отрицание становится утверждением, а книга – символом – веры.
Что же хочет сказать Сорокин, устраивая дымовую завесу своих опусов?
Продемонстрировав скандальную неспособность языка описать реальность, писатель компрометирует и вторую часть уравнения. Чем является мир, о котором нечего (и нечем) сказать? Мир, единственным несомненным свойством которого является конечность нашего пребывания в нем?
Сорокин не отрицает материальность бытия – он отвергает его ценность. Человек, по Сорокину, – робот бытия. Поэтому и знаменитые сцены расчленения так напоминают разборку машины. Выход из этого абсурдного положения может лежать только по ту сторону жизни, но он предназначен для души, а не тела. Противоречие между ними Сорокин разрешает традиционным, даже ортодоксальным образом: свет истины может увидеть лишь душа, освобожденная от «мерзкой плоти».
Дальше начинается научная фантастика, под которой Сорокин прячет древнюю, идущую от гностиков теологическую систему. В романе «Лед» Сорокин эксплуатирует форму допотопной советской фантастики с ее непременным атрибутом – Тунгусским метеоритом. В книге действуют избранники, носители чистого света, космические пришельцы. Они (обычная сорокинская буквализация метафоры) «выколачивают» дух из подходящих – арийских – тел, чтобы устроить светопреставление, разрушить ложный материальный мир и воссоединиться с вечным светом. Конечно, в конце романа Сорокин по обыкновению разоблачает свой сюжет, обращая его в пародию. Но тривиализация мифа вовсе не равнозначна его профанации. «Лед» работает, хоть и с перебоями, на той же энергии фанатичного отрицания плоти, что и другие книги Сорокина.
«Путь Бро» – следующий роман «ледяной эпопеи» – написан предельно стертым, «никаким» языком, что на фоне предыдущих изысков кажется демонстративным «минус приемом». Решив быть внятным, Сорокин ясно пересказал все то, что раньше говорил обиняками.
На первый взгляд, эта операция не изменила тот фундаментальный миф, который рос и развивался в его прежних сочинениях. Наш бренный, и оттого бессмысленный, мир – недоразумение, итог нелепой ошибки. Жизнь, запертая в смертном теле, – болезнь вечной Вселенной. Разум – заблуждение, побочный продукт опухоли, которую мы зовем мозгом. Человек – робот бытия. Или, как настойчиво повторяет автор в новом романе, «мясная машина», способная только к тупому воспроизводству.
Это невеселое, но и не новое мировоззрение знает только один выход из положения. Редкие души, познавшие истину (у гностиков они назывались «пневматиками», у Сорокина – «говорящие сердцем»), найдут путь к спасению в избавлении от «мерзкой плоти». Этим путем и идут герои книги, начиная с Адама и Евы нового мира – Бро и Фер (чтобы убедить нас в этой аналогии, вторая вручает первому яблоко).
Я понимаю, почему Сорокин, называющий себя «метафизиком», отказывает окружающей нас действительности в подлинной реальности. Я понимаю, почему считающий себя «неоплатоником» автор верит, что по лучу света, запертому в сердцах голубоглазых, можно судить о его нетленном источнике. Но я не понимаю, зачем Сорокин перевел свой эзотерический миф в популярную форму, пародирующую сталинскую фантастику. В процессе этого перевода произошла трансмутация литературной материи: магический реализм, как теперь водится, стал просто сказкой. Что вызывает совсем уже неуместные ассоциации. Скажем, «мясные машины» Сорокина не так сильно отличаются от бездушных и прожорливых «маглов» из «Гарри Поттера».
Дело в том, что миф, которым живет Сорокин, нельзя пересказать. Его, как, впрочем, любой миф, можно только воплотить, создавая литературу, которой отказывает в существовании автор.
Хороший писатель знает, что делает. Настоящий писатель пишет только то, чего еще не умеет, мужественно сохраняя способность меняться. Сорокин всегда писал для себя, не обращая внимания на читателей. В этих романах он пустился на смелый эксперимент, решив писать для всех. Идя навстречу новым поклонникам, писатель тут уже не творит миф, а пересказывает его. Сорокин сказал, что хотел, и миф отлетел.
Кнут и пряник («Сахарный Кремль», «Занос»)Вы всегда пишете о дерьме? – спросила Сорокина девушка-интервьюер.
Нет, – ответил писатель, – я всегда пишу о русской метафизике.
В сущности, так оно и есть. Отрасль знания, которая исследует то, что идет «за физикой», изучает исконную, фундаментальную, неподвижную реальность – ту, что не видно не вооруженным болью и талантом глазом. В этом темном царстве вечных форм опытный платоник Владимир Сорокин отыскивает национальный архетип. В этом ему помогает гражданский темперамент автора, который постоянно ссорит его с властями.
Это неудивительно, если согласиться с тем, что в литературном процессе нашего поколения Сорокин играет ту же роль, что Солженицын – для шестидесятников. Но если Солженицын воссоздавал прошлое, то Сорокин – будущее. Один искал корни трагедии, другой ее предсказывает. Импульс, однако, тот же – правда. Для Солженицына «жить не по лжи» значило открыть то, что скрывали власти, для Сорокина то, что от нас прячет язык. И тут их пути навсегда расходятся, ибо Солженицын говорил с временем, а Сорокин его, время, слушает.
Сорокин мыслит пластами и сочиняет циклами. Нащупав нерв эпохи, он его не оставляет, пока тот не перестанет ныть. Поэтому, открыв «Днем опричника» самодержавную утопию, Сорокин испытывает свой сюжет в двух других жанрах – эпическом и драматическом.
«Сахарный Кремль» – сборник рассказов, объединенный не сюжетом, а языком. Гладкий, песенный, с присказками и припевами, ужимками и прибаутками, он легко течет из одних уст в другие, воссоздавая одинаково умилительную интонацию патриотической открытки или календаря с его официальным задором и русифицированной лексикой. Стиль à la russe, но – XXI века. Вместо того чтобы выключить компьютер, здесь «усыпляют умную машину». Сундучок с виртуальным оборудованием для допросов «на Лубянке ласково прозвали „Несмеяной“».
Собственно, именно так – сладко! – и должна звучать повесть с названием «Сахарный Кремль». Расколотый на кусочки, он служит приманкой, на которую автор ловит своих персонажей. Твердый и сладкий «сахарный кремль» связывает в одну панораму пестрое соединение глав. Так Сорокин, следуя за своим любимым приемом, материализует центральную метафору, которой в ранней «Норме» был кал, а теперь – сахар. С тех пор как Кремль сменил цвет с красного на белый, он всех кормит. Вернее – подкармливает. Отстояв в длинной очереди, каждый может выбрать товар по вкусу, из двух – один: «Сухари с изюмом и без, сахар-песок и кусковой, каша пшенная и гречневая, хлеб белый и черный».
За это и любовь, которой не мешает другой постоянный мотив – порка. У Сорокина все время кого-нибудь секут: детей, жен, заключенных. Но где кнут, там и пряник. И раз бьют, значит, любят.
Задав в «Дне опричника» параметры утопии, Сорокин вышивает на емких страницах книги отечественный кошмар с китайским акцентом. Как Свифт и Оруэлл, но скорее как братья Стругацкие, он смеется над знакомым и выдумывает фантастическое. Тут бродят «шерстяные оборванцы», «мокрые наемники», «беспощадные технотроны» и кокетливые дамы в «живородящих шубах». И все это лишь оттеняет вневременную природу сорокинского вымысла. Спрессовав пять веков истории, он описывает действительность, опущенную в вечность. Органическая жизнь, отлившись в единственно возможную для себя форму, обречена длиться без конца.
Но это только так кажется, потому что, как каркает автор, в 2028-м нефть кончится. И даже он не знает, что тогда будет.
В более позднем опусе «Занос» Сорокин возвращается из недалекого будущего в недалекое прошлое. Эта пьеса – симметричный диптих с прологом, эпилогом и социальным подтекстом.
Первая часть – банальная до скуки картинка из современной жизни. Кухонный, застольный, застойный реализм, изображающий деградацию нищей богемы в богатую олигархию. Прежний быт – с утренней водкой, вчерашними щами, пастернаковскими стихами и вылепленным из торта динозавром с русским флажком, который заполз сюда, в компанию поздних шестидесятников, из аксеновского «Ожога».
Интересное начинается во втором акте, когда Сорокин на протяжении десятков станиц мучает непонятными репликами читателя – но не зрителя. На сцене происходит радикальная экспроприация – с участием автогена, бульдозеров, динамита, внутренних войск, думских депутатов и обездоленной бедноты в виде анонимных таджиков, растаскивающих то, что осталось после власти, вновь разрешившей себе грабить награбленное.
Зазор между действием и речью заполняют лексические монстры, которыми обмениваются ворвавшиеся в дом олигарха военные. «Печальные носороги», «торжественное пропихо», «мокрый ворон», «спокойный броненосец», «трудные нарывы», «друзья государства», «весеннее настроение», «вечное усиление», «холодные тайны» – первая половина персонажей не знает, что это значит, зато вторая прекрасно понимает друг друга. В «Заносе» палачи и жертвы говорят по-разному, ибо распался союз капитала и власти. Устранив соперника, последняя заговорила по-своему.
Новояз Сорокина чрезвычайно оригинален. Оставшаяся от советского официоза интонация прослоена стилем гадательной книги «И-цзин»: «впереди сладкая неволя», «белый камень в доме – почет для страны», «мерило всему – выдержка, а мерило не всему – удача». Эти непереводимые магические формулы – язык самой судьбы, которая, как сорокинские Эринии в погонах, прекрасно обходится без умопостигаемой речи.
Пьесу окаймляют два сна-фельетона, которые переводят для читателя то, что еще осталось неясным зрителю. В первом фигурирует языческий кумир Медопут, статую которого составляет железный человек, сидящий верхом на деревянном. Во втором сне безразличная мать сыра земля пожирает всех вылезших из нее. В финале на сцене остается только один герой, да и тот – попугай.
У китайцев, о которых Сорокин никогда надолго не забывает, попугай служил намеком: самую умную – говорящую – птицу первой сажают в клетку. Этот, правда, сумел сбежать, чтобы закончить «Занос» последней, уже нечеловеческой репликой: «Супрематизм», словом-паролем, которое, как «Черный квадрат», значит сразу все и ничего.
Пробка («Метель»)Эту повесть Сорокина я читал в пробках. Дело было так. Я здоровался с шофером, машина отчаливала от тротуара и тут же замирала среди себе подобных. Водитель включал радио, а я, чтобы не слушать таджикские шутки, которые на мой испорченный политкорректностью вкус казались не юмором, а хамством, открывал только что купленную «Метель».
Герои книги тоже никуда не могут доехать. День и ночь пробиваясь сквозь метель, они проводят в дороге жизнь, насыщенную опасными приключениями, мучительными грезами, любовными авантюрами, наркотическим бредом и рассуждениями о природе добра, зла и народа. Пейзаж, однако, не меняется, ибо ничего, как в метро, не видно. Поэтому цель поездки постепенно тускнеет, и единственно важным становится сама дорога, найти которую все труднее.
В Москве я быстро освоил этот экзистенциальный модус и перестал смотреть на часы. Поскольку никто не знает, когда закончится путешествие, обстоятельства времени заменяет описание местности. Каждый мобильник города ведет путевой репортаж, с восторгом и трепетом хвастаясь гомерическим размахом пробки. Раньше в Москве так говорили о морозах. Убедившись, что мы еще не доехали до первого светофора, я углубился в чтение.
Как всегда у Сорокина, текст был одновременно знакомым и фантастическим. Взяв для канвы Толстого, Сорокин ввел в стилизацию частный арсенал – буквализированные метафоры. Так, маленький человек русской литературы стал у него еще меньше. Теперь он помещается в тарелку, пьянеет с наперстка, но ругается, как большой. Вместе с простым народом измельчали и его животные. Самокатные сани в «Метели» приводят в движение пятьдесят лошадиных сил, каждая размером с мышку.
В нашей машине сил было больше, но они все уходили на то, чтобы портить воздух. Сизый от выхлопа, он пьянил, как гидролизный спирт, и глушил тоску по свободе. Пробка отбивала все желания, кроме одного – свернуть в пустой переулок. Чудом достигнув его, машины пускались наперегонки, чтобы насладиться быстрой ездой, которая продолжалась не дольше квартала.
Вернувшись в прежнее положение, я продолжил знакомство с постапокалиптическим миром Сорокина. По автору, антиутопия начнется, как только кончится нефть.
– Быстрее бы, – подумал я, глядя на заколдованный город, в котором все едут, но никто не двигается.
У раннего Сорокина таким оксюмороном была очередь, у зрелого – метель. Вечная и безразличная, она кажется естественным препятствием, но физический вызов в книге оказывается метафизическим. В «Капитанской дочке» буран служит завязкой истории, в «Хозяине и работнике» – развязкой, но здесь снег – центральный герой. Мешая найти дорогу, он не позволяет ни добраться до места назначения, ни вернуться домой.
– Лучше бы его не покидать, – проворчал я, но обратного хода из пробки тоже нет.
Зная об этом, водитель загудел, и вместе с ним отчаянно и бесполезно завыло все стадо.
– Этот стон у них песней зовется, – вспомнил я классику, без которой Сорокина читать нельзя.
В сущности, он не профанирует великую словесность, а суммирует ее. Ямщик Перхушка – собирательный образ страждущего, но импотентного народа. Доктор Гарин – совокупность доброхотов либеральной традиции. Верный своему врачебному долгу, он везет вакцину, которая предохраняет от латиноамериканского мора, превращающего людей в зомби (кокаин?). По дороге Гарин проходит через все положенные интеллигентному персонажу испытания. Он отдается мимолетной страсти, братается с мужиком, бьет его по лицу, ищет искупления и находит его в адских муках. Под воздействием психоделического зелья Гарин оказывается в чрезвычайно реалистической преисподней, где его, как и было нам не раз обещано, варят в постном масле. От страшных мучений не спасает ни публичная исповедь, ни страстная мольба, ни пустые угрозы. Зато, очнувшись, Гарин заново переживает религиозный восторг от возвращенной жизни и покупает впрок две порции зелья, которое сильно напоминает романы Достоевского.
Стоя в пробке, я часто вспоминал его «баньку с пауками». Общее тут – адский кошмар отрицательной вечности: время идет, но ничего не меняется, особенно – на Садовом.
– В Нью-Йорке, – от тоски сказал я шоферу, – мэр ездит на метро.
– Дешевка, – пробурчал водитель и, проскочив на желтый, надежно перекрыл перекресток.
Вдоль улицы стояли машины, одни – с людьми, другие – без. Часть запаркованных автомобилей выстроилась вдоль тротуара, другая – поперек, остальные застыли в неожиданных позах, напоминающих о вакхическом забытье. Просторнее от этого не стало, и шофер пробирался, как лазутчик в тылу врага.
Опасности подстерегают и героев сорокинской повести. Им трудно, потому что они не вышли ростом. Тем более – по сравнению с богатырями прошлого. В мертвую голову одного из них (привет «Руслану») врезалась повозка, сломав полоз в носу великана. Засыпанная снегом окаменелость осталась здесь от прежнего времени. «Богатыри, не вы», – как бы цитирует этой сценой Сорокин заодно и Лермонтова. «Большие» мужики прошлого описаны в «Метели» с фольклорным размахом и физиологическими подробностями: по пословице, «молодца и сопли красят». В ударе они сносят целый лес, в драке – заливают кровью канаву, в обиде – так гадят в колодец, что неделю не вычерпать. Даже мертвым гигант служит преградой, вынуждая героев прорубаться сквозь его гайморитовую ноздрю. По Сорокину, величественное прошлое тормозит настоящее, у которого, впрочем, все равно нет будущего. Снег так и не кончится, Перхушка замерзнет, Гарин никуда не доедет. «Метель» – движение без перемещения. Отчужденное снегом пространство в конечном счете оказывается и впрямь чужим. Как многие опусы Сорокина, «Метель» кончается по-китайски, когда новый хозяин жизни въезжает в финал на трехэтажном коне.
Повесть добралась до конца, а мы нет, и, закрыв книгу, я принялся вместе с шофером ругать пробку – монотонно и азартно, как советскую власть на старой кухне. Пробка – идеальная затычка. Избирательное зло, она наказывает только имущих, мешая им срастись с фрондой. Ведь пробка не только объединяет, но и разъединяет. Попавшие в нее мечтают избавиться от беды не разом, а по одному. Но для этого нужно магическое, как в прозе Сорокина, средство – мигалки.