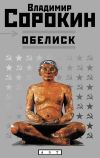Автор книги: Сборник
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 56 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Какова взаимосвязь крушения языковых норм в 1990-е годы и того смещения поэтики, которое мы назвали переходом от Сорокина-1 к Сорокину-3? Достаточно очевидно, что в 1990-е Сорокин писал значительно меньше, чем раньше[122]122
Немзер А. С. Указ. соч. 2003. С. 250.
[Закрыть]. Он сам признал в 1992 году, что «выработал рудник» и «взял паузу» после «Сердец четырех»[123]123
Laird S. Op. cit. Р. 161.
[Закрыть]. В 1990-е он сосредоточился на пьесах и фильмах и вернулся к роману только в 1999 году, написав «Голубое сало».
Таким образом, элитистский автор позволил себе отойти от нарушения норм в то время, когда в языковой реальности этот процесс еще набирал обороты. И массовая реакция на деструкцию поэтики пришла после того, как один из ее прежних провозвестников, «новый Сорокин», преодолел элитистскую поэтику шока. Когда массовый читатель узнал о сорокинской поэтике нарушения норм (благодаря его камео-появлению в шоу «За стеклом» в 2001 году и нападкам «Идущих вместе» в 2002-м), постдеструктивная тенденция уже была хорошо ощутима в его произведениях. Таким образом, тенденции в поэтике одного из самых ранних и самых радикальных нарушителей норм, неоавангардного писателя Сорокина, в действительности никогда не совпадали с развитием массовой культуры и сдвигами в языковой реальности. Он предвидел крушение норм, но обвинения в его адрес прозвучали лишь после того, как он уже ушел вперед и работал в иной сфере.
Перевод с английского Андрея Степанова
© А. Степанов, перевод с английского, 2018
Сорокин и рождение новой русской литературы
Евгений Добренко
В начале 1920-х годов Виктор Шкловский сформулировал ключевой закон литературного развития: «наследование при смене литературных школ идет не от отца к сыну, а от дяди к племяннику». Поясняя эту аналогию, он утверждал, что «в каждую литературную эпоху существует не одна, а несколько литературных школ. Они существуют в литературе одновременно, причем одна из них представляет ее канонизированный гребень. Другие существуют неканонизированно, глухо». Развитие идет через взрыв «младшей линии», которая «врывается на место старшей». Линии сменяют одна другую, и «побежденная линия не уничтожается, не перестает существовать. Она только сбивается с гребня, уходит вниз гулять под паром и снова может воскреснуть, являясь вечным претендентом на престол». Однако и линия-победитель («гегемон») «не является восстановлением прежней формы, а осложнена присутствием черт других младших школ, да и чертами, унаследованными от своей предшественницы по престолу, но уже в служебной роли»[124]124
Шкловский В. Б. Гамбургский счет: Статьи – воспоминания – эссе (1914–1933). М.: Советский писатель, 1990. С. 121.
[Закрыть].
Обратим внимание на то, что определяющим в метафоре Шкловского является наличие/отсутствие канона («канонизированный гребень» / «неканоничность»). Подобно тому как соцреализм родился на пересечении классической русской литературы, символизма и авангарда, новая русская литература родилась из неофициальной литературы, позиционировавшей себя как нечто внешнее по отношению к литературному канону, каковым в советское время был соцреализм и его дериваты (в широком жанровом, стилевом и идеологическом спектре).
Поэтому в позднесоветскую эпоху новая литература не могла не формироваться главным образом через полемическое позиционирование к соцреалистическому канону, который после смерти Сталина был ослаблен. Неудивительно, что и на протяжении большей части времени, прошедшего после коллапса Советского Союза, новая русская литература продолжала оставаться постсоветской par excellence. В ее центре находилась развивающаяся в новых условиях неподцензурная позднесоветская литература. При всей широте диапазона входивших в нее направлений – от авторов и групп, опиравшихся на постмодернистские стратегии, до тех, кто работал в русле традиционных конвенций, – главное, что ее объединяло, была апелляция к советскому прошлому. В той мере, в какой это прошлое продолжало оставаться источником притяжения/отталкивания, доменом новой образности, генератором бесконечной стилевой игры, эта литература оставалась постсоветской: советскость была не просто одним из ее компонентов, но настоящим центром поздне– и постсоветского литературного воображаемого. В сущности, литература продолжала переработку советского мира/мифа, который оставался одновременно точкой отталкивания и магнитом.
Возвращаясь к метафоре Шкловского, можно было бы сказать, что соцреалистическое «наследство» так ни к кому и не перешло, но оказалось растасканным братьями и сестрами, которые при жизни покойного питали к нему сложные чувства – от ненависти до насмешки. Дележ этого «наследства» продолжался более двух десятилетий, однако уже вполне обозначилась тенденция, которая позволяет говорить о том, что «постсоветская» литература завершилась, а казавшееся неисчерпаемым «наследство» советского прошлого перестает завораживать наследников (племянников), хотя выработанные в ходе процесса переработки советского эстетического опыта приемы остаются актуальными и художественно продуктивными.
Эволюция творчества Владимира Сорокина – прекрасное тому подтверждение. Тенденция, которая прослеживается в его текстах, однозначно указывает на происшедшую эволюционную смену эстетической парадигмы. В них отчетливо видно, как процесс редуцирования «советского присутствия» в постсоветской литературе создает новую ситуацию: о советском напоминает теперь только прием, которым оно вначале остранялось, а постсоветская реальность, которая поначалу была почти полностью заслонена остраненными советскими образами, начала наконец обретать новую поэтику. Можно сказать, что четвертьвековая история переработки советского прошлого стала историей превращения постсоветской литературы в новую русскую литературу.
Текстуализация травмы: искусство, остраняющее искусствоФормирование эстетики соцреализма, который был «канонизированным гребнем» русской литературы в советскую эпоху, происходило в середине 1930-х годов, когда, по точному замечанию Михаила Рыклина, СССР «стал отгораживаться от окружающего рационализма особым, нерасшифровываемым языком травмы»[125]125
Рыклин М. Пространства ликования. Тоталитаризм и различие. М.: Логос, 2002. С. 57.
[Закрыть]. Именно в соцреализме происходит эстетическое окисление марксистского рационализма. Соцреалистическая продукция становится воплощением сублимированной политики. Соцреализм превратился в своего рода машину кодирования травмы, в магии его письма рациональность растворилась, оставив лишь чистую форму – приемы кодирования. Именно с ними и станет впоследствии работать соц-арт.
Текстуализация как стратегия работы с советской идеологией была задана постсоветскому искусству самой коммуникативной стратегией сталинизма, основанной на текстуализации власти, которая была здесь священным текстом, записанным до всякой речи. «Марксизм-ленинизм» функционировал именно в качестве сакральных текстов[126]126
Подорога В. Голос письма и письмо власти // Тоталитаризм как исторический феномен. M.: Философское общество СССР, 1989. С. 110.
[Закрыть]. Сталинская культура была культурой текстуального беспокойства, занятой измерением разрыва между реальностью и текстом, с одной стороны, и между сакральным текстом, произведенным или одобренным Сталиным, и любым индивидуальным текстом, с другой. Поскольку Сталин осуществлял высший акт письма, занятие письмом становилось политически опасным. Но одновременно, поскольку самое формирование коллектива проходило через процедуры правильного чтения текстов власти[127]127
Там же.
[Закрыть], письмо было и самым важным занятием. Отсюда – статус советских писателей и внимание к тексту в этой культуре.
Уничтожение героев революции в сталинизме – людей речи, риторов, ораторов привело не только к полному растворению речи в письме, но и к невозможности чтения. Как замечает Валерий Подорога, «правильное» чтение в сталинизме невозможно в принципе, и всякий, кто пытается правильно читать, подвергает себя опасности быть обвиненным в искажении «буквы» или «духа» текста: «Не то сказал, там сболтнул лишнего, тут оговорился, здесь совершил языковую ошибку и т. п., – вся эта совокупность „легкой“ социальной патологии, все эти афазии, апраксии, агнозии не признавались в сталинской машине террора за нечто „случайное“, а толковались как подлинные знаки-следы политического бессознательного, как очевидное проявление потенциальной вины каждого человека перед властью»[128]128
Там же.
[Закрыть]. Соц-арт стал настоящим складом подобных «случайностей», поставленным на поток производством проговорок – даже не знаков-следов, но политического бессознательного, поданного в форме потока сознания. Он стал языком декодирования травмы.
Десакрализация советской идеологии была невозможна без десакрализации стиля. Антисоветский социально-идеологический роман (от Солженицына до Гроссмана) был стилистическим дериватом соцреализма. Эстетизация советского социума, мира советской «наглядной агитации», средств массовой информации, идеологической установочной речи, эстетики плаката и лозунга, массовой пропагандистской литературы и изопродукции была, по точному определению Бориса Гройса, процессом преодоления ее стертости[129]129
Гройс Б. Утопия и обмен. М.: Знак, 1993. С. 85.
[Закрыть]. Эта стертость была воспринята соц-артом как главная эстетическая ценность, по отношению к которой применяется стратегия не замены или «оживления», но культивирования. Соц-артистский текст становится транспарентным: он соткан лишь затем, чтобы что-то сквозь себя просвечивать (идеологемы, мифы, литературные клише, пропагандистские матрицы и так далее).
Соц-арт демифологизировал реальность через ее ремифологизацию в полном соответствии с рецептом Ролана Барта:
…одолеть миф изнутри чрезвычайно сложно, ибо действия, посредством которых от него пытаются избавиться, сами становятся его добычей: в конечном счете миф всегда может сделать так, чтобы им обозначалось оказываемое ему сопротивление. Так что, возможно, лучшее оружие против мифа – в свою очередь мифологизировать его, создавать искусственный миф; такой реконструированный миф как раз и оказался бы истинной мифологией. Если миф – похититель языка, то почему бы не похитить сам миф? Для этого нужно лишь сделать его исходным пунктом третичной семиологической цепи, превратить его значение в первый элемент вторичного мифа[130]130
Барт Р. Мифологии. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1996. С. 261–262.
[Закрыть].
Эта работа и составила основу соц-арта, что принципиально отличает его от стратегий демифологизации сталинской мифологии, используемых диссидентской идеологической литературой. Основанная на той же миметической эстетике, идеологическая деконструкция была когерентна соцреализму. Иное дело – деконструкция дискурсивная, вскрывающая соцреалистическую мифологию через экспликацию скрытых в ней насилия и травмы. Она разрушает магический дискурс соцреализма, в котором дереализация жизни достигается благодаря ее тотальной эстетизации: в соц-арте искусство остраняет не жизнь, но самое искусство[131]131
См.: Добренко Е. Преодоление идеологии: Заметки о соц-арте // Волга. 1990. № 11. С. 164–184.
[Закрыть]. Мир ранних рассказов Сорокина начинается и заканчивается литературой. Только на одном их полюсе – чистое соцреалистическое письмо, а на другом фантасмагорический сдвиг, призванный это письмо остранить. В действительности же сдвиг этот – при всем его алогизме и неожиданности – имеет строгую логику и привязку: за миметичностью и рационализмом соцреалистического письма он вскрывает его иррациональность и потаенный смысл – возвращает языку травмы ее нерасшифровываемость и делает саму травму эксплицитной.
В этой работе с коллективной речью и коллективным зрением московский концептуализм (Владимир Сорокин, Дмитрий Пригов, Лев Рубинштейн, позже группа «Медицинская герменевтика») продолжил традиции обэриутов (1920–1930-е) и «лианозовской школы» (1950–1970-е). Но соц-арт (и это особенно хорошо видно у раннего Сорокина) пошел дальше, связав соцреализм, то есть официальный советский дискурс, с первичными речевыми практиками, которые не были спущены сверху или навязаны низам насильственно. Более того, «вместо того чтобы пытаться „облагородить“ этот язык „правильным“, гуманистическим содержанием, лишив его связи с коллективной речью, он предложил принять всерьез эту форму и попытаться поработать со следствиями, которые из нее вытекают»[132]132
Рыклин М. Время диагноза. М.: Логос, 2003. С. 226.
[Закрыть]. Стратегия определялась задачей: «Только овладев знаками соцреализма более виртуозно, чем его представители, можно подорвать эту традицию изнутри. Обычная пародия на нее бессмысленна, так как сама она глубоко пародийна»[133]133
Там же.
[Закрыть].
Ранний Сорокин использовал все формы работы с советским дискурсом, которые культивировали каждый в отдельности его коллеги – будь то имитация устной речи у Всеволода Некрасова, серийность и гиперлитературность у Дмитрия Пригова, поток коллективного бессознательного у Льва Рубинштейна. Это позволило ему пройти до конца свой путь в соц-арте, уйдя из соцреализма не в другие институционализированные языки и стилевые конвенции, как сделали его коллеги (Пригов, Брускин, Пепперштейн), но открыть за тривиальной насильственностью этой институционализированной речи историческую толщу. Рассуждая о своем раннем творчестве, ориентированном исключительно на соцреализм, Сорокин говорил, что лишь позже понял, насколько глубоко соцреализм был связан с «русской реалистической традицией вообще», что «сейчас безусловно видно, что соцреализм – законнорожденный ребенок ВРЛ [Великой Русской Литературы]»[134]134
Сорокин В. Процесс порождения текстов протекает у меня как контролируемый приступ эпилепсии. Интервью // Топология Междустрочья. 2003. 16 апреля. (Цит. по: Марусенков М. П. Абсурдистские тенденции в творчестве В. Г. Сорокина. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. М., 2010. С. 6.)
[Закрыть].
В рассказах Сорокина, составивших «Первый субботник», эта стратегия проявляет себя программно. В ходе ее, как замечает Марк Липовецкий, соцреализм «возвращается к своему структурному ядру», все его дискурсивные элементы «разгоняются до своего максимума, при этом „культурное“ переходит в „природное“ и наоборот. В соответствии с этой логикой дискурсивная власть переводится во власть насильственную, телесную, сексуальную, причем образы, выражающие эту власть, неизменно вызывают непосредственную эмоциональную реакцию – чаще всего отвращение». Парадоксален и результат этой операции:
…с одной стороны, ценности соцреалистического мирообраза резко травестируются: поиск, нацеленный на социальную интеграцию, в буквальном смысле приводит к экскрементам, унижению, садистическому насилию. С другой стороны, именно эти моменты, нарушающие миметическую инерцию соцреалистического дискурса, и знаменуют окончательный переход в измерение мифа. Обнажение абсурдности дискурса совпадает с торжеством мифологического порядка. Вот источник амбивалентности соц-арта: отвратительное и абсурдное манифестируют мифологическую гармонию, достигнутая гармония вызывает рвоту[135]135
Lipovetsky M. Russian Postmodernist Fiction: Dialogue with Chaos Armonk. N. Y.: M. E. Sharpe, 1999. P. 205.
[Закрыть].
«Первый субботник» Илья Кукулин справедливо назвал «первым образцом русской прозы, где соц-арт становится осознанно применяемым методом»[136]136
Кукулин И. Кошмары, ставшие классикой // Независимая газета. Ex Libris. 2001. № 26. С. 2.
[Закрыть]. О том же говорил и сам Сорокин, утверждая, что сборник специально построен «по канонам официальной советской литературы». Свою задачу автор видел в «манипуляции с этим жестким каноническим стилем, с порожденными им персонажами»[137]137
Сорокин В. Текст как наркотик. Интервью // Сорокин В. Сборник рассказов. М.: Русслит, 1992. С. 119.
[Закрыть]. Рассказы писались в начале 1980-х годов, а увидели свет в 1992 году. Сборник Сорокина имел эксплицитный программно-экспериментальный характер и поражал не только новизной приема, но и широтой регистров соцреалистического письма, которые подлежали здесь тотальной дискурсивной деконструкции. В нем был представлен едва ли не весь спектр соцреалистических конвенций – от школьной повести («Сергей Андреевич», «Деловое предложение», «Свободный урок») до приключенческой («Геологи», «Кисет»), от производственной прозы («Соревнование», «Заседание завкома», «Первый субботник», «Вызов к директору») до колхозной («Разговор по душам», «Поездка за город», «Открытие сезона»), от военной прозы («В Доме офицеров», «Обелиск») до бытовой («Ночные гости»), от мемуарной прозы («Желудевая Падь», «Поминальное слово») до пейзажной («Соловьиная роща») и лирической («Прощание», «Санькина любовь», «Возвращение», «Любовь»).
Происходившее в конце каждого рассказа смещение представляло собой образцовое остранение, специфика которого состояла в том, что роль «жизни» заняло самое искусство. Это письмо полностью зациклено на переработке соцреалистического текста. Лабораторно чистый литературоцентризм этой прозы делал ее изоморфной самому соцреализму, полностью «отключенному» от реальности. У Сорокина она прорывается через абсурд финалов, которые находятся за пределами литературных референций, поэтому абсурд становится единственным каналом для реальности. Этот прием впоследствии станет ключевым в трансформации постсоветской литературы. Объем вводимой актуальной реальности будет в ней непрестанно увеличиваться, пока сквозь абсурд и фантасмагорию она не начнет проступать и у самого Сорокина. Но произойдет это много позже, когда соц-арт станет историей. Пока же письмо Сорокина полностью литературно.
Здесь проявилась главная черта соц-арта – его несамодостаточность: вне референции к первичному языку – дискурсивным и визуальным конвенциям соцреализма – это искусство лишено кода и не поддается прочтению. Оно потому и направлено прежде всего против миметических стратегий реализма, что именно в «отражении реальности» справедливо усматривает механизм соцреалистической мистификации. Слом этого механизма миметической эстетики и составляет главную задачу различных деконструктивистских стратегий соц-арта, открывая путь к новым формам письма. Этой работе Сорокин посвятил не менее десяти лет. Мир «Первого субботника» (1980–1984), «Нормы» (1979–1984), «Тридцатой любви Марины» (1982–1984), «Сердец четырех» (1991) до такой степени литературен и лишен персональности, что травматический опыт деперсонализации становится, по точному замечанию Рыклина, настоящим испытанием для читателя. Ведь «исключительным „героем“ этого рода литературы является дискурс, речь до субъекта и объекта». Причем из-за «отсутствия автономии, из-за отсутствия субъекта, который мог бы им овладеть, и принципиальной массовидности происходящего» можно говорить об «асемиотичности этого литературного опыта»[138]138
Рыклин М. Террорологики. Тарту; М.: Эйдос, 1992. С. 100.
[Закрыть].
Деперсонализация была основой соц-артистского письма, поскольку соц-арт работал с «логиками коллективных тел» и «коллективным зрением». Обнажение изнанки коллективной речи и голоса коллективных тел стали «фирменным знаком раннего Сорокина»[139]139
Рыклин М. Время диагноза. С. 213.
[Закрыть]. Ситуация обрыва спокойного, конвенциального идеологического или лирического текста шоком, воспроизводящаяся во всей его ранней прозе, была результатом осознанной стратегии: шок вызывается не стилевым сдвигом, но обнажением вытесненного «как действительно фундаментального, того, что может проявиться лишь в крайности, в эксцессе»[140]140
Там же. С. 219.
[Закрыть]. Этот эксцесс, таким образом, и есть способ, прием возвращения исходной ситуации соцреалистического письма. С его помощью Сорокин срывает покровы квазирациональности с соцреалистического письма, выставляя напоказ как саму ортодоксальную коллективную речь, так и ее настоящее травматическое содержание. Автор в этот момент выступает в качестве медиума этой коллективной речи, и здесь Сорокин реализует свой «бесспорный медиумический талант»[141]141
Там же. С. 231.
[Закрыть].
Чем отчетливее в России 2000-х годов стал проступать советский культурный и ментальный профиль, чем яснее обозначилась тенденция к возврату к советской политической культуре, чем сильнее заявила о себе ностальгия по всему советскому (от стиля, моды и архитектуры до политической риторики), чем более заряженной стала идеологическая атмосфера, тем яснее сдвиг к политизации проявился в литературной среде, и в особенности в среде писателей нового поколения, где периферийный ранее тренд стал мейнстримом в широком диапазоне от леворадикальных и анархо-синдикалистских взглядов до православно-охранительных и государственно-националистических. Здесь пересекаются рефлексия по поводу растущей социальной апатии и отчужденности от политической жизни страны с попытками их оправдания, ощущение усиливающейся провинциализации России с ее опорой на «исконные духовные скрепы» с желанием быть вписанным в глобальный культурный процесс. В свою очередь, к этому нужно добавить маркетинговую установку на максимальную совместимость с различными категориями потребителей художественной продукции (от соответствия требованиям эстетско-экспертного сообщества до потакания распространенным социальным стереотипам и стилевым конвенциям), фрустрацию, связанную с резким изменением бытования литературы в различных медиальных средах и снижением ее статуса (а соответственно, и статуса писателя), маргинализацию институтов культуры и так далее.
На все это накладывается феномен социального цинизма, ставший структурирующим признаком постсоветского мировоззрения, характерного для общества, на всех уровнях (от политических и культурных элит до социальных низов) переживающего фантомные имперские боли и травму утерянного величия, зараженного ментальностью осажденной крепости и теориями заговора. Особенно распространенный в среде аутсайдеров и ущемленных в социальном и культурном отношении групп населения цинизм, нараставший в позднесоветское время и ставший настоящей пандемией в путинской России с ее тотальной коррупцией, бесправием и произволом властей, пронизал все слои общества. Как показал Слотердайк, именно цинизм как форма сознания соответствует абстрактно-искусственному социальному телу буржуазного общества. Понятно, что, говоря о цинизме, мы имеем в виду отнюдь не моральную, но сугубо структурную категорию: цинизм основан на провокации и двоемирии, где во всем видимом (высоком) усматривается невидимое (низкое). Эта двойственность определяет работу с историческими аллюзиями. Поскольку в цинизме доминирует прагматическое над идеальным, прошлое отходит здесь на второй план, уступая место политической инструментальности и актуальной современности. Наконец, если в концептуализме действовал механизм реэстетизации и натурализации советского мифа, то теперь полностью десемантизированный советский миф предстает, по сути, как минус-прием.
В постсоветской литературе 1990–2000-х произошла политическая инструментализация и эстетическая автоматизация приема. Апелляция к советскому прошлому становилась все менее эстетически значимой, превратившись наконец в одну из периферийных конвенций современной литературы. Вершиной этой автоматизации приема является его способность превращаться в минус-прием: он становится настолько предсказуемым, что уже ожидаем читателем (который «ждет уж рифмы розы»), так что остраняющим фактором становится самое его не-появление. Здесь мы обратимся к сборнику «Моноклон», вышедшему отдельным изданием в 2010 году, однако «новой книгой» не ставшему: многие из вошедших в него рассказов публиковались раньше, так что сборник стал отражением эволюции позднего Сорокина, отразившей, в свою очередь, эволюцию всей постсоветской литературы за прошедшие четверть века.
Критики единодушно отмечали, что «Моноклон» очень напоминает Сорокина времен «Первого субботника» и «Нормы». Структурно так оно и есть: подобно ранним текстам соц-артовского периода, ситуация разворачивается как обыденная, затем наступает сдвиг, происходит полное разрушение сложившейся картины, которая к концу начинает складываться в нечто сюрреалистически-чудовищное. Но если ранее исходным текстом был соцреализм – и именно его конвенции подлежали дискурсивной деконструкции, то теперь на его место пришла реалистически выписываемая актуальная современность, которая взрывается не дискурсивно (поскольку она не имеет дискурсивных констант), но лишь сюжетно. Эффект соц-артовского текста состоял в том, что Сорокин действовал на стыке дискурса и реальности: ситуации, которые он создавал в своих ранних текстах, были прежде всего дискурсивными, и, когда слом происходил в этом дискурсивном поле, читатель оказывался с реальностью лицом к лицу, без соцреалистического посредника. Это и вызывало шок. Эстетическое задание состояло в остранении советского текста. В новых рассказах это дискурсивное измерение исчезло. Источником этих рассказов становится не текст, как прежде, но непосредственная актуальность – «нарастающая концентрация абсурда и гротеска в обществе. И этот сборник как раз попытка нащупать эту самую концентрацию гротеска»[142]142
Сорокин В. Для писателя здесь – Эльдорадо. Интервью для Time Out Москва (http://www.timeout.ru/journal/feature/14452/).
[Закрыть].
Сорокин использует прежний прием для работы с совсем иным материалом – текущей повседневностью: здесь и митинг активистов движения «Мы вместе» («Наши») на Ленинском проспекте («Моноклон»), и марш несогласных – несанкционированные митинги в поддержку 31-й статьи Конституции на Триумфальной площади («Тридцать первое»), и пикеты у подъезда журналиста Александра Подрабинека («Смирнов»), и побоище, устроенное майором милиции Денисом Евсюковым в универмаге «Остров» («Тимка»), и модный телесериал («69 серия»), и тандем Путина-Медведева и дело Ходорковского («Занос») и так далее.
На смену остраняющей стратегии Сорокина-концептуалиста пришла нормализованная проза. Ее остраняющий эффект направлен на актуальную реальность. Прием тривиализировался. Ведь «эстетический капитал» Сорокина (как и любой капитал) создавался на опосредованиях: благодаря тому, что автор помещался на границе дискурса и реальности. Смещение писательского интереса к непосредственному контакту с современностью связано не только с изменением материала, но с изменением самой природы приема. Возникший на опосредующем реальность дискурсивном материале прием нес остраняющую функцию. С исчезновением этого материала изменилась и функция приема. И это сохранение остраняющего приема без дискурсивных опосредований нормализовало сорокинскую прозу. Минус-материал обернулся минус-приемом.
Если в ранних рассказах искусство состояло в остранении искусства, то у позднего Сорокина искусство полностью выведено из игры и, в полном соответствии с нормативной эстетикой, между фантазмом и реальностью стоит автор, создающий искусство, «остраняющее действительность», как тому и учил Шкловский. В результате советское прошлое перестало быть элементом структуры. Перестав быть актуальной художественной задачей, остранение советскости в новой русской литературе тематизировалось, ушло в область чистого приема (стилизации эпигонов Сорокина) и минус-приема.
Мысль Шкловского о непрямых наследниках, с которой мы начали эту статью, была метафорой. В работе «Литературный факт» Юрий Тынянов указал, где именно следует искать этих «дядьев» и «племянников»: «каждое уродство, каждая „ошибка“, каждая „неправильность“ нормативной поэтики есть – в потенции – новый конструктивный принцип»[143]143
Тынянов Ю. Н. Литературный факт // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 263.
[Закрыть]. Но эти «ошибки», «уродства» и «неправильности» не даны нам прямо, и, чтобы быть увиденными как таковые, они, в соответствии с формалистской теорией, должны быть остранены. Именно этим занимался ранний Сорокин, последовательно превращая нормативную советскую эстетику в настоящий склад «уродств». Когда прием был наконец обнажен, пришло время его остранения. Так возникла предпосылка для возвращения реальности, которой и предстояло остранять выработанный прием. Замкнутое внутрилитературное остранение сменилось остранением реальности в виде фантазма. Эта реальность еще была неактуальна, хотя поле ее расширилось. Теперь реальность – пусть и привязанная к литературе и фантазму – на равных с ними определяла «новый конструктивный принцип». Затем началась эмансипация реальности, когда литература и фантазм стали занимать подчиненное место, а доминировать стала актуальная реальность. Прослеженная тенденция должна быть верно прочитана: на наших глазах произошел полный цикл трансформации, когда соцреализм, который в постсоветской культуре представительствовал от имени искусства как такового, редуцировался до приема, при помощи которого он сам раньше остранялся, так что теперь не искусство остраняет жизнь, как того требовала «нормативная поэтика», но, наоборот, жизнь стала остранять искусство.
Несмотря на всю свою инаковость, соц-арт и концептуализм в целом (в позднесоветское время эта литература повсеместно называлась «другой») был неконвенциальным только по отношению к соцреализму. Во всем остальном он был вполне конвенциальным искусством, главный признак которого был сформулирован Шкловским столетие назад: остранение действительности. Поскольку в советских условиях место действительности занимал соцреализм, именно он и был воспринят в качестве реальности и объекта остранения. Стратегии соц-арта, выработанные в процессе этого остранения, оказались актуальны и тогда, когда на смену соцреализму пришла новая актуальная реальность.
Рождение реальности, связанной с советской травмой лишь генезисом приема, а затем и выработка «нового конструктивного принципа» ознаменовали разрыв литературы с ее советским прошлым, которое чем дальше, тем больше перестает быть конструктивным принципом письма. Эволюция творчества Сорокина показывает, что, когда по прошествии четверти века наследство стало переходить к племянникам племянников и к внучатым племянникам, стало ясно, что оно не было промотано, но легло в основание новой русской литературы. Так русская литература перестала быть постсоветской.