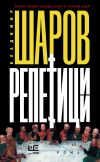Текст книги "Владимир Шаров: По ту сторону истории"
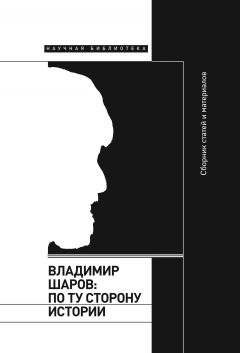
Автор книги: Сборник
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Мясникову никуда не деться от того: а что, если снова сдрейфили? Заляпали бог знает чьей кровью мундир Михаила, а его самого отпустили? Но ведь тогда нет никакой роли Мясникова ни в революции, ни в Гражданской войне… может быть, во веки веков победитель именно Сталин, а он, Мясников, как был, так и останется обыкновенным самозванцем?..
В романе Шарова Мясников сломлен этим сомнением, главное дело его жизни – убийство Михаила – выполнено не было. А значит, вся его жизнь оказалась никчемной. В ночь перед расстрелом ему снится сон – сцена расстрела Михаила Романова и Джонсона, в которой сплелись противоречивые рассказы реальных убийц (Жужгова и Маркова) и фантазия Шарова.
Итак, Мясникову снится сон:
Ночь. Тайга близ Мотовилихи. Тревожное состояние природы. Убийцы привозят своих жертв к месту казни. Спешились. Первым Жужгов несколькими выстрелами убивает Джонсона. Без предупреждения, в голову, не произнеся высокопарных слов. Но с убийством Михаила начинаются нелады. Сначала Михаил бросается к убитому товарищу и начинает причитать над его телом. Убить Михаила именно в этот момент рука не поднимается. Жужгов понимает, что тут-то и надо покончить с Великим князем, но его берет злоба на товарищей: а почему это он должен убивать Михаила, он свое дело сделал, одного убил, теперь пусть вступят товарищи. И вот впятером они стоят вокруг князя и качают права – кому из них стрелять… Тем временем фонари, прихваченные убийцами, раскачивает сильный ветер, тени от вековых елей напоминают гигантские доисторические деревья… Лес превращается в нечто сказочное, мифологическое… страшные ветви сплетены в объятия, круги света, перемещающиеся по лесной поляне… И вдруг в один из таких кругов вбегает заяц. Он начинает носиться по этим кругам, превращаясь в огромное существо, во много раз больше натурального зайца. Заяц скачет из круга в круг, не обращая на присутствующих внимания, как бы издеваясь над ними… И тогда в зайца начинают стрелять. Каждый выпускает в него десятки патронов, но зайцу хоть бы хны. Жужгов понимает, что происходит что-то неприличное, что-то непозволительное. Он берет у одного из стреляющих винтовку, тщательно прицеливается и стреляет. «Когда заяц откуда-то из поднебесья сваливается к их ногам, они видят на земле маленького жалкого зверька, винтовочный выстрел разнес тушку почти в клочья». Старший среди присутствующих Жужгов велит Михаилу раздеться догола и приказывает принести из колясок солдатский сидор с комплектом красноармейского обмундирования. Михаил превращается в красноармейца. Жужгов тем временем штыком винтовки возит зайцем по великокняжескому нижнему белью. Потом он, штыком подтолкнув Михаила под зад в сторону леса, забирает белье и уезжает с товарищами обратно в Мотовилиху…
Вот такой предсмертный сон видит Мясников. И он понимает, продолжает свой очередной рассказ Электра, «что, значит, Жужгов и те люди, которых он послал, не убили великого князя… Струсили, не решились брать на себя новую кровь, и тут неважно, что было потом, погиб Михаил Романов в лесу или, может статься, до сих пор жив – в любом случае он, Мясников, банкрот»3434
Шаров В. Царство Агамемнона. С. 105.
[Закрыть].
Про Мясникова – все ясно: это фиаско. А что для нас в этой притче о зайце и оставшемся в живых Михаиле Романове? – Шаров убедительно и органично переплетает тему убийства Михаила с темой самозванства. Противоречия и неубедительность мемуаристов порождают, в том числе, определенные сомнения. К тому же почва для появления многочисленных самозванцев обильно унавожена не только ходом истории, но и новой, нелегитимной в глазах значительной части населения властью. Важно то, что убийство сакральной особы совершено тайно, ночью, вокруг убийства столько налгано и сокрыто…
Дофантазированная Шаровым мясниковская история убедительно воссоздает то, чего в истории новейшего самозванчества нет или что только прочитывается между строк, – технологию появления самозванца. Шаров представляет атмосферу и среду, в которых самозванцы функционируют.
История Жестовского, могущая показаться в романе Шарова фантасмагорией и «перебором», на самом деле – беллетризованная обработка исторического материала. В реальной истории на самом деле был лже-Михаил Романов, в тридцатых годах скитавшийся по южному Уралу. Некий Михаил Поздеев – самосвят, выдававший себя то за монаха, то за священника, то за Михаила Романова, то за архиепископа Серафима… А еще он же – завербованный агент ОГПУ и бывший зэк, имевший за плечами несколько тюремных и лагерных сроков. Обо всем этом подробно написано в книге В. В. Алексеева и М. Ю. Нечаевой «Воскресшие Романовы?.. К истории самозванчества в России ХX века» (Екатеринбург: УрО РАН, 2000–2002; в двух частях). По уральским селам и деревням двигался сонм самозванцев, поделивших меж собой регион наподобие «детей лейтенанта Шмидта». Несколько Михаилов Романовых, Николаи Вторые, царевичи Алексеи, Великие княжны… Все они присутствуют и в «Царстве Агамемнона».
Шаров – первый автор в постсоветской художественной литературе, успешно разработавший тему самозванчества эпохи СССР. И мне лестно, что помогли ему в этом книги из мемориальской библиотеки.
ТОЛЬКО ОДИН РАЗГОВОР
Александр Журбин
Я поселился в Москве, в писательском доме по адресу Черняховского, 4, в начале 1978 года. Моей женой стала дочь писателя и переводчика Льва Гинзбурга Ирина.
В августе 1978 года родился наш сын Лев. И прожили мы в этом доме до самого отъезда в Америку в 1990 году.
Одно время мы жили в 7‐м подъезде. И в этом же подъезде несколькими этажами выше жила семья писателя Владимира Шарова. Писатель еще молодой, ему было всего 38 лет, но у него уже написано несколько романов, которые позже вошли в золотой фонд литературы: «След в след» и «Репетиции».
Но я тогда ничего об этом не знал. И вообще с Владимиром я был знаком еле-еле; иногда, встречаясь, мы здоровались.
Однако я общался с его женой Ольгой Дунаевской, журналисткой; несколько раз она брала у меня интервью для газеты «Московские новости», где тогда работала.
Но основным поводом для общения были наши сыновья. У Шаровых в это же время родился сын Арсюша, Арсений, который был полным ровесником нашего Левы. И конечно, вполне естественно, что мы их выносили, а потом выкатывали, а потом выводили гулять во двор примерно в одно и то же время, и тем для разговоров было много: чем кормить, чем лечить, как воспитывать. Володя редко гулял с ребенком, да и мы чаще всего поручали это домработницам. Но все-таки иногда, гуляя с колясками, встречались, здоровались, пожимали руки.
Лева подружился с Арсением, и, по-моему, они до сих пор как-то поддерживают связь… Хотя обоим уже за сорок и пошли они совершенно разными путями: Арсений стал бизнесменом, а Лева вместе с нами уехал в Америку и стал здесь довольно известным композитором и музыкантом.
В 1990‐х годах, уже живя в Штатах, я прочитал два романа Владимира Шарова: «Репетиции» и «До и во время». И они произвели на меня огромное впечатление. Особенно «Репетиции». Какая-то есть в этом тексте мистическая сила, что-то непередаваемое словами, какая-то магия.
Как всегда в подобных случаях, я сразу подумал: надо из этого сделать оперу. Или музыкальную мистерию. И даже стал придумывать какую-то музыку.
Но в это время я находился в США, и, конечно, вряд ли подобная история заинтересовала бы американцев – уж слишком она русская, российская.
Интересно, что гораздо позже, уже после смерти Володи, присутствуя на вечере его памяти в «Мемориале», я узнал, что идея о превращении этого текста в некую театральную мистерию была не только у меня. Критик Александр Гаврилов рассказал, что они с друзьями относились к этому тексту как к сакральному и даже читали его вслух, как некую ораторию, находясь рядом с Ново-Иерусалимским монастырем…
Помню, встретив Ольгу, я сказал ей об этом своем желании, она передала его Володе, и он сказал тогда (опять же передав через Ольгу), что был бы очень рад, если бы я написал музыку.
Но, увы, осуществить это было сложно, уж больно необычная тема. Какой театр бы согласился это поставить? И сколько времени и сил на это надо потратить?
Короче, ничего из замысла не получилось.
Жизнь шла своим чередом, в начале 2000‐х годов мы вернулись в Москву, но уже не в тот дом на Черняховского. И ни Володю, ни Олю я больше во дворе не встречал.
Но вот однажды у меня вышла книга под названием «О временах, о музыке и о себе» – уже восьмая по счету. Не могу сказать, что считаю себя писателем, но каждые несколько лет я писал по книге, и основная тема их всех – музыка и моя жизнь.
Так вот, книга вышла в издательстве «Композитор», и была назначена презентация на Книжной ярмарке на ВДНХ.
Это был сентябрь 2017 года.
И надо же так случиться, что прямо передо мной на этой же площадке проходила презентация новой книги Владимира Шарова. Кажется, романа «Царство Агамемнона». Но я могу и ошибаться, поскольку на самой презентации не присутствовал. Но это и неважно. Важно то, что я увидел Володю, одиноко сидящего на сцене: до начала оставалось еще полчаса. Я подошел к нему, мы встретились как старые друзья, обнялись и поцеловались.
И поговорили. Это был наш единственный подробный разговор за всю жизнь.
Я стал ему рассказывать о том, как ценю и люблю его прозу, а он слушал немного смущенно и только повторял: «Как интересно! Как здорово!»
Когда я стал ему рассказывать про свой замысел оперы «Репетиции», он очень заинтересовался. И сказал, что было бы здорово сделать это прямо там, в Ново-Иерусалимском монастыре, и что это не так уж и сложно, главное – получить разрешение начальства, а дальше все будет просто, поскольку декораций строить не надо, они уже готовы, костюмы тоже не нужны, все это есть в монастыре, да и исполнители найдутся там же, надо только отыскать исполнителя главной роли, роли Сертана. И мы стали обсуждать, кто мог бы стать Сертаном, какой у него должен быть возраст и даже какой голос; я уверенно сказал, что у него должен быть тенор, как у Парсифаля или как у Германа в «Пиковой даме», и Володя задумчиво согласился.
Потом мы стали обсуждать возможность сделать музыкальное произведение из книги «До и во время», из всего этого безумия, где есть и Александр Скрябин, и мадам де Сталь, и много еще чего, и тут Володя задумался и сказал: но тогда тебе придется написать ту самую, исчезнувшую «Мистерию» Скрябина. Я возразил, что никакой исчезнувшей партитуры не было, было только неоконченное «Предварительное Действо». Эта партитура прекрасно сохранилась, но ничего особенного в ней нет, ну музыка как музыка, партитура как партитура. Вообще попытался объяснить Володе, что да, Скрябин великий композитор, но все-таки – для фортепиано, что его оркестровые партитуры говорят о его небольшом мастерстве в искусстве инструментовки… но понял, что Володе это слушать неинтересно: он нес в себе свою идею, и какие-то бытовые подробности из жизни Скрябина его не интересовали.
Тут я решил расспросить его о том, что он сейчас пишет и что собирается написать. Мысль о том, чтобы написать что-то музыкальное вместе с Шаровым, не оставляла меня.
Но тут подошли организаторы и сказали, что презентация начинается. Мы попрощались, и я пошел к своим издателям, чтобы подготовить книги для представления…
Больше мы с Володей не виделись.
Но этот единственный разговор запал мне в душу. С тех я прочитал еще несколько книг Шарова – Ольга любезно подарила мне роман «Царство Агамемнона», а также «Возвращение в Египет».
Теперь я понимаю, какой писатель жил рядом со мной, какого уровня человек и мыслитель.
Ужасно жалко, что мы с ним так редко общались, что, живя рядом, я не воспользовался шансом узнать его поближе.
Но мысль написать музыку, связанную с какой-то его книгой, так меня и не оставляет.
И кто его знает, может, эта мысль когда-нибудь осуществится…
СТРОИТЕЛЬ РОМАНОВ-КОРАБЛЕЙ
Анатолий Курчаткин
Взявшись за воспоминания о Володе Шарове для этого сборника, я обнаружил, что в той или иной мере (только иными словами, с иной интонацией) повторяю все свои мысли и чувства, которые были выражены мной сразу после смерти Володи на страницах во всемирной сети – в Фейсбуке и «Живом журнале». Это обстоятельство заставило меня найти и перечитать тот текст. Конечно, многое из того, что мне хотелось бы сейчас сказать о человеческом и писательском феномене Володи, в том тексте не сказалось и сказаться не могло: это был прямой, непосредственный отклик на его смерть. Но зато в нем есть то горячее эмоциональное чувство, которое не восстановить и специально не воспроизвести. Лучше всего и правильнее всего, вижу я, напечатать тот текст – в том виде, в котором он и был опубликован в сети, со всей его скороговорчатостью, некоторой даже обрывчатостью и, что уж скрывать, потрясенностью. Вот он:
У меня нет склонности к тому, чтобы публично делиться своими снами. Но сегодня под утро мне приснился умерший вчера Володя Шаров.
В жизни, когда встречались (а встречались мы все больше на каких-нибудь литературных мероприятиях), он все предлагал и настаивал встретиться как-нибудь наедине. Посидеть, попить водочку, поговорить всласть, а я как не большой любитель водочки и разговоров под нее всякий раз отделывался общими обещаниями типа «завтра, завтра, не сегодня…» И вот во сне мы встретились, и почему-то это был поезд, бешено мчавшийся по определенному ему железному пути, но вагоны внутри были соединены не узкими гармошечными переходами, а вполне себе просторными коридорами, так что и не заметишь, где кончается один вагон и начинается другой, да и вообще они представляли собой не узкий проход с тесными кабинетами купе по одну руку, а что-то вроде учрежденческого здания – с кабинетами направо и налево, с лестничными пролетами, с темными закоулками возле тех.
Мы шли с Володей, чтобы найти подходящее, уединенное и уютное местечко – поговорить наконец, как всё собирались. Не знаю, собирались ли мы пить водочку, в руках и карманах у нас не было ничего, что свидетельствовало бы о том, но поговорить нам обоим страстно хотелось, и только все не обнаруживалось того самого местечка, что могло бы нас устроить. Какие-то люди шли навстречу, обгоняли, стояли посередине коридора, загораживая путь, и приходилось протискиваться между ними, в комнатах направо и налево, куда мы заглядывали, то было также полно людей, то, наоборот, царил разгром – сваленные кучей сломанные стулья, столы, вырванные электророзетки… Мы почему-то согласно решили двинуться обратно. Там, показалось нам, было одно хорошее местечко, непонятно, почему мы пренебрегли им, – вот вернуться к нему. И действительно, не успели двинуться назад, как то местечко обнаружилось. Это была неглубокая полутемная выемка в стене около перехода между вагонами, завешенная большой, сложенной вдвое марлей, внутри стояли два кресла – чудеснейшее место для беседы. Мы обрадованно откинули марлю, зашли внутрь, но только собрались расположиться в креслах, как снаружи остановились двое клерков, вдвинулись боками в нашу выемку, оттопырив марлю, и принялись вести свою беседу. Мы попробовали уговорить их отойти, но они были грубы и наглы, наоборот – они потребовали от нас выбраться из нашей выемки и уйти, не мешать им. Я готов был поспорить, Володя же, вздохнув, покорно вышел наружу, и мне не оставалось ничего другого, как последовать за ним. Но, видимо, я замешкался, обходя наглых клерков в их черных элегантных костюмах (от Бриони, подумалось мне), и когда я вышел в коридор, Володи там уже не было. Я бросился за ним и увидел, что он садится в лифт (в вагоне оказался лифт!). Володя, ты куда, закричал я, бросаясь к лифту, Володя, подожди, мы же собирались поговорить! И лифт, словно послушный моему крику, остановился, постоял, пошел вниз. Двери его раскрылись, Володя вышел наружу. Что-то он сказал – чтó точно, я не помню. Кажется, что-то вроде того, что у него больше нет времени. Что он исчерпал свой лимит, ему пора. Вслед за чем я проснулся.
Все это не стоило бы рассказа, тем более что – повторю! – я не любитель внимания к своим сновидениям, я описываю этот сон лишь из‐за смерти Володи. Смерть, подводя итоговую черту под всем, что сделал писатель, мгновенно накладывает на его творчество новые лекала, все в нем становится ясно так, как никогда при жизни, все выстраивается по-другому, по-другому оценивается. «Литературные памятники» – названием престижнейшей академической серии подумалось мне тотчас о романах Шарова, едва я прочел о его смерти. И сейчас, когда прошли уже сутки после известия, я еще больше укрепился в этом ощущении.
Владимир Шаров писал прозу, которая, конечно же, была далека от реалистической, хотя внешняя ее оболочка была именно такой. Проза его, собственно, не была даже и «изящной словесностью». Скорее, определяя вот сейчас навскидку, он писал историко-философские трактаты в беллетристической обертке. Отсюда нередко условность его героев – при всей дотошности их выписывания; пренебрежение сюжетной достаточностью – при тончайшей нюансировке в выражении всех тех мыслей, чувств, взглядов, которыми обременяет писатель и героев, и собственно действие. Он думал о мире, и прежде всего России, в глобальных категориях, категориях если не вечности, то тысячелетий, а беллетристическая оболочка помогала ему формулировать эти мысли-чувства-взгляды. Таким было его писательское устройство. Устройство его личности. Он писал не для прижизненного читателя, вот уж точно. Он писал для читателя, который будет читать его романы-трактаты после его смерти. Когда на них будут наложены другие лекала, когда к ним неизбежным образом придется подходить с другими измерительными устройствами, чем те, с которыми подходят критики (и читатели вслед за ними) при жизни писателя.
Володя Шаров – как видится мне сейчас, на другой день после его смерти – был строителем романов-кораблей, капитаном которых одновременно и являлся. Он строил и в это же время плыл. Его цель была – достичь некой обетованной земли вроде знаменитого русского Беловодья; приплыв туда, он намеревался открыть эти земли для всего российского народонаселения: вот, вот она, эта счастливая благородная земля, все сюда, заселяйтесь, плодитесь и размножайтесь в непрерывном счастье. Он грузил свой корабль все большим и большим количеством идей, фактов, размышлений, корабль уже стонал и кряхтел под их непомерным грузом, пора остановиться – но остановиться Шарову было не по силам: надо прийти в «Беловодье» нагруженным до края бортов, только так. Океан уже вокруг – сколько хватает глаз, земли не видно, а он все строил и строил в мечте об обетованной земле, и вот перегруженный корабль начинал идти ко дну, все быстрее, быстрее… Что означало: следует строить новый роман-корабль, пускаться на нем в путь, глядишь, в этот раз получится!
Что, как не памятник эпохе, мыслям, властвовавшим в эту эпоху, творчество Шарова? Именно отсюда то самое определение – «Литературные памятники». Я так и вижу этот исторический формат и цвет издания, обширные комментарии, фундаментальная вступительная статья, сноски, ссылки… а на обложке – Владимир Шаров, предположим, «Возвращение в Египет». Книга, что увидит свет во времена, когда Россия, не повернув обратно в фараоновы владения и пройдя свою пустыню, выйдет наконец к той самой обетованной земле.
Ну, а поговорить… Надеюсь, Володя будет ждать меня там. Правда, без водочки. Ну да меня это не огорчит.
18 августа 2018 г.
Сейчас, спустя два года как мне приснился тот сон, я, разумеется, легко могу интерпретировать каждую его деталь, определить, что значил поезд, в котором мы находились; почему он в то же время был и не совсем поездом; кто такие эти грубые клерки, что не позволили нам поговорить; а уж смысл возносящегося неизвестно куда лифта – тем более, но вся эта интерпретация – пустое дело. Существенен сам сон. То, что он мне приснился. Сколько за последние годы унеслось на том самом лифте и ровесников, и тех, кто постарше, и кто помладше, составлявших твое литературное окружение, с кем ты жил в тесном общении или не очень, но со всеми шел одной дорогой, делил общую, схожую во многом литературную судьбу. Все они были твоими коллегами, спутниками, товарищами. И ни разу никто мне, во всяком случае тотчас по известии об уходе, не приснился.
Володя приснился. Вот то, что он приснился, – это и есть самое существенное. Словно какая-то подпорка отскочила, сказал Толстой, узнав о смерти Достоевского. С которым они и знакомы не были. Лишь однажды сошлись случайно в одном зале на каком-то литературном действе, но – самолюбив русский литератор! – не подошли друг к другу, а никто их почему-то не свел.
У меня то же чувство: как подпорка отскочила. Тем более что были мы, слава Богу, знакомы. И оба осознавали, насколько мы как писатели разные. Но чувство, с которым мы относились к литературе, к ее месту в нашей жизни, к смыслам, которые вкладывали в нее, – это было настолько общее, сходное, одинаковое, что да, иначе, чем Толстой, и не скажешь: как подпорка отскочила.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?